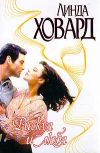Текст книги "Еврейский член"

Автор книги: Катарина Фолкмер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Вы правы, возможно, моя мать была не так уж уродлива, но и потом я не могла справиться с разочарованием, ведь тело настолько не соответствовало тому, что рисовало мое воображение и рекламировали журналы для подростков. Вы видите куда больше обнаженных людей, чем я, доктор Зелигман, и вряд ли станете оспаривать тот факт, что шум, который мы поднимаем вокруг тела, никак не оправдан. Нас держит одна иллюзия: мы видели античные статуи и верим, что когда-нибудь опять родятся смертные, подобные им, что это и есть изображения реальных людей, таких, как вы и я. Я вовсе не хочу сказать, что вы не привлекательны, доктор Зелигман, конечно же, вы симпатичный мужчина, даже несмотря на залысины и так далее, но ведь никто не захочет любоваться вами или мной в мраморе, в нас нет ничего, что могло бы вдохновить композиторов или поэтов, что лишило бы кого-то, тоскующего по нам, сна. Этим-то мы и отличаемся от животных – они, за редким исключением, всегда выглядят как подобает, как безукоризненные представители собственного вида, достойные и в соответствующей форме. Потому-то и нет идеализированных образов тигров и панд и только извращенный ум может вообразить идеальную лошадь 一 знаете, есть такие странные люди, которые мастурбируют рядом с лошадьми, потому что в большинстве стран ничего более интимного с лошадью делать не разрешается. Но вот посмотришь в окно, а там столько людей выглядят так, словно собрались пробоваться на роль Квазимодо, и решишь, что они правы. А вдруг они увидели свет и поняли, сколько приходится себе лгать, чтобы находить людей привлекательными, так что, может, проще пойти трахнуть лошадь? К тому же лошади, доктор Зелигман, не разговаривают, поэтому их, должно быть, легче любить.
По-моему, есть один период, когда люди по-настоящему прекрасны. Быть может, это признак того, что я постепенно превращаюсь в грязную старушонку, но есть такой момент в юности, когда тела еще крепки и свежи, немножко как лошадиные, когда начинают взрослеть, но без всего сопутствующего уродства. Прежде чем начинают думать, что надо бы построить дом или причесываться почаще, прежде чем входят в тот возраст, когда их упоминают в завещании, – вот тогда-то о них еще можно писать стихи. Мне уже за тридцать, я стара, все, что произошло, произошло не вчера, а сколько-то лет назад. Мое тело на все отвечает геморроем и вонючими субстанциями, сочащимися изо всех отверстий, я никогда не пойму, почему мой пупок иногда мокнет, доктор Зелигман, но я еще помню тот возраст. Те времена, когда все мерзкие дядюшки на семейных сборищах наперебой пытаются тебя соблазнить, когда ты еще уверена, что в твоей жизни случится что-то интересное, когда ты еще не поняла, что все твои родственники – занудные гниды и в целом довольно плохо к тебе относятся. Когда ты еще не поняла, что твои кузины – твои худшие соперницы, а жизнь – бесконечное повторение все тех же ошибок, того же отчаяния, того же дурного вкуса. Я прекратила отношения с большинством своих родственников много лет назад, и даже если это означает, что я умру в одиночестве в Провонявшем мочой приюте, где санитары будут засовывать мне в рот кляп из своих грязных трусов, это означает еще и то, что мне удалось избавить себя от самых отвратительных в мире бесед – бесед между родственниками, в особенности между тетушками. Это все равно что засунуть в голову пылесос и включить его на выдувание, только пощады не будет никакой: нет, голова не взорвется, что было бы избавлением. Вместо этого придется до конца жизни слушать белый шум. Потому что кровь не вода и все мы когда-то вылезли друг у друга из утроб. Меня немного утешает, доктор Зелигман, что я смогла от всего этого избавиться, да они все равно не поняли бы, что со мной сейчас творится. Большинство тетушек не понимает даже, если ты просто не хочешь иметь детей, как же им понять такое? Да и попытайся я с ними поговорить, они бы только спросили, что случилось с собственностью моего прадеда после смерти деда. А я не знаю ответа на этот вопрос, откуда же знать, что происходит в головах у стариков? Они как дети, но при деньгах и с еще меньшим количеством нравственных ориентиров, они стремятся к исполнению своих последних желаний, а в этом квесте запретов нет. Они пугают меня, доктор Зелигман, и иногда мне в кошмарных снах снятся руки деда – они пытаются удержать то, что у них уже нет сил удерживать.
Вы точно не хотите ответить на звонок, доктор Зелигман? Я совершенно не против. Мне нравится слушать ваш голос, у вас в отличие от меня такой чудесный английский выговор, такой интеллигентный, без снобизма. Может, там что-то срочное или ваша жена. На столе фото вашей жены, доктор Зелигман, или вашей мамы? Про некоторых мужчин непонятно, кому принадлежит их сердце, но мне представляется, что вы из тех счастливо женатых мужчин с глажеными пижамами, которые даже представить себя несчастными не могут. К тому же вы из сурово преследуемого меньшинства, поэтому, я уверена, у вас много детей, они – ваш способ протеста, я это понимаю: должно быть, вы очень гордились собой, когда ваша жена забеременела, ведь столько людей прикладывали усилия, чтобы подобного не случилось. Так что в некотором смысле вы на меня похожи: во время оргазма тоже думаете о Гитлере, я шучу, вы наверняка думали о цветах или о том, какая у вас красивая жена, а еще я уверена, что все было очень благопристойно. Но не кажется ли вам, что держать на рабочем столе чей-то портрет – это как-то по-собственнически? Разве обожать кого-то, особенно женщину, не то же самое, что похоронить ее заживо в вашей версии происходящего? Я всегда чувствовала, мужчины не способны любить женщин за то, какие они есть на самом деле, поэтому превращают их в кексы, точнее в пирожные – знаете, такие жуткого вида штуки, которые немцы называют Torte. Нечто мило украшенное, что продержаться несколько дней поможет, семью накормить, но купишь его, только если оно идеально. И в какой-то момент они стали называть эту тиранию любовью. Нет, я понимаю, никто не любит уродов, но мне кажется натяжкой считать это позитивным чувством в противоположность тому, над чем мы все должны работать, как, например, над осознанностью и отказом от пластиковых трубочек для коктейля. Вы только посмотрите на женщин на их свадебных фото, а потом представьте себе ужасное немецкое пирожное в толстенных слоях сливочного крема, изначально придуманное для того, чтобы помогать пенсионерам умирать побыстрее, и всех этих мужчин в костюмах, улыбающихся очередной женщине, которая попалась на удочку и позволила превратить себя в хорошенькую штучку, боящуюся даже шевельнуться, не то вдруг какое украшение отвалится или кто заметит, что она не от рождения такая. Что под этим лицом есть еще одно лицо и сердце бьется под слоями белой ткани, напоминающей о вроде бы давно позабытой тирании невинности и о поколениях женщин, которые отказывались от свободы ради одного дня в жизни, когда можно искренне верить, что все присутствующие мечтают трахнуть только тебя и всё это о тебе, а не о порабощении твоего духа. Доктор Зелигман, ведь любить кого-то так – это примерно как развлекаться с одной из секс-машин господина Шимады или с мертвым телом, то есть с кем-то беззащитным и неспособным опровергнуть то, что о нем говорится. Еще меня очень удручает, что не принято плохо говорить о мертвых: по-моему, так мы стали бы ближе к самим себе и к своей истории, нам не приходилось бы поддерживать миф о том, какими красавицами были наши бабушки, а усы отрастили только к старости, могли бы и признать, что их поросль на верхней губе никогда не уступала кошачьей. Мне очень жаль, что нас принуждали гордиться вещами, лишенными потенциала. Но я уверена, что вы, доктор Зелигман, никогда не пытались удушить свою жену лавиной сливочного крема. Быть может, вы вообще человек романтического склада, не смотрите порно и никогда не предаетесь мечтам о пороках, которые вполне могли бы себе позволить при вашем-то доходе.
Любовь у меня ассоциируется с кровью, доктор Зелигман. А вам не кажется, что они схожи? Кровь прекрасна и полна символов до тех пор, пока она на своем месте, но размазанная по чьему-то лицу или засохшая на полотенце она вызывает отвращение, потому что наш мозг тут же заполняет пробелы – предполагает насилие и потерю контроля. Кровь, как и любовь, должна быть историей, которую мы можем рассказать. Если она вырывается за пределы фоторамок и вен, в которые мы ее загнали, начинается истерика, предпринимаются грубые попытки затолкать ее на место, контролировать заразу, потому что, как и любовь, кровь дает жизнь, но еще в ней собирается все, что может нас убить, все, чего мы боимся, все болезни, которые Дракула вводил своим крысам. Существует ведь гигиена любви, правда? Я же не могу размазывать свою кровь повсюду, сколько было изобретено приспособлений, чтобы женщины на людях не марали все своей грязной кровью, вот так и с любовью – я не могу везде расхаживать и любить там, где мне вздумается. Кровь, которую мы видим на тротуаре, может быть чьей угодно, не сразу поймешь, это кровь человека или животного, и мы даже не знаем, как она туда попала, по вине ли злодея или кто-то сам с собой что-то сделал, потому что не мог больше это выносить. Не поймите меня неправильно – я не требую себе право отвязываться как пожелаю на детской площадке, но у нас имеется столь четкое представление о любовных отношениях, что, если ты попытаешься найти другой способ увлечь свое сердце, тебе скажут, что ты пила их кровь, когда они этого никак не ожидали, и вообще у тебя в подвале заразные крысы. Но они сами виноваты, доктор Зелигман: не пытались бы втиснуть мое тело в одну из своих рамок, не заставляли бы меня улыбаться, когда вокруг меня все неправда, я бы и не пыталась стать как они и нам с К. не понадобились бы все прочие цвета, чтобы изображать другую вселенную на наших телах.
К. мог плакать как ребенок. Он рыдал и тер глаза, и нижняя губа у него выпячивалась в возмущении от несправедливой к нему судьбы. Не знаю, учил ли он этому своих детей или сам от них научился, но однажды он мне признался, что в такие моменты действительно чувствует себя ребенком и тело его будто снова становится маленьким, неспособным увернуться от насилия окружающих, преодолеть слабость в руках и ногах, противостоять силе, которая неизменно мощнее его собственной. Тошнота, подступающая, когда тебя бьют по носу и кажется, что слышишь запах собственной крови. Так что он нашел путь из собственного тела, и пусть это было болезненно, но он понимал, насколько лжива наша плоть – никогда не следует верить историям, записанным на нашей коже. Наверное, поэтому мы и должны были найти друг друга. В первый раз, когда он заплакал, доктор Зелигман, я просто смотрела на него, как смотришь на дикого зверя, который вдруг показался тебе и не убежал, и, как при встрече со зверем, я не шевелилась, не предложила никаких банальных утешений, а просто наблюдала, как он возвращается в свое обычное состояние. Плача горючими слезами, какими редко плачут взрослые люди, слезами, все еще верящими, что можно найти и приключения, и пристанище. Это слезы тех, кто верит, что в сказках все правда, кто крепко спит, зная, что тьма за окном ненастоящая, что она существует лишь в воображении родителей. А потом у него глаза стали ясные-ясные. Не знаю, как это лучше описать, доктор Зелигман, но они никогда не краснели, всегда сияли. Как будто мир был только что сотворен, он только что его увидел и цвета для него все внове. Как будто мы можем каждую ночь засыпать, зная, что во сне будем летать.
Но не хочу надоедать вам рассказом о своем разбитом сердце и всей историей о к., доктор Зелигман. Это выглядит так банально – влюбиться в художника, а вы по роду своих занятий выслушиваете множество странных историй про тела, которым нужно измениться, и, кто его знает, может, не одобряете, что я была с женатым мужчиной. К тому же Джейсон советовал мне меньше сосредотачиваться на себе – интерес к другим, вероятно, поможет разобраться с некоторыми из моих проблем. Но это мне не по силам: большинство людей такие скучные, правда ведь? Жалко, мне отсюда не видно, что в других рамках на вашем столе – их семь, да? Наверняка там фотографии ваших детей, а может, и внуков. Мне представляется, что женились вы молодым, дети брали с вас пример и всегда гладили свою одежду, ваша семья регулярно собирается вместе и все вы любите друг друга и живете счастливо. И даже если изредка случается какая-то трагедия, это вписывается в общий сюжет. Доктор Зелигман, а вы бы простили меня, будь я вашей дочерью? Вашей немецкой дочкой-уродиной, вывалившейся из драгоценной утробы вашей жены, как гнилое яблоко? Когда я делаю что-то плохое, я вспоминаю отца, и мне становится совсем грустно, потому что я знаю, он бы мне ничего этого не простил. Не скажу, что я никогда не задумывалась о беременности – для женщины моего возраста это совершенно нормально, и стоит мне включить компьютер, на меня сыплются рекламы тестов на беременность и пеленок, образы всего того счастья, которое проходит мимо меня. Так что я купила значок “Ребенок на борту” и ездила с ним в метро – их продавали на рынке около работы, и я подумала: а почему нет? Мы врем о стольких вещах, так почему бы не солгать о том, что происходит у меня в матке? И едва я купила значок, меня тут же одарили улыбкой, ну, понимаете? Той улыбкой, которую получаешь, только когда кто-то думает, что твоя жизнь сложилась и полна смысла, когда все видят, что ты занималась сексом с целью и твое тело больше не принадлежит тебе одной. Мне эта улыбка полюбилась, и некоторое время я упивалась и значком, и тем, какую власть он мне неожиданно дал. Я могла просить людей что-нибудь мне принести только потому, что я, как бы мы сказали по-немецки, ношу под сердцем новую жизнь. Unterm Herzen. He буду притворяться, что я понимала суть этого внезапного великодушия, доктор Зелигман, ведь мы все знали: нет никаких оснований считать, что новая жизнь под моим сердцем окажется хоть чуточку менее банальной, чем у всех остальных, и все же это – священный момент, такой же голубой и прекрасный, как платье Девы Марии, момент, когда ты наконец становишься тем, кто ты есть, и я упивалась своей святостью. Я даже сделала себя достойной неприкосновенности: стала поворачивать одно из своих колец камнем внутрь, чтоб оно выглядело как обручальное, достаточно простенькое, подразумевающее, что дома меня ждет муж в костюме. Это было все равно что обрести религию – я будто бы наконец получила право презирать остальных.
Впрочем, этот значок в чем-то и ограничивал, и я перестала его носить, когда поняла, что он дает право любому мудаку задалбывать меня нравоучениями и топить в море заботы о еще не рожденном дитятке, то есть вести себя так, как люди редко позволяют себе с уже вышедшими из утробы. Даже я знаю, что матерей никто не любит.
И забота о еще не рожденном – ложь, доктор Зелигман. Вы знаете, например, что за все эти годы никто и не подумал сделать ремень безопасности для беременных женщин и бессчетное множество нерожденных младенцев были удушены этими неподатливыми черными штуковинами? Я до сих пор помню, как они врезались мне в шею, когда я в детстве сидела неправильно, а мама велела выпрямить спину. Это тот род невзрачных вещиц, которые могут тебя убить в одно мгновение, и они наводят на меня ужас – так же, как удочки и колготки. Они ни за что не порвутся, когда будут тебя душить, и если в игре с колготками есть что-то эротичное, совершенно неприемлемо умирать из-за прочих дурацких предметов, давать одной из банальностей жизни тебя удушить. Машину я себе позволить не могу, так что со мной ничего такого не случится, но меня до сих пор расстраивает, что все, даже время, разработано под так называемое мужское тело, тело с членом, и половина населения рискует погибнуть из-за предметов каждодневного использования, и я уверена, что это применимо ко всему, от зубных щеток до лифтов, грелок, пианино и стульчаков. Да, можно предположить, что мужчинам нужна эта дополнительная помощь, ведь с ними даже сексом нельзя заняться, если у них нет эрекции, но мне все-таки интересно, хотя меня это больше не касается: вас это не удручает? Или вы о таком даже не думаете? Я много раз пыталась понять глухую пустоту на другом конце крика: почему мужчины вроде вас так долго с радостью держали своих лучших половинок в клетках? В клетках, рассчитанных, разумеется, на ваши пропорции, и всегда это были тигры в клетках львов, а люди говорили, что между ними нет никакой разницы. Однако все считали, что совершенно неприемлемо помещать льва с его самоощущением в клетку тигра. Клетка тигра подразумевает нечто смешное, это все равно как сказать, что я буду ошеломительно выглядеть в вашем костюме, доктор Зелигман, но если вы наденете какое-нибудь мое старое платье, все решат, что вы спятили. Это будет конец вашей маскулинности, вашей жизни как мужчины – вы станете львом без гривы, слабым и униженным, и я до конца не разобралась, вызывает это во мне гнев или жалость.
Я вам говорила,доктор Зелигман,что мне нравится, какие у вас маленькие руки? Знаю, многие женщины не согласятся, но мне кажется, они очень мягкие и прекрасно подходят к вашей профессии. Они напоминают котят, теплых с самого начала, жена, наверное, счастлива, и я не понимаю, почему всё относящееся к мужчинам всегда такое огромное, почему столько женщин хотят чувствовать себя маленькими. Полагаю, в том числе и по этой причине, когда мои годы чудесные прошли и мерзкие дядюшки от меня отстали, мужчины мной мало интересовались: некоторые части моего тела никогда не выглядели женственно, вы только посмотрите на мои руки, они точно больше ваших, не говоря уж о ногах – я с подросткового возраста ношу обувь мужских размеров. Вам не кажется глупым смотреть на все так, ведь ясно же, что это неправда? Много лет я чувствовала себя великаншей из-за одной только обуви, не говоря уж о прочей продукции, разработанной либо для мужчин, либо для женщин, о цветах и запахах, ассоциирующихся с людьми при членах и без оных. Я никогда не понимала, почему мы изначально так должны смотреть на людей, почему нужна система, вплоть до общественных туалетов, разделяющая два лагеря. Лично я давно, еще когда не одевалась по-мужски, начала пользоваться мужскими туалетами – и потому, что там нет очередей, и чтобы понять, каково это. Во многих смыслах общественные туалеты научили меня всякому разному про меня больше, чем прочие места. Если рассматривать их как важную составляющую повседневной жизни, доктор Зелигман, можно сказать, что именно там я впервые почувствовала себя изгоем. Ведь там я никогда не делилась секретами с лучшей подругой, никогда не поправляла макияж, никогда не писала имя любимого на замызганной стене. Именно там я впервые почувствовала: места, созданные исключительно для женщин, не мои и я никогда не смогу поделиться пережитыми моментами восторга, близости, горя – всем объединяющим их, когда они стоят перед замызганным зеркалом. Мне претило одно то, что я должна использовать эти места потому, что мое тело имеет такую форму, и как только я научилась думать самостоятельно, я стала ходить в мужские туалеты. А самое важное, доктор Зелигман, так я повстречала К.
Ходите знать, как я повстречала кого-то в общественном туалете? Я обычно не спешу делиться этой информацией, но раз уж вы спросили, доктор Зелигман, отвечу: большинство мужчин, если ты внаглую рассматриваешь их члены, когда с открытыми глазами входишь в их святая святых, воспринимают это как угрозу, но К. не таков, я с самого начала поняла: он готов принять вызов, и все, что случилось после, было предопределено уже в тот миг. Пожалуйста, не думайте, что я ходила в мужские туалеты в поисках случайного секса, доктор Зелигман, с К. было другое, мы просто встретились там, ничего больше, и ничего меньше, я стояла позади него, наши взгляды встретились в зеркале, и я тотчас позабыла, что в этом убогом сортире в дальнем закутке паба есть кто-то кроме нас. Как позабыла и о том, что зашла туда пописать: все вдруг исчезло – и мое тело, и мои обязательства по отношению к нему, – я видела только член К. И он понял, а потом – это меня до сих пор трогает, доктор Зелигман, – он дождался, когда все остальные мужчины уйдут, и помылся в маленькой раковине с разными кранами для горячей и холодной воды. Тогда-то я почувствовала, что могу ему доверять, что совершенно безопасно уединиться с ним в одной из крохотных кабинок. То ли я все-таки искала в общественных туалетах именно это, то ли К. просто был первым, кто понял, что я хочу только отсосать у незнакомого человека и забыть об этом. Был первым, кто прочитал это в моем взгляде. Полагаю, теперь это не имеет значения, но впервые в жизни я была готова предложить доверие, и я больше от него ничего не хотела, не хотела, чтобы и он меня удовлетворил. Просто хотела быть там, прижатой к стене, и чтобы он крепко держал меня за голову и трахал в рот. Мне было довольно его рук в моих волосах и моего языка, облизывающего снизу его член, когда он скользил туда-обратно, и когда после он предложил поласкать меня рукой, я, почти смутившись, отказалась. И все же я никогда прежде не испытывала такого удовлетворения. Наверное, вы, доктор Зелигман, знаете об этом больше меня, но не кажется ли вам, что наше стремление к оргазму обманчиво?
Пока мы этим занимались, я думала об отце. Это все равно что смотреть, как родители занимаются сексом, только наоборот: воображаешь, что они видят, как ты делаешь жесткий минет незнакомцу в грязном общественном туалете, я делала так не потому, что это меня заводит, доктор Зелигман; мне нравится, когда другие смотрят, но не так, и я еще не достигла точки, когда находишь удовлетворение в том, что подводишь отца. Этой точки я много лет назад достигла с мамой, но с мамой это сильно дела не меняет. Все равно никогда не освободишься от ее любви, от почти животной привязанности, которая тянет сопровождать своих детей в самые мрачные пещеры, от той любви, которая оправдывает и Марка Дютру или Гарольда Шипмана[2]2
Марк Дютру (род. 1956) – бельгийский педофил и серийный убийца. Гарольд Шипман (1946–2004) – британский серийный убийца, врач.
[Закрыть]. Это как смазка, в которой мама выпускала меня в мир, и мысль о том, что я когда-то была частью ее плоти, до сих пор приводит меня в ужас. Ее любовь всегда была чрезмерной, слишком смущающей, слишком бестактной. Отцовскую любовь с этим не сравнить, в ней есть момент выбора – ее можно завоевать и, естественно, можно потерять. Отцовская любовь, если ее получается завоевать, – это наше первое достижение: вы замечали, как кокетливы младенцы? Они, похоже, понимают, что за одну только материнскую любовь их никто уважать не будет, окружающих куда больше трогает, когда нам удается победить не столь доступное сердце. Посмотрите, сколько разоблачительных статей здесь, в Британии, написано о матерях-одиночках; без отцовской любви шансы добиться в жизни успеха довольно призрачны. Мы зависим от нее. Понятия не имею, как это выглядит с точки зрения родителей, да, возможно, никогда и не узнаю, но вы, доктор Зелигман, вы ведь искренне интересуетесь жизнью своих детей, которые в этих семи рамках? Вы гордитесь тем, что не бросили их, когда они были маленькие? Потому что мы все знаем, вы могли так поступить, и в этом ничего необычного. Только женщины не могут расстаться с пуповиной. Вы замечали, что женщин, бросающих детей, чтобы реализовывать свои мечты касательно денег, мужчин помоложе и удовлетворенной вагины, обычно считают чудовищами? В нашем воображении их всех соблазнил дьявол, и они превратились в сосуды беспутства, наполненные содомией и похотью. Порой я думаю, что некоторые женщины, поняв, каково это, когда тебя воспринимают как мать, находят способ удушить своих нерожденных детей в утробе при помощи все той же пуповины, которая иначе накрепко привязала бы их к жизни, полной самоуничтожения и подобранных свекровью рецептов чатни. Однако сострадания я никогда не испытывала. Я никогда не жалела свою мать, скорее злилась на нее за то, что она решила засунуть меня в этот мир, вместо того чтобы по-тихому со мной расправиться, пока никто не заметил. За то, что она не выбрала свободу.
Доктор Зелигман, а вы когда-нибудь разговаривали со своим отцом совершенно открыто? Я своему никогда ничего не говорила, считала, что молчание лучше явного разочарования и не стоит рассказывать ему историю, которую он никогда не сможет понять. Мы и так-то много не разговаривали, отец был эпилептиком и по большей части находился под седативными препаратами, думаю, он и со своим отцом много не разговаривал. Дома он этому точно не научился – они все были молчунами, как мой прадед. Так что я всегда боялась, что, если что-нибудь ему расскажу, это спровоцирует очередной жуткий припадок. Что он умрет, захлебнувшись собственной блевотиной, только потому, что я не понимаю, как быть девочкой. Однако началось все с того, что утром по воскресеньям он лежал в кровати, пытаясь отойти от своей жизни в роли агента по продажам стиральных машин. Это не шутка – в те времена такая должность действительно существовала, он даже раз в год ездил на конференции по стиральным машинам, которые проходили в Нюрнберге. Мрачную иронию я оценила много позже, доктор Зелигман, но действительно, какой еще город находился в столь отчаянном положении, чтобы устраивать у себя подобные мероприятия? Где еще могут сниться грязные сны о чистом белье, о бесконечных веревках, на которых трепещут в солнечном свете свежепостиранные рубашки, – у нас даже была телереклама с такой идиотской картинкой. Что угодно, лишь бы помочь людям забыть о другом ежегодном мероприятии, которое проводилось здесь, и о знаменитых законах, названных по этому городу, о законах, разделявших всех на людей и недолюдей, решавших при помощи абсолютно дилетантских диаграмм, кто заслуживает жить, а кто нет, кто сношался правильно, а кто неправильно, и самое лучшее, что они могли придумать, кроме ежегодной конференции об усовершенствовании стиральных машин, это устроить кошмарный рождественский рынок – жалкую декорацию, прикрывающую их неумение горевать. Они так притворяются, будто ничего другого там никогда не происходило, будто со времен средневековья они разве что торговали деревянной херней по несуразно высокой цене, а печи использовали исключительно для приготовления Lebkuchen – ну знаете, этих знаменитых немецких имбирных пряников. Как это типично – не уметь признать, что они потеряли не только свою архитектуру, и это меня безумно злит, доктор Зелигман, а от того, что свои рождественские рынки они теперь устраивают и в Лондоне, меня вообще наизнанку выворачивает. Ну почему они не могут просто оставить людей в покое?
Так вот, мама часто посылала меня будить отца, когда он валялся воскресным утром в кровати, и я знала, что под одеялом, которое я с него стащу, он будет голый. Люди обычно считают немецкий подход к наготе очень авангардным, считают это признаком нашего освобождения, но теперь, когда я думаю о наготе отца, она мне не кажется символом свободы, доктор Зелигман, я скорее воспринимаю ее как способ показать, что тебе нечего прятать. Что тело у тебя здоровое, ты не отрастил ни третьего соска, ни отвислой стопы, что не трахнул случайно еврейку и не попортил всю расу. Что ты боишься таинственного, в этой наготе не было ничего особенно вдохновляющего, однако, когда я глядела в тишине родительской спальни на его пенис, мне в голову пришла странная мысль. Я не то чтобы много видела – в основном волосы на лобке и тестикулы, отличный пример скромности, но вдруг я подумала, а нельзя ли купить такой в магазине. Может, где-то между куклами Барби и ведерочками с пластилином есть полка, где я найду себе член, – я полагала, это настолько просто. Я не думала, что это подразумевает нечто большее, мне просто захотелось избавиться от моих Schamlippen[3]3
Срамных губ (нем.).
[Закрыть]. Вам, наверное, известно, доктор Зелигман, что по-немецки половые губы называются срамными, я до сих пор, когда произношу это слово, испытываю стыд, и я никогда не набралась бы храбрости посмотреть на них в магазине. А член всякий раз искала на полках в местном магазине игрушек – разумеется, безрезультатно. Гениталии не позволялись даже плюшевым мишкам и роботам, а о смешном бугорке между ног Кена и сказать-то особо нечего, вряд ли даже продавцу разрешалось приносить свой член на работу, так что мне там искать было нечего. Потом я позабыла об этой мысли и не бунтовала, когда меня наряжали в платья и заставляли отращивать жуткие кудряшки, и только однажды мне удалось постричь ресницы. Мне и в голову не приходило, что это были первые попытки выразить свои настоящие чувства, что это была не просто детская странность. Говорят, сейчас все по-другому, доктор Зелигман, и даже маленьким детям предлагают поискать в магазине гениталии на их выбор, но тогда девочка была счастливой куколкой, растущей вокруг вагины, которая, все надеялись, станет здоровой и упругой. Все остальное значения не имело.
Я бы и про К. не знала, что сказать. Мне обычно трудно описывать людей, и мы мало разговаривали о тех вещах, что нас определяют, – о работе там или о фасоне прически, к тому же меня все-таки уволили за то, что я угрожала коллеге степлером, а К. был художником, чьи счета оплачивала жена. Нам правда было не очень много чего друг другу сказать, и я так и не призналась ему, почему меня уволили, я даже так и не выяснила, откуда К. родом. Он говорил с иностранным акцентом, но с таким, по какому не понять, с каким именно, и в отличие от меня не испытывал потребности обсуждать свою Heimat.[4]4
Родину (нем.).
[Закрыть] Даже наоборот, и я довольно быстро поняла, что он не хочет говорить о своем происхождении, о своих корнях – как хотите, так и называйте, и вообще, это теперь такой бессмысленный вопрос: откуда вы родом? По-моему, люди должны иметь право сами для себя это определять, и в разное время они могут чувствовать себя по-разному, могут просыпаться каждое утро и решать, что они совсем из другого места. Но с К. было иначе. По-видимому, он просто выкинул эту тему из головы, и когда мы были вместе, доктор Зелигман, мне казалось, будто со стен сняли все карты и мы можем больше не быть тем, чем должны быть, чтобы оставаться нормально функционирующими человеческими особями. Вдруг не стало ни континентов, ни фамилий, ни родителей, ни работы, ни детей, ни, насколько это возможно, тел. Мы, не сговариваясь, решили ничего не называть своими именами, не говорить о членах и вагинах и не заниматься любовью так, как нас обоих учили. Заниматься любовью – какое же глупое выражение, ну как можно заниматься эмоциональным состоянием? И почему никогда не говорят “заниматься ненавистью” или “заниматься отчаянием”? И все-таки иногда, особенно после того, как К. разрешал мне поиграть с красками в его студии и порисовать на его теле, когда он смотрел, как я наношу красные и розовые мазки ему на кожу, он выглядел таким расслабленным, доктор Зелигман, словно в него вернулось нечто, что он давным-давно потерял. А я всегда ждала момента, когда он наберет слишком много пурпурного и размажет его мне по лицу, очень медленно, и всегда только этот цвет. А потом он начинал хохотать, потому что умел не только плакать как дитя, но и смеяться так же. Было что-то такое неотразимое в том, как свободно он смотрел в мир. Он словно напрочь забывал, когда его в последний раз что-то задевало по-настоящему, был готов закрасить все, что стоит у него на пути, покрыть своим особенным оттенком пурпурного. Как будто и я могла исчезнуть под потоками акрила.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?