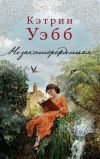Читать книгу "Потаенные места"

Автор книги: Кэтрин Уэбб
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Кэтрин Уэбб
Потаенные места
Katherine Webb
THE HIDING PLACES
Copyright © 2017 by Katherine Webb
First published in 2017 by Orion, a division of The Orion Publishing Group Ltd., London
All rights reserved
Перевод с английского Михаила Тарасова

© М. В. Тарасов, перевод, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019 Издательство АЗБУКА®
Предисловие
В день убийства небо над Слотерфордом было низким. Тучи почти касались верхушек деревьев, и шел проливной дождь. Щедрый, обильный летний ливень, первый за несколько недель. Жители деревни утверждали, что проснуться в такую погоду не к добру. Это были суеверные люди; повсюду они видели знамения и предвестия, от которых стоило ждать самого худшего. Сид Хэнкок клялся, что речка Байбрук, протекающая у фермы Медовый Ручей, покраснела. Слушавшие сокрушенно кивали головами, хотя убийство произошло не так близко от берега, чтобы кровь могла окрасить воду. Вулли Том, который держал стадо овец на небольшом земельном участке, расположенном на вершине холма, говорил, будто знал, что кого-то настигнет смерть, с тех самых пор, как весной одна из его овцематок родила двухголового ягненка. С того времени он везде носил с собой высушенную кроличью лапку – на случай, если тень смерти упадет на него. В Слотерфорде гибель людей не была диковинкой. Но такого здесь еще не видывали.
Особенно тревожила полнейшая безвинность жертвы. Никому в голову не приходило ни одной дурной мысли о погибшей, и никто не мог вспомнить ни одной жестокой или постыдной вещи, которую бы она совершила. Больше всего поражала несправедливость содеянного. Тяжелой болезнью можно захворать запросто, бывают и несчастные случаи со смертельным исходом. Всего год назад шестилетняя Энн Гиббс упала в колодец, расположенный в самом начале дороги к Форду, когда перелезала через каменное ограждение, призванное предотвращать именно такие несчастья. Она утонула из-за неосторожных слов брата, напугавшего ее рассказом о том, что в колодце живут феи. Апоплексические удары, простуды и сердечные приступы собирали свою ежегодную жатву, унося близких людей, но, если ваше время вышло, с этим едва ли можно поспорить. Разного рода трагедии встречаются на каждом шагу, но чтобы кто-то из местных жителей пал жертвой такой жестокости, да еще без всякой причины… Это казалось противоестественным и было неподвластно их пониманию. И все они задавались вопросом, не является ли этот чудовищный акт насилия лишь началом – первым в череде многих.
1. Три девушки
Утром Пудинг задержалась у маленького окна наверху лестницы и увидела мать на лужайке перед домом. Луиза Картрайт стояла у каменной ограды за домом, глядела на мокрые кочки огороженного выгула для скотины, который тянулся вниз по склону долины, и вертела в руках что-то, чего Пудинг не могла разглядеть. Час был ранний, и солнце еще не поднялось высоко над горизонтом. Небо было бледным, но чистым и ясным. Все говорило о том, что предстоит еще один жаркий день. Сердце у Пудинг слегка сжалось, что в последнее время случалось все чаще. Она немного подождала, но когда мать не повернулась к ней и не двинулась с места, Пудинг продолжила спускаться по лестнице, теперь уже медленнее. Тихое похрапывание доносилось из полумрака, царящего в комнате родителей, где все еще спал отец. В прежние дни он был первым, кто поднимался по утрам, успевая растопить плиту и поставить чайник, а также побриться и застегнуть жилет на все пуговицы, прежде чем Пудинг и Дональд, спотыкаясь, входили на кухню, протирая сонные глаза. Теперь девушке приходилось будить его, каждый раз чувствуя себя виноватой. Его сон походил на оцепенение.
На кухне в коттедже Родник царил беспорядок, чего раньше не бывало, – миски на полках больше не укладывались одна в другую в точном соответствии с размером, декоративная гирлянда из хмеля запылилась. Крошки в трещинах пола и застывшие брызги жира распространяли запах несвежей еды. Дональд ждал за кухонным столом. Он не читал, не чинил что-либо, не составлял список дел на день. Просто сидел и ждал. Он готов был сидеть так весь день, если никто не заставлял его встать и заняться делами. Пудинг, проходя позади брата, тихонько сжала его плечо, и тот, будто выплывая из непостижимых глубин своего «я», улыбнулся ей. Она любила его улыбку – эта улыбка была одной из связанных с ним вещей, которые совершенно не изменились. В ее голове словно выстроились две колонки: в одной был список того, что касалось Дональда и осталось прежним, а в другой – того, что изменилось навсегда. Именно с тем, что было в графе навсегда, она и вела борьбу. Она все время ожидала, что он встряхнется, встанет из-за стола со своей прежней резкостью, быстро и энергично, и скажет что-то вроде: «Ты не хочешь тостов со своим любимым вареньем, Пудинг?» Они провели первые два года после того, как он возвратился домой, в ожидании, что он станет прежним. Кое-что вернулось, причем в первый год: любовь к музыке, преклонение перед Аойфой Мур, увлечение техникой, хороший аппетит. Правда, ему иногда было трудно глотать, и тогда он кашлял. Но за последний год никаких изменений к лучшему не произошло. Его темные волосы остались такими же – мягкими, блестящими, непослушными. Очень красивыми. А еще сохранился ироничный изгиб рта, хотя ирония как раз перешла в список тех черт, которые он утратил.
– Доброе утро, Донни, – поздоровалась Пудинг. – Я только взгляну, чем занимается мама, и мы позавтракаем, ладно?
Она похлопала его по плечу и уже успела подойти к задней двери, когда он выдавил из себя ответ:
– Доброе утро, Пудди.
Он проговорил это совершенно обычным тоном, походившим на прежний голос ее старшего брата, отчего девушке пришлось сделать глубокий вдох, чтобы остаться спокойной.
Она закрыла за собой дверь, а затем подняла глаза на Луизу – с тем упорным оптимизмом, который никак не могла в себе побороть. Она надеялась, что ее мать перейдет на другое место. А может быть, та лишь собирала петрушку для яичницы или возвращалась из летней уборной и остановилась посмотреть на резвящихся в поле зайцев.
Но мать осталась стоять на месте, а потому Пудинг отвлеклась, обратив внимание на другое. Ее бриджи опять стали ей малы, пояс съехал вниз, и подтяжки начали впиваться в плечи, один из носков сполз по ноге и сбился в конец туфли, а блузка натягивалась под мышками, потому что грудь, похоже, с каждым днем становилась все больше, как бы ей ни хотелось обратного. Казалось, одежда находится с ней в состоянии войны, постоянно подчеркивая против воли хозяйки ее рост вверх и вширь. Воздух был прохладен, чист, как стекло, и наполнен запахами луга. Шаги Луизы по росистой траве оставили темно-зеленые следы на фоне серебряных капель. Пудинг шла, наступая точно на них, что укорачивало ее шаг.
– Мама? – позвала она.
Девушка хотела сказать что-то веселое и непринужденное, чтобы как-то сгладить странность ситуации. Но Луиза резко и испуганно повернула голову; на ее лице застыло выражение, которое говорило о том, что она не узнает подошедшую. Этого бессмысленного взгляда с примесью тревоги Пудинг в последнее время начала бояться больше всего. У нее сдавило в груди. Потом Луиза улыбнулась, и ее улыбка казалась почти прежней, лишь слегка рассеянной, слегка пустой.
– Пудинг! Вот ты где, дорогая. Я искала тебя, – сказала она.
В глазах Луизы читалась борьба, показывающая, что та пытается овладеть ситуацией и понять, что происходит. В руках Луизы ничего не было, Пудинг теперь видела это ясно. Просто руки матери были заняты нижней пуговицей ее желтой кофты. Она всегда начинала застегивать ее снизу, но в то утро остановилась в самом начале.
– Правда, мама? – спросила Пудинг, еще больше напрягая сжатое горло, чтобы сглотнуть.
– Да. Где ты была?
– Нигде, просто наверху, в своей комнате. Я не слышала, как ты звала. Пойдем, – торопливо добавила Пудинг, прежде чем ее вымысел успел сбить мать с толку. – Пойдем в дом и поставим чайник, ладно? А потом выпьем свежего чая?
– Да. Это как раз то, что нам нужно.
Луиза тихонько вздохнула, развернулась и пошла к дому рядом с дочерью.
Шагая, они уничтожали свои первоначальные следы. Росистая трава была высокой и замочила ноги девушки до самых лодыжек. Тем не менее она вдруг почувствовала неодолимый всплеск веселья, когда стая стрижей с радостным щебетом пронеслась по небу прямо над ними, а стадо молочных коров, принадлежащих хозяевам Усадебной фермы, стало спускаться по противоположному склону долины после утренней дойки.
– Мама, ты видела зайцев в поле? – спросила Пудинг опрометчиво.
– Кого? Когда? – удивилась Луиза, и Пудинг тут же пожалела о своем вопросе.
– Я просто так. Не важно.
Она взяла мать под локоть и прижалась к ней, а Луиза похлопала ее по руке.
Вокруг заднего крыльца разрослись одуванчики, рядом стояло ведро, полное золы, черная смородина перезрела, никто ее не собирал, кроме дроздов, которые затем оставляли свои фиолетовые метки на дорожке и на оконных отливах. Но когда они вернулись на кухню, отец Пудинг, доктор Картрайт, уже был там, хлопоча у растопленной плиты, на которой шипел чайник. Он уже расчесал волосы и оделся, но все еще не побрился, а его глаза были по-прежнему немного сонными.
– Две свежие розы, омытые росой сада, – приветствовал он их.
– Доброе утро, папа. Надеюсь, ты хорошо выспался?
Пудинг поставила на стол масленку, со скрипом вытащила из-под столешницы ящик с ножами, достала из глиняного кувшина буханку вчерашнего хлеба.
– Слишком хорошо! Вам следовало разбудить меня пораньше.
Улыбаясь, доктор похлопал жену по плечам, отодвинул спутанные пряди волос с ее лба и поцеловал в темя. Пудинг отвернулась, смущенная и счастливая.
– Будешь тосты, Донни? – спросила Луиза.
Она успела застегнуть свою кофту, заметила Пудинг. Каждая пуговица находилась в нужной петельке.
– Да, мама, с удовольствием, – отозвался Дональд.
Теперь, когда стол был накрыт, они собрались вокруг него – возможно, не совсем так, как это бывало раньше, но все-таки следуя давней привычке, которая казалась им блаженно знакомой. Родные по ночам разбредаются кто куда, подумала Пудинг. Рассыпаются, как семена чертополоха, подхваченные ветрами, которые она не может ни почувствовать, ни понять. Зато она понимала, что в ее задачу входит собирать их вместе по утрам. Нарезая хлеб, Пудинг стала напевать отрывок из «Наступило утро»[1]1
«Наступило утро» – популярный христианский гимн на слова Элеоноры Фарджон (1881–1965); часто исполняется на детских и похоронных службах.
[Закрыть], безбожно фальшивя, чтобы заставить их улыбнуться.
* * *
Когда Ирен услышала громкое дребезжание велосипеда Кита Гловера, ее сердце екнуло, потом бешено забилось, но из осторожности она даже глаз не подняла и не шевельнулась. Осмотрительность советовала вообще никак не реагировать, но оставался вопрос, не выдаст ли ее с головой совершенная неподвижность. Она чувствовала себя так, словно вина была написана на ее лице ярко-красными буквами, которые непременно прочтет Нэнси – ужасная Нэнси с глазами орлицы, всегда открыто выражавшая неодобрение по поводу всего, что Ирен говорила или делала. Она сидела напротив Ирен за столом, на котором был сервирован завтрак, намазывая на свой тост тончайший слой масла и хмурясь, когда в мармеладе[2]2
Имеется в виду варенье из цитрусовых (чаще всего апельсиновое).
[Закрыть] ей попадались чрезмерно большие кусочки кожуры. Солнце сияло в серебристых прядях ее волос, стянутых в простой пучок, яркими бликами играло на столешнице из палисандрового дерева. Ее характер был тверд, как железо, но сама она выглядела маленькой, хрупкой и сидела, скрестив миниатюрные ноги. Она хлопнула по странице газеты, расправляя ее, почитала пару секунд, а затем фыркнула, над чем-то насмехаясь. Ирен не ждала, что та прояснит, в чем дело, но Алистер выжидающе поднял глаза. Он устремлял на нее взгляд всякий раз с легкой улыбкой на лице, терпеливо ожидая, что она скажет. Его оптимизм казался безмерным, и Ирен восхищалась этим качеством. Благодаря этому глаза мужа блестели; и, несмотря на небольшие мешки под ними, Алистер выглядел моложе своих лет – даже моложе ее двадцати четырех, хотя она была почти на пятнадцать лет младше супруга. У нее было такое чувство, что за шесть недель, проведенных в Слотерфорде, она постарела на десять лет.
Во дворе раздались шаги, и медная крышка на почтовом ящике скрипнула, поднявшись и опустившись. Ирен посмотрела на свои пальцы, едва касающиеся ручки кофейной чашки, и постаралась скрыть их дрожь. Ее взгляд упал на украшенный бриллиантом перстень, подарок к помолвке, и на золотое обручальное кольцо. Как обычно, после чувства вины пришла злость – на себя, на Фина и на ни в чем не повинного Алистера. Порыв слепящей горячей ярости, вызванной ситуацией, в которой она оказалась, гнева на тех, кто был в ней повинен, а больше всего на саму себя. Новая роль ей решительно не нравилась, даже притом, что она исполняла ее так прилежно, как только могла. Гнев исчез так же быстро, как и возник, и тут же сменился отчаянием. Отчаянием, похожим на бездонный омут, в который она могла свалиться без всякой надежды выкарабкаться. Без спасательного круга, каковым могли стать доброе слово или некий знак судьбы, служащий доказательством того, что, даже если ее страдания продлятся, она, по крайней мере, сможет с кем-то их разделить. Что она сделает, если и правда увидит почерк Фина на конверте, Ирен понятия не имела. Ей трудно будет сохранить самообладание, и, скорей всего, она просто взорвется. У нее тревожно засосало под ложечкой, но Ирен по-прежнему оставалась совершенно неподвижной.
– Похоже, будет еще один прекрасный день, – внезапно сказал Алистер.
Ирен взглянула на него, испугалась и увидела, как он ей улыбается. Она попыталась улыбнуться в ответ, но так и не поняла, удалось ей это или нет.
– Да, – отозвалась она.
Нэнси трижды моргнула, ее взгляд перескочил с Алистера на Ирен, а потом вновь устремился на Алистера.
– Какие у тебя планы, дорогая? – спросил Алистер у Ирен.
Он положил руку на лежавшую на столе ладонь жены, и кофейная чашка ударилась о блюдце, когда одеревеневшие пальцы Ирен ее отпустили.
– Я… еще не думала о них.
Тут Ирен услышала, как в комнату, где они завтракают, идет Флоренс – из коридора донеслись легкие, словно извиняющиеся, шаги и осторожный скрип половиц. У девушки были маленькие глазки-бусины и остренький носик, как у мышки, которые вполне соответствовали ее характеру. Сердце Ирен вышло из-под контроля и тревожно забилось.
Флоренс тихо постучала, вошла с письмами на подносе, положила их на стол рядом с локтем Алистера и неуклюже присела, перед тем как выйти. Алистер разложил конверты – их оказалось четыре. Ирен затаила дыхание. Затем он взял их со стола, разгладил и, вставая на ноги, сунул в карман пиджака.
– Ну, в любом случае наслаждайтесь прекрасным днем. Я вернусь к обеду. Если погода будет такой же хорошей, как вчера, мы накроем стол на террасе.
Он осторожно отодвинул кресло и снова улыбнулся Ирен. Запас улыбок у Алистера, похоже, был неисчерпаем, и оптимизма тоже, в то время как Ирен чувствовала, что ей катастрофически не хватает ни того ни другого. Все лицо мужа было как бы настроено на улыбку – и мягкость взгляда, и поднимающиеся кверху уголки губ. Без улыбки его лицо казалось словно голым.
– Ты можешь навестить миссис Картрайт и поинтересоваться, как она поживает.
– Миссис Картрайт?
– Да, жену здешнего доктора. Ты ее знаешь. Это мать Пудинг и Дональда.
– Да, конечно.
Ирен знала, что ей следовало хорошо запомнить имена местных жителей и научиться сопоставлять их с лицами – колесный мастер, кузнец, жена викария, хозяйка лавки, ее сын, который приносит почту. Она понимала: в такой маленькой деревне, как Слотерфорд, непростительно не помнить, кто есть кто. В последнее время она, похоже, наделала много досадных ошибок, но именно теперь ей было совершенно невмоготу нанести визит жене врача – абсолютно незнакомой женщине и к тому же неизлечимо больной. Она смутно помнила, что ей об этом говорили. Ирен не имела ни малейшего понятия, что она должна сказать этой женщине. Но тут Алистер вышел, и Ирен снова осталась наедине с Нэнси. Впереди был долгий день, и его пустоту следовало как-то заполнить. Она посмотрела на тетку мужа, зная, что Нэнси будет в открытую наблюдать за ней, состроив осуждающую мину, – теперь, когда нет Алистера, присутствие которого ее сдерживало. Ну конечно же, так и есть. Опять этот понимающий взгляд, приподнятые брови, насмешливая полуулыбка. Нэнси казалась Ирен особенно суровой частью ее епитимьи.
Будучи на седьмом десятке, та была худощава и хорошо сохранилась. Морщины на ее лице были тонкими, едва заметными, изысканными. Когда Алистер говорил Ирен, что его тетя живет вместе с ним на Усадебной ферме, она представляла себе отдельный коттедж – ну, по крайней мере, отдельное крыло дома – и приятную старую даму, заполняющую свое время составлением букетов для церкви и организацией благотворительных обедов. Но уж ни в коем случае не это острое шило, которое так и норовило ее уколоть, куда бы она ни направилась. Когда Ирен обратила на это внимание Алистера, на его лице отобразилась душевная боль.
– Моя мать умерла в день моего рождения, Ирен. Нэнси фактически мне ее заменила и растила меня как собственного сына. Я не знаю, как вышел бы из такого трудного положения мой отец, если бы тетушки не было здесь с нами. Один бы он не справился.
Ирен снова взяла свою чашку, хотя и не собиралась допивать кофе. Напиток был уже совершенно холодный, и сверху его покрывала какая-то пленка. В конце концов Нэнси сложила газету и встала.
– Правда, Ирен, дорогая, вы должны что-нибудь съесть, – сказала она. – Может, в Лондоне сейчас и принято спокойно смотреть в лицо смерти, но здесь вы будете выделяться. Не дай бог кто-нибудь подумает, что вы несчастны, хотя это, конечно, немыслимо для новобрачной. – Нэнси еще мгновение рассматривала Ирен, как бабочку, насаженную на иголку, но Ирен знала: ее мучительница не ждет от нее ответа. Немыслимо, непростительно. Эти слова были новы для Ирен применительно к ней самой. Увы, отныне их могли произнести за ее спиной. – Вы теперь Хадли, юная леди. А Хадли всегда служили здесь образцом, – добавила Нэнси, поворачиваясь, чтобы уйти.
Лишь когда та закрыла за собой дверь, Ирен позволила подбородку опуститься, и ее руки безжизненно упали на колени. Тишина в комнате показалась ей звенящей.
* * *
Зимородок, трясогузка, большая синица, овсянка. Клемми шла, держа в голове этот список, который звучал как песенка, помогающая шагать и дышать ей в такт, поднимаясь по косогору. Вдох, выдох.
Зимородок, трясогузка, большая синица, овсянка. Утреннее солнце бодро слепило ей глаза, и голова чесалась от пота под волосами – буйными белокурыми кудряшками, которые отчаянно сопротивлялись любой попытке их расчесать и были так похожи на материнские. Она поднималась по узкой тропинке, идущей от задней живой изгороди фермы Уиверн к дороге на Слотерфорд. Сейчас, рано утром, этот путь был еще терпимым. К полудню здесь начинало палить солнце, после чего принимались гудеть мошки и слепни, поэтому возвращалась она обычно другой дорогой, идущей по берегу реки. Она была более длинной, извилистой, но обещала больше прохлады. Живая изгородь в значительной степени состояла из дикого шиповника, усыпанного цветами и птичьими гнездами, в которых сидели птенцы. За ней паслись коровы ее отца. Она слышала, как они бродят по лугу, и чувствовала исходящий от них сладковатый запах. Зимородок, трясогузка, большая синица, овсянка. Бутыли с молоком и круги сыра в корзинах, свисающих с коромысла, лежащего на ее плечах, покачивались и побрякивали. Коромысло было слишком широким для узкой тропы. Заросли медвежьей дудки и дикие клематисы щекотали ей руки, цветы наперстянки склонялись под тяжестью пчел.
Родители больше не требовали, чтобы Клемми возвращалась тотчас после выполнения возложенных на нее поручений. Она возвращалась, когда возвращалась, рано или поздно, в зависимости от того, сколько времени занималась с Алистером Хадли, или наблюдала за рекой, или бродила, погруженная в свои фантазии. Обычно она старалась нигде не задерживаться, зная, что на ферме для нее всегда есть работа. Но даже если девушка шла быстрым шагом, она, как правило, замедляла его у воды или в лесу. Иногда Клемми видела то, что заставляло остановиться и поглощало все ее внимание. Она даже не понимала, как так получилось, не знала, сколько прошло времени, пока не замечала, где находится солнце. Когда она наконец приходила домой, сестры закатывали глаза, приветствуя ее с разной степенью неприязни в зависимости от часа: «А вот и наша прекрасная дурочка» – если в ней не было нужды, или: «Посмотрите-ка, вот она тащится, эта драная кошка» – если нужда в ней имелась. Но Клемми продолжала бродить по окрестностям. У нее была такая потребность. Поэтому родители и поручали ей доставку молока в столовую, прекрасно понимая, что не скоро снова ее увидят.
Молоко от коров Усадебной фермы – хозяева которой также владели местной бумажной фабрикой, – наряду с молоком других, более крупных ферм, имевшихся в окрýге, поступало на заводы, производящие масло и сгущенное молоко, а потому местные поставки осуществляли хозяева фермы Уиверн, стадо которых было невелико.
«По крайней мере, она хоть занята чем-то полезным», – уныло говаривал ее отец. Сам он дважды в неделю запрягал свою тележку и вез бóльшую часть молока, сыра, масла и яиц на рынок в Чиппенхем[3]3
Чиппенхем – большой рыночный город в северо-западном Уилтшире. Находится в 20 милях к востоку от Бристоля и в 86 милях к западу от Лондона.
[Закрыть].
Несмотря на ранний час, над тенистой Джермайнской дорогой кружили мухи, а в воздухе витал тяжелый чесночный запах черемши и лисий мускусный аромат лесных анемонов. Белая пыльная дорога шла, минуя несколько больших петель реки Байбрук, по лесистому северо-западному склону холма, на который только что поднялась Клемми с низменной поймы, где расположилась ферма Уиверн. Клемми откинула назад голову, чтобы посмотреть на клочки синего неба, виднеющиеся между ветвями деревьев. В вышине кружила темная птица. Сарыч. Клемми добавила его в утренний список, а затем и белку, которая перепрыгнула с дерева на дерево над самой ее головой, – быстрая вспышка ярко-рыжего меха. Буки, дубы, вязы… Их молодая листва создавала непроницаемую сень, из-за которой ранние цветы отошли так скоро. Осталась только жимолость, обступившая молодой вяз и украсившая его ветви своими цветами. Когда девушка пошла дальше, лоскутки сияющего неба все еще стояли перед ее почти ослепшими от яркого света глазами.
Клемми ходила по этому пути с давящим на плечи коромыслом бессчетное число раз, но когда слотерфордская фабрика появлялась из-за гребня холма, это всегда заставляло девушку остановиться, чтобы насладиться видом. Множество зданий и сараев, сгрудившихся у реки, высокая дымящая труба. Монотонное бренчание бумагоделательной машины, ее вибрация, уходящая вниз, в землю, а затем поднимающаяся вверх, к подошвам ее ног. Когда девушка проходила по пешеходному мостику над рекой, она слышала шум воды, льющейся на водяное колесо.
Внезапный запах металла, пара и смазки, вспотевших мужчин, кирпича и работы, не похожий ни на что в мире. Впрочем, была и другая причина, которая заставляла ее сердце биться быстрей. Парень. Она могла завернуть за угол и увидеть его. Клемми знала: отныне ее мысли будут стремиться только к нему и ни к кому другому. Она не могла забыть того, что он для нее сделал, и хотела увидеть его ровно настолько, насколько боялась этого, а потому в замешательстве остановилась, прислонившись лбом к стене, чтобы послушать шум водяного колеса и почувствовать его биение, передающее вибрацию прямо в мозг. Она все еще стояла так, когда случайно проходивший мимо фабричный приказчик ее окликнул.
– Поднимайся, красотка, и убери молоко с солнца, – проговорил он, добродушно улыбаясь из-под густых усов, более рыжих, чем шевелюра на голове, и пушистых, как хвост лисицы.
Клемми доверяла этому человеку. Он никогда не подходил слишком близко и не пытался дотронуться до нее.
Она сделала, как он посоветовал, и вошла во двор фабрики, но ее беспокоило это – то, что надо высматривать. Наблюдать в надежде найти. Девушка никогда не делала этого раньше. Ей нравилось просто смотреть, а не высматривать. На фабрике работало всего несколько женщин, в столовой и на складе, в длинном низком строении невдалеке от кромки воды. Внутри него было безупречно чисто, хотя подмораживало зимой. Половицы из вяза были тщательно подметены, а стеллажи из грецкого ореха отполированы за многие годы службы. Нигде не было даже капли машинного масла или чернил, которые могли испортить готовую бумагу, упакованную в прочные мешки, еще недавно предназначавшиеся для сахара и муки. Летом здесь восхитительно пахло пчелиным воском, хлопком и деревом, но, вообще-то, Клемми входить сюда запрещалось – нечего соваться в чистое место с грязными ногами и запыленным подолом. Когда она проходила мимо, две работницы как раз направлялись к конторщику, чтобы отметить время прихода на работу. Одна из них помахала Клемми рукой. Это была темноволосая Делайла Купер; в памяти у Клемми она прочно соединилась с долгими часами, проведенными в Слотерфорде в домашнем детском саду, когда они были совсем крохами, едва научившимися ходить. Он был открыт в домике у дряхлой старухи с кислым лицом, получавшей плату за то, что она за ними присматривала. Она следила за тем, чтобы девочки не путались у нее под ногами в течение дня, а также учила с ними буквы, песни и молитвы.
Лицо Делайлы вызывало воспоминания о спертом воздухе в комнате, где проводили весь день десять маленьких детей, о водянистой каше, копоти и холодном каменном поле. Другая женщина посмотрела на нее с подозрением, но Клемми это ничуть не смутило. Ей нравился доносящийся со двора скрип и топот женских башмаков на толстой деревянной подошве, а также громкий стук, раздававшийся, когда их скидывали у дверей, оставаясь в туфлях, на которые те надевались. Она закрыла глаза и принялась слушать.
– У нее не все ладно с головой, у этой девчонки, – проговорила женщина, хмурясь.
Клемми отнесла молоко в столовую, а затем прошла к старому фермерскому дому, основательной каменной постройке, вокруг которой фабрика возникла, а потом разрослась, словно крапива. Немногие теперь помнили ферму Чаппса, стоявшую здесь до фабрики, и фермерский дом, в котором родилась двоюродная бабушка Клемми Сьюзан – однажды утром, раньше положенного срока, на соломенной циновке. В прежнем фермерском доме теперь размещалась контора фабрики, где стояли столы приказчика и его клерка и находился кабинет Алистера Хадли с Усадебной фермы, который владел всем в окрýге. Тот был человеком добрым. Клемми нравилось его лицо, на котором всегда играла улыбка, и то, как он кивал работникам и говорил с ними, когда осматривал работу. Казалось, он относился к ним с большим уважением, хотя, на взгляд Клемми, богатство этого человека делало его существом другого порядка. Сияние его чисто выбритой кожи очаровывало ее. Как будто он дышал другим воздухом. Иногда девушка проходила через весь фабричный двор и выходила с другой стороны, но тем утром она поднялась по лестнице старого фермерского дома и постучалась в дверь кабинета Алистера. Он оторвал взгляд от своего стола и озабоченно наморщил лоб.
– А, Клемми. Ты застала меня врасплох. Мы договаривались об уроке? – спросил он рассеянно. Клемми повернулась, чтобы уйти. – Нет-нет, заходи. Пятнадцать минут сегодня ничего не изменят.
Алистер поднялся, чтобы закрыть за ней дверь. Она уловила аромат его масла для волос и тот особенный мужской запах, который исходил от его пиджака. Ни у кого в Слотерфорде руки не были такими чистыми, как у него. Поверхность огромного стола была скрыта под стопками бумаг. Одни из них являлись образцами продукции фабрики, на других, еще более высокого качества, было что-то напечатано. Клемми не смогла бы прочитать ни слова, даже если бы захотела. Она прошла к своему обычному месту у окна и повернулась к нему спиной. Ей нравилось казаться лишь силуэтом на его фоне, поскольку ее лицо было затенено.
– Итак, Клемми, – сказал Алистер, присаживаясь на край стола, – ты тренировалась? – Ничуть не смущаясь, Клемми пожала плечами, давая понять, что она этого не делала. Алистер не моргнул и глазом. – Ну, не важно. Хочешь, начнем с дыхательных упражнений, которые я тебе показал?
Урок прошел не очень хорошо. Клемми переминалась с ноги на ногу и жалела, что зря потревожила своего учителя. Время было выбрано неудачно, она не могла сосредоточиться и быстро устала. Чувствуя себя побежденным, Алистер похлопал ее по плечу, когда она уходила.
– Ничего, – проговорил он. – Мы еще наверстаем, Клемми. Я в этом уверен.
Нэнси Хадли поднималась по лестнице, когда Клемми уходила. Инстинктивно Клемми отодвинулась немного в сторону, прижала руки к бокам и постаралась не смотреть на нее. Характер у Нэнси был непростой, а вернее сказать, тяжелый. Ее взор напоминал железные гвозди, и когда она говорила, то глядела всегда мимо Клемми и никогда ей в лицо.
– Право, Алистер, чего ты хочешь добиться? – спросила Нэнси, входя в кабинет.
– Нет никакой разумной причины, которая помешала бы этой девушке заговорить, – тихо произнес Алистер. – Ее только нужно научить.
– Не понимаю, почему именно ты должен брать на себя ответственность за это.
– Потому что до нее больше никому нет дела, Нэнси.
– Но следует понимать, что люди станут судачить, будто, запираясь с ней в кабинете, ты учишь ее не только говорить. Вряд ли разумно давать повод для таких слухов. А в особенности сейчас.
– Право, Нэнси. Я уверен, никто не думает ничего подобного.
– Сомневаюсь, что твоя тепличная роза одобрит, если узнает.
– Ты говоришь, словно я делаю что-то плохое, Нэнси, тогда как это совершенно не так.
– Ну, я просто надеюсь, что ты не дашь девушке поводов для фантазий, вот и все.
Дверь закрылась, голоса стали приглушенными, и Клемми беззаботно спустилась вниз по ступенькам.
Она подошла к магазину, чтобы забрать письма для фермы Уиверн, – как обычно, их было очень мало. Лавочница всегда давала ей небольшое угощение – сладости, или кусочек сыра, или яблоко – за то, что девушка избавляла ее сына от долгого путешествия к ферме Уиверн, чтобы их доставить. Вот и сегодня, продолжая свой путь, Клемми жевала ириску. Но парень. Парень. Его звали Илай, и он был из дурной семьи. Таннеры. Худшие люди на земле, как однажды сказал ее отец, Уильям Мэтлок, раз и навсегда запретив дочерям водить шашни с кем-либо из их отпрысков. Несколько лет назад он пригласил одного из них помочь косить сено. Парень пытался приставать к сестре Клемми, Джози, которой тогда было всего двенадцать лет, и дело закончилось разбитой губой. А когда ему указали на дверь, он ушел с двумя курами. Теперь лицо Уильяма принимало зловещий вид при любом упоминании Таннеров. Но Клемми никак не могла забыть о виденном, о том, что этот парень сделал – сделал для нее. Она не могла не вызывать в памяти его лица. С ней творилось нечто такое, чего она не понимала сама. Ее инстинкты, которым до сих пор она полностью доверялась, теперь молчали и ничем не могли ей помочь. У него под ногтями виднелась кровь и на руках были глубокие царапины. От него пахло пивом и потом, чем-то гнетущим и тягостным, но под этим запахом скрывалось и что-то приятное. Он назвал ей свое имя – демонстративно, как будто она бросила ему вызов: «Я Илай». И ни слова больше. Его молчание было мучительно громким.