Читать книгу "Постсоветский мавзолей прошлого. Истории времен Путина"
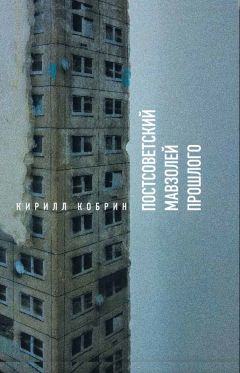
Автор книги: Кирилл Кобрин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Безумцы и власть: 1836-й и 2016-й
27 января 2016 года художника Петра Павленского, которого обвиняли в вандализме за поджог двери в здании ФСБ на Лубянке, отправили на психиатрическое освидетельствование, вызвав опасения, что вместо «преступника» его объявят «сумасшедшим». В интернете тут же бросились собирать подписи с требованием вернуть дело Павленского хотя бы в видимые обществу юридические рамки. Опасения защитников художника были вполне понятны: пусть и глубоко зависимый от власти, но суд есть суд, он по крайней мере даст возможность Петру Павленскому высказаться; да и вообще небесполезно понаблюдать за тем, как дают уголовный срок за мелкий поджог двери пусть и самого охраняемого здания страны. В любом случае судебный процесс – вещь публичная; а зная безупречное мужество и упорство Павленского, можно было быть уверенным, что он использует это обстоятельство для своего дела. А вот упечь в психушку – значит поместить человека в серую зону, практически закрытую не только от общества и прессы, а даже и от близких. Плюс к этому медицинские учреждения дают широкий простор для манипуляций с психотропными лекарствами, что в обычной русской тюрьме сделать (по крайней мере пока) сложновато. Так что петиция действительно оказалась нужной и своевременной, хотя сложно сказать, повлияла ли она на исход дела. Напомню, 8 июня 2016 года – несмотря на призывы Павленского переквалифицировать его дело по статье «терроризм» – художника мирно приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей плюс выплата ФСБ ущерба за немного обгоревшую дверь. Павленского тут же освободили, и он вернулся к привычной своей жизни. Эта его художественная акция называлась «Угроза».
Те, кто требовал вернуть Павленского из сферы безответственности анонимных врачей в сферу ответственности хотя бы имеющих имена следователей и судей, апеллировали к советскому опыту подавления диссидентского движения. Действительно, тогда в случаях нежелания власти преследовать инакомыслящих с помощью юридической репрессивной машины в ход шла «карательная медицина». Преступления ее известны, так что аналогию выстроить достаточно просто. Список пострадавших от пыточной советской психиатрии длинный, в нем Иосиф Бродский, Наталья Горбаневская, Валерия Новодворская, Леонид Плющ и многие другие. Однако, как мне кажется, эта аналогия затемняет суть дела. Павленского с трудом можно назвать наследником советского диссидентства; он прежде всего современный художник, который использует «политическое» не просто как тему своего искусства; он скорее делает искусство, на сто процентов состоящее из «политического». Более того, «политическое» берется им как «этическое», причем последнее трактуется как борьба против абсолютного Зла. Павленский – мистик в самом прямом смысле этого слова; его акционистские жесты призваны указать на следующее: современное Российское государство есть воплощение чистого беспримесного Зла, в борьбе с которым художник готов идти до конца. Современная Россия – как, собственно, и историческая Россия – воспринимается им как область окончательной несвободы, о существовании которой население знает, но не желает отдавать себе в этом отчет. Таким образом, Павленский открывает глаза на уже известное – собственно, речь идет о том, чтобы у общества «отверзлись очи». Конкретные же несправедливости, пороки и преступления власти, сколь бы тяжкими и опасными они ни были, вроде агрессии против Украины и т. д., Павленского не очень интересуют. Это частности, симптомы; повышенное внимание к ним затемняет понимание главной драмы, которая разыгрывается на территории бывшего СССР, – драмы наступления Абсолютного, Инфернального Зла. Знаменитое фото Павленского на фоне адского пламени подожженной им двери ФСБ – об этом.
В 2016-м, осенью, исполнилось 180 лет публикации, кажется, самого известного раннего опыта русской исторической рефлексии – первого «Философического письма» Петра Чаадаева. Анонимный перевод французского оригинала этого сочинения, изобилующий неточностями и сокращениями, был напечатан в 15-м номере московского журнала «Телескоп». Вспыхнул сильнейший скандал, который увенчался известной резолюцией главного читателя, цензора и блюстителя смыслов в тогдашней России, Николая Первого: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной – смесь дерзкой бессмыслицы, достойной умалишенного». За дерзкую бессмыслицу поплатились все причастные к публикации: журнал закрыли, цензора, пропустившего «Философическое письмо» в печать, уволили, издателя «Телескопа» Николая Надеждина сослали в Усть-Сысольск (ненадолго), а самого автора объявили сумасшедшим. По распоряжению властей Чаадаев находился под нестрогим домашним арестом, ежедневно к нему являлся доктор для освидетельствования. Через какое-то время от услуг медика отказались, но история, конечно же, не забылась. Чаадаев даже написал «Апологию сумасшедшего», которую, впрочем, при жизни отдать в печать не рискнул; этот странный, неспокойный, взвинченный текст был опубликован лишь в начале XX века. В сущности, сочинив «Апологию», Чаадаев нарушил запрет: в 1837 году, «снимая» высочайший психиатрический диагноз, ему поставили условие «ничего не писать». Впрочем, Чаадаев писал немного, предпочитая говорить. Он был блестящим рассказчиком, собеседником и особенно проповедником. В московском обществе его считали первым, а слава безумца нисколько не мешала уважению – и даже поклонению – окружающих, прежде всего дам.
История Чаадаева известна, о ней написано немало, а его «Философическим письмам» посвящены десятки книг и сотни статей. Тем не менее этот сюжет истории русской мысли – да и просто русской истории – довольно странный. Достаточно внимательно, как бы заново, прочесть наделавшее столько шуму первое философическое письмо. Специалисты давно отметили, что Чаадаев выступает здесь как последователь европейских мыслителей охранительного, консервативного, традиционалистского толка, как сказали бы в прошлом веке – «реакционного». В духовных отцах Чаадаева – отчаянный элитист Жозеф де Местр, автор «Апологии христианства» Франсуа де Шатобриан, тихий контрреволюционер Пьер Симон Балланш и, конечно же, Фридрих Шеллинг (с ним Чаадаев переписывался). Это все авторы, далекие от «прогрессивных» идей, не говоря уже о «революционных». В каком-то смысле все они – политические союзники николаевской России в самом ее унылом изводе. Однако составленное русским отставным гусарским офицером на французском изложение их взглядов применительно к некоторым моментам современности, будучи опубликовано в московском журнале, вызвало у Николая ярость, а у его приближенных – состояние, близкое к панике.
Второе странное обстоятельство: чаадаевские «Письма» к 1836 году читали многие – и в Москве, и в Петербурге. Тексты ходили в списках, Чаадаев показывал их своим друзьям и знакомым, «Письма» обсуждали, но особенно резких мнений не было. В 1836 году после бешеной реакции власти у многих будто глаза открылись – и на Чаадаева посыпались удары с разных сторон. Тут вот что важно: речь не идет о желании выслужиться или страхе попасть в список «подозрительных» – оскорбленное несогласие высказывалось Чаадаеву в частных письмах, так что авторам их если и хотелось доказать собственную благонадежность, то рассчитывать приходилось лишь на не очень культурных полицейских чиновников, занимавшихся люстрацией русского эпистолярия. Получилось так, что самые возмутительные вещи, высказанные в «Философическом письме» (их вообще-то целых восемь, а напечатали в несчастном «Телескопе» только первое), при первом прочтении в глаза не бросились. Если так, то А.Х. Бенкендорф, Ф.Ф. Вигель, митрополит Серафим и сам царь Николай, впервые ознакомившиеся с чаадаевским текстом уже в опубликованном виде в 1836 году, оказались гораздо более тонкими читателями, нежели просвещенные завсегдатаи аристократических и литературных салонов Москвы и Петербурга.
Но самая большая странность вот в чем. Даже первое «Философическое письмо», не говоря уже о других, вовсе не является ни публицистикой, ни политическим трактатом. Это текст глубоко религиозный, написанный с христианских позиций автором, убежденным в особой благодетельности теократии. Более того, это действительно частное письмо, адресованное даме, и в начале его говорится о необходимости смирения, следования церковным предписаниям и поддержания в надлежащем порядке не только души, но и тела. Собственно, все дерзкие пассажи, из-за которых и вышел сыр-бор, были следствием этого совета, его, так сказать, обоснованием.
Содержание чаадаевского шедевра известно, позволю себе лишь напомнить, что рассуждение о пустоте русской жизни, ее необустроенности, о том, что русские ничего не внесли порядочного в копилку европейской жизни, о том, что беда русской истории, полностью отделенной от «общего европейского движения», усугубилась схизмой католиков и православных, все это – включая столь поразившие власти пассажи о явном преимуществе папства над Русской православной церковью – вытекало из простого рассуждения о том, что повседневная жизнь русского человека отмечена неустроенностью и все то, что европейцам в быту дается как бы «по умолчанию», здесь приходится делать с нуля и самому.
«Очевидные вещи», – скажет любой знающий устройство русской жизни как в XIX веке, так и в начале XXI. Именно. Чаадаев – христианский мистик, а не обличитель, он не критике подверг жизнь собственного общества (а, например, князь П.А. Вяземский вообще счел это сочинение сатирой), он просто констатировал, что дела обстоят таким образом. Для подобного рода констатации нужно особое мужество, гораздо большее, чем для изобретения блестящих новых вещей или совершения сногсшибательных открытий. Более того, чтобы оценить «повседневность», следует обладать особым зрением и отодвинуться на определенную дистанцию от так называемой «жизни». Странный денди Чаадаев, с его тайным католицизмом, с его несколько тщеславной страстью проповедовать, с его французским языком, на котором он писал гораздо лучше, чем на русском, – он для того, чтобы увидеть очевидное, оказался гораздо более подходящим, чем по уши погруженные в заботы русской жизни его приятели Пушкин, Вяземский, Боратынский и др. Отсюда же и единодушный вопль негодования, исторгнутый публикацией «Философического письма», – люди обычно приходят в ярость, когда им указывают не на новое, а на известное, по крайней мере – на то, что они подозревали, но не рисковали сказать. И смельчака, который это делает, как раз легче и естественнее всего объявить безумцем, ибо он покусился на ментальные основания общества.
В этом – и только в этом, конечно, – сходятся Чаадаев и Павленский. И тот и другой совершили мощнейшие культурные жесты, которые выглядели политическими, но по сути были этическими, чуть ли не религиозными даже. Оба исходили из полной убежденности в том, что есть нечто исключительно важное в устройстве жизни в России, что необходимо в данный момент продемонстрировать – несмотря ни на что и самым прямым, недвусмысленным образом. Обоих назвали безумцами – точнее, попытались назвать. Все остальное, конечно, разное, ибо никаких аналогий в истории не бывает. Настолько же разное, насколько отличаются друг от друга условия жизни в частном чаадаевском доме на Басманной и в постсоветской психиатрической клинике.
Все вышесказанное, конечно, не означает, что те вещи, которые в 1836 году или в 2016-м казались очевидными в отношении российского общества, власти, жизни, истории и т. д., на самом деле являются таковыми. Главное, чтобы интеллектуально активная часть общества воспринимала их подобным образом. Это как бы взгляд «изнутри». С точки же зрения историка, построения Чаадаева являются примером типично романтической концепции истории, а воззрения Павленского – результатом «холодной гражданской войны» в современной России. Но наш текст – о другом, он о законченных и почти безупречных этических жестах, которые вызывают схожие реакции двух – совсем разных по существу – исторических форм власти.
Новые любители исторической правды
История с переходом в российских школах на так называемые «единые учебники по истории» довольно активно развивалась в течение лета 2016 года – причем происходило это в двух параллельных реальностях. Первая реальность – школьная жизнь, в которой эти учебники (официально говорили о трех) 1 сентября 2016-го если и появились, то далеко не везде. Есть еще так называемый «единый историко-культурный стандарт» – методический документ; ему, по идее, должны соответствовать школьные курсы и учебники. Стандарт, как это было и раньше, представляет собой гигантский пестрый набор самых разнообразных фактов, перемешанных с концепциями, все в одной плоскости; в него составители, движимые самыми разными соображениями (учителя – одними, академические историки – другими, методисты – третьими), буквально запихнули все, что, как им кажется, должно там быть. В результате получилась знакомая вещь – некий перечень, в котором, в буквальном смысле, есть «всё» – но только это «всё» представляет собой смесь советских и постсоветских представлений о прошлом и о том, что школьники должны об этом знать. Надо сказать, что при всей бесформенности этот «стандарт» играет отчасти положительную роль, главное – правильно его использовать. Учителя истории, из тех, кто действительно разрабатывает свои авторские курсы, могут на него положиться – любые сюжеты, которые им хотелось бы разобрать с учениками, в этом стандарте так или иначе можно найти. Значит, всегда можно сослаться на «официальный документ». Это важно, учитывая общую крайне неблагоприятную для серьезного изучения истории в школе, общественную бюрократическую и даже педагогическую атмосферу в стране.
Но вот с учебниками дело обстояло совсем не так, как уверяли власти летом 2016-го. Действительно, как утверждалось, формально есть три учебника по истории России, которые написаны, изданы и разрешены к использованию. Мы не будем здесь разбирать их достоинства и недостатки; однако мимо одного важного факта не пройти. Дело в том, что учебников этих в школах очень мало; более того, сам разговор о «едином учебнике по истории» бессмысленен, он лишь затемняет тот важнейший факт, что учебников должно быть не два или три, а более трех десятков, если вспомнить общее количество школьных курсов истории. История России не изучается в течение одного учебного года, это не один, а несколько учебников, даже если представить себе такую неприятную возможность, что каждый из таких учебников может быть написан один и альтернатив у него не будет. Дальше – больше. Не забудем: помимо истории России, есть история и всего остального мира. История Древнего мира. История Средних веков. Новая история (первая и вторая части). Новейшая история (первая и вторая части). Плюс к этому добавим и совершенно необходимые курсы местной, локальной истории, то, что называлось раньше «краеведением». Наконец, в национальных республиках Российской Федерации и в национальных округах должны быть учебники, посвященные истории титульных народов, эти территории населяющих. Иными словами, это далеко не «один единый учебник», как утверждают госчиновники и как считают люди, не имеющие представления о преподавании истории в школе.
Еще одно обстоятельство, которое обычно упускают в разговорах про «единый учебник по истории». Его сложно, почти невозможно ввести сразу. Учебники и курсы по истории для разных классов непременно должны быть между собой связаны, так что дико даже представить, что, к примеру, выпускают новый учебник по истории Средних веков, где принята концепция, согласно которой этот период европейского прошлого заканчивается XV веком, этапом, который великий Йохан Хейзинга назвал «осенью Средневековья». Такая точка зрения в современной историографии (по крайней мере самой ее передовой части) очень популярна. И вот вообразим: этот курс и учебник ввели, а курс и учебник по «истории Нового времени» остался, к примеру, старым, который исходит из еще марксистской схемы – «Новое время» начинается с «буржуазных революций», первой из которых считается освободительная война Нидерландов против испанского господства. Если дело обстоит именно так, то в хронологическую и смысловую пропасть между двумя учебниками проваливается почти весь XVI век, Ренессанс, Реформация, Великие географические открытия, религиозные войны – то есть один из главных периодов европейской, западной, всеобщей истории, без которого нынешний мир выглядел бы совсем по-иному.
Получается, что вводить новые учебники можно лишь постепенно, в течение как минимум семи лет, уже сейчас имея на руках все свежие пособия, методические разработки, курсы, которые обсудили специалисты сразу из трех областей (учителя истории, академические историки, методисты-педагоги) и представители родительского сообщества – и на которых мнения их сошлись. Гигантская, сложная, долгая работа, которая, помимо всего прочего, требует немалых финансовых затрат. Зададим простой вопрос – проделана ли на сегодняшний день эта работа? Ответ очевиден – нет.
Тем не менее все лето 2016 года шли разговоры о том, что в «новый учебный год российские школьники вступят с новым единым учебником по истории». Особенность этих разговоров для внимательного наблюдателя заключалась в их какой-то странной неопределенности. Вслед за бодрым газетным заголовком, где рапортовалось о вступлении в новый год с новым единым пособием, обычно говорилось, что, мол, «разработан единый стандарт», а учебники будут вводиться по мере сил и возможностей. Более того, некоторые из участников процесса создания «стандарта» выражали недоумение по поводу неподготовленности и спешки; самым любопытным мне показался вопрос о том, чем же будут теперь заниматься ученики 11-го класса – ведь согласно новым правилам историю заканчивают изучать в 10-м. Впрочем, все это не занимало ни чиновников, ни журналистов официозных медиа; кстати говоря, отметим почти полное молчание, которым сюжет о «едином учебнике» встретила пресса, так сказать, «демократическая», «либеральная». Если в специальных изданиях и писали кое-что об этом, а некоторые специалисты высказывали в социальных сетях недовольство как новым стандартом, так и новыми пособиями, то вот в мейнстримных либерально-демократических, оппозиционных медиа обо всем этом практически не говорили. В конце концов возникло впечатление, что история с «единым учебником по истории» нужна довольно узкому кругу людей, находящихся во власти (и около нее) для решения собственных задач. Остальным новые стандарты и пособия, как и вообще опасная необходимость упорядочить, унифицировать школьные представления о прошлом, вроде бы совсем ни к чему. Казалось, что может быть важнее школьного образования, представлений о прошлом, особенно учитывая все нынешние баталии вокруг истории (и даже всеобщую одержимость ей), но нет, ничего подобного. Это обстоятельство кажется мне самым загадочным в сюжете о «едином учебнике».
Странность нарастала с каждым месяцем; неуверенный тон и постепенное исчезновение победных интонаций можно было уловить даже в речах главных инициаторов кампании за единообразие представлений о прошлом. 18 февраля в официальной «Российской газете» появилась статья министра культуры Мединского[6]6
Мединский В. Есть ли у правды версии? // Российская газета. 2016. 18 февраля.
[Закрыть]. Мединский, казалось бы, прямого отношения к школьному курсу истории (как и к курсу физики) не имеет, однако он претендует на звание главного пропагандиста и идеолога нынешней власти. О том, что министр сам себя считает профессиональным историком (мнение это, увы, не разделяет академическое сообщество), мы уже говорили выше. В любом случае Мединский уверен, что уж он-то историю знает, любит, особенно историю России, и, как истинный патриот, готов проповедовать истинную патриотическую историю Отечества, воспитывая поколение за поколением россиян. Так что, читая заголовок его статьи – «Есть ли у правды версии?», – уже заранее догадываешься о содержании этого текста. Однако подзаголовок – «Трудные вопросы в учебнике истории не должны подменяться лозунгами» – ставит в недоумение. Ведь именно этот автор еще недавно уверял публично, что историческими фактами являются лишь таковые, которые хорошо укладываются в патриотическую концепцию прошлого, прочие же – от лукавого. Более того, осенью 2015 года Мединский позволил себе совершенно хамскую выходку в адрес руководителя Государственного архива РФ Сергея Мироненко, который напомнил ему и публике, что никаких «28 панфиловцев» не было, их придумала сталинская пресса и пропаганда. Ярость Мединского в той ситуации понять можно – ведь буквально накануне были выделены немалые бюджетные деньги на съемку патриотического блокбастера о тех самых панфиловцах… То есть получалось, что государство платит за фильм о выдумке, мифе, уловке пропагандиста. Так или иначе, министр Мединский никогда не отличался приверженностью к «фактам» в ущерб «лозунгам». И тут вдруг вот такое.
Чтение статьи министра в «Российской газете» – занятие любопытное. Прежде всего, если представить, что он сам сочинил этот текст, а не доверил его спичрайтерам, перед нами довольно сумбурное, вялое и скверно исполненное сочинение. Речь чиновника грустна и отрывиста, в ней нет обычного задора Мединского-идеолога. Такое впечатление, что, взяв самую высокую ноту в начале статьи, дальше министр уже не знает, что же ему делать с сюжетом; к тому же заметна осторожность, с которой он трактует свою излюбленную тему. Вот как звучит эта высокая нота: «Это важный первый шаг к преодолению унаследованной из 90-х годов нелепой интеллектуальной междоусобицы, бессмысленного “разнообразия” точек зрения на историю страны и навязчивых идеологизированных толкований главных ее событий». Тема единообразия и «нелепости» разнообразия точек зрения на историю – любимая у министра, он не раз высказывался в этом духе. Критиковать его подход легко – на самом деле в любом зрелом обществе «точек зрения на историю» всегда множество, по-иному и быть не может, учитывая пестрый социальный, этнический и религиозный состав современных государств. Нет «единой точки зрения» на историю в США, во Франции и уж тем более в Британии. Она – касательно относительно короткого периода – есть в Германии. Но этот короткий период – правление Гитлера, которое привело к национальной катастрофе. Более того, в каком-то смысле даже это единство ретроспективного зрения навязано силой – Германия потерпела поражение в войне и была оккупирована; именно так началась денацификация и работа с травматическим прошлым. Вряд ли Мединский с его возвышенными представлениями об истории, нации, о культуре и прочем мечтает о таком единстве.
Мысль министра примитивна: надо всех одинаково выучить в школе истории, чтобы потом, став взрослыми, бывшие школьники воспроизводили ту же самую схему. Тогда власть – Мединский воспринимает «власть» в России как нечто вечное, а значит, а-историческое – будет вне угроз; ведь все прошлое страны сводится к истории государства, которое, пусть и не без мелких неприятностей, укреплялось-укреплялось, пока не достигло своего высшего развития, своего акме в конкретный нынешний период. Ради такой концепции Мединский всегда был готов отбрасывать, забывать, перевирать факты. Соответственно, главным врагом подобной «единой истории» становятся не только настоящие историки, упрямо бубнящие о том, что вот это было так, а вот это не так, а про это мы вообще ничего не знаем; в разряд врагов попадают те, кто трактует прошлое исходя из иных идеологических, политических и прочих соображений. Здесь, как мне кажется, разгадка столь нетипичного для министра Мединского подзаголовка статьи – да и странного тона самого этого текста.
Действительно, в данном случае Мединский пытается выступать в качестве защитника исторической объективности от «идеологов» и «пропагандистов». Задача нелегкая, учитывая то, что сам он никакой не историк, а именно пропагандист и – введем в оборот новый термин – «пиар-идеолог». Защищать «факты» от «мнений» для него трудновато; впрочем, министр никогда не рисковал вступать в дискуссию, он, как и вся нынешняя российская власть, умеет работать только в режиме монолога, да еще и транслируемого самым монологическим образом, посредством официальных или провластных медиа. Но даже здесь, в вицмундирной «Российской газете», Мединскому несколько неловко, он чувствует себя как бы не в своей тарелке, ибо говорить приходится ровно обратное тому, что он привык.
Тут самое время пояснить, с какими «идеологами», с какими «лозунгами» он тут борется. Ответ простой – со всеми, кроме тех, которые нужны власти в данный момент. Любая интерпретация истории, самая что ни на есть концептуально-выверенная, вроде марксистской или даже «народнической», вызовет его беспокойство. Действительно, «классовая борьба» – прямая опасность для государства, хоть в XIX веке, хоть в XXI, точно так же абсолютно враждебна мединской историографии сама идея социальной справедливости. Российское государство – за исключением советского периода, пусть даже формально – идеи социальной справедливости всегда боялось, ненавидело, а разговор о реальных проблемах, правах и обязанностях разных классов и сословий подменяло чугунной державной риторикой. Отметим еще одно пока не очень заметное обстоятельство. Статья Мединского «против идеологических лозунгов в школьном курсе истории» имела еще одну цель, пока довольно отдаленную. В 2017-м – сто лет Октябрьской революции. Российская власть пока еще не решила для себя, как к этому относиться, каких историко-юбилейных опасностей избежать, какие пропагандистские выгоды поиметь. С одной стороны, 1917 год – разрушение столь любезной Российской империи, «России, которую мы потеряли», позорный сепаратный мир с Германией, Гражданская война, убийство царя и все такое. Праздновать особенно нечего. С другой – историческое тщеславие не дает вот просто так распрощаться с единственным событием действительно мирового значения, которое произошло в России в прошлом столетии (не считая победы во Второй мировой, конечно). Такими вещами опытные пиарщики не разбрасываются. Не забудем и культ всего советского, который как бы нехотя исповедует путинский режим; он тоже не дает возможности проклясть Ленина и товарищей. Но ведь нет ничего более враждебного для Путина с Мединским, чем дух 1917 года, энтузиазм строителей коммунизма, утопические 1920-е и т. д. В общем, статья Мединского намекает на то, как, судя по всему, будет решать «проблему 1917-го» власть – факты и только факты! Никаких славословий, никаких проклятий! Главное, что потом в конце концов примирились белые и красные, обнялись под скипетром державной новорусской стабильности. Именно так путинский режим будет изображать из себя разрешителя всех тяжких вопросов русской истории.
Столь же невыносим для Мединского и любой другой интерпретационный подход к истории. Не зря же в статье он вдруг принимается говорить уже совсем странные, даже диковатые вещи: «Мое предложение – не прекращать работу научного сообщества над историко-культурным стандартом: в частности, в перспективе разработать и ввести в него канон истории народов России. Нет ли противоречия между понятиями “канон” и “самостоятельное мышление”? Нет. В моем понимании базовый ценностный подход к формированию исторического канона – это в первую очередь научность и достоверность сведений, которые изложены в школьных учебниках истории. Это несложно – даже по отношению к самым неоднозначным периодам нашей истории. Тем самым, которые в историко-культурном стандарте честно названы “трудными вопросами”. И, кстати, именно научность и достоверность существенно снижают, на мой взгляд, накал “неоднозначности”». Понятно, о ком и о чем идет речь, – до блестящей идеи Мединского о «самостоятельном каноне» немало историков и методистов сломало голову, пытаясь как-то примирить, к примеру, главы учебника о «монголо-татарском нашествии», «золотоордынском иге» и победные реляции с Куликова поля (сомнительные с точки зрения как раз «фактов») с фактом нахождения Республики Татарстан (а также Республики Башкортостан) в составе Российской Федерации. Взятие Казани и разгром Астраханского ханства также с этой точки зрения выглядят несколько скандальными. Если перенестись южнее, то завоевание Кавказа в XIX веке также сложно объяснить исходя из некоей «одной точки зрения» – тут есть победители и побежденные, я бы даже сказал, колонизаторы и жертвы. Чтобы примирить все это, чтобы как-то объяснить школьнику «без политики» и «без идеологии», нужно занять ту позицию, которую Мединский и его соратники никогда не займут, ибо такая позиция воплощает для него все самое подрывное и даже отвратительное. Это позиция исторического антрополога, недержавного историка, позиция человека, который изучает жизнь людей и общества, а не воспевает процесс возведения государственных пирамид. Наконец, эта позиция неизбежно будет носить моральный характер – иначе невозможно, к примеру, рассказывать об относительно недавней истории сталинских репрессий.
Мединский же хочет, чтобы о преступлениях сталинизма (и советской власти вообще) говорилось сухо и исключительно фактологически, мол, убили столько-то и убили оттого-то: «Вот один из таких “трудных вопросов” – сталинские репрессии. В распоряжении науки имеется более чем достаточно достоверных данных: причины репрессий, их политическое и юридическое обоснование, контекст конкретных обстоятельств данной эпохи, количество арестованных, количество приговоренных к казни…» Любопытно, что здесь наш любитель фактов выдает себя – ни один человек, который хотя бы понаслышке знает о сталинских репрессиях, не станет полагаться на официальные цифры официальных смертных приговоров. Все знают эти эвфемизмы, которыми пользовались палачи, чтобы скрыть размах убийств. Но и это не самое важное здесь. Отказывая в моральной оценке чудовищных десятилетий советского периода, Мединский фактически списывает их как давно прошедшую историю, которая не имеет уже никакого к нам отношения. Мол, убили и убили, время было такое. Чингисхан тоже убивал. И Наполеон. Однако особенность произошедшего в СССР с двадцатых годов по вторую половину восьмидесятых в том, что это история незаконченная – до тех пор, пока потомки как убийц, так и убитых не придут к определенному консенсусу именно морального свойства. И консенсус этот неизбежно того же свойства, как и немецкий консенсус по поводу нацизма. Иначе сталинизм в сознании общества никогда не закончится.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































