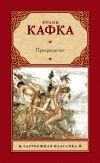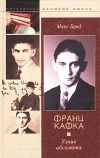Текст книги "Modernite в избранных сюжетах. Некоторые случаи частного и общественного сознания XIX–XX веков"

Автор книги: Кирилл Кобрин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Главные жизненные сюжеты Кафки – попытки женитьбы и отношения с отцом – на самом деле являются одним сюжетом. Я не буду рассматривать этот сюжет так, как его обычно рассматривают, – психоаналитически; более того, его религиозная интерпретация, начало которой положил еще Макс Брод, будет занимать нас только как один из способов разговора о национальной самоидентификации Франца Кафки. С этого разговора – об отношении писателя к иудаизму – и начну. Дело в том, что для Кафки (как и практически для любого молодого человека из правоверной еврейской семьи того времени) определение своей принадлежности к иудаизму почти полностью совпадало с определением своей принадлежности к еврейству. Герман Кафка исправно посещал синагогу вместе с сыном, однако особого религиозного рвения не проявлял; в «Письме отцу» Франц упрекнет его в том, что такое превращение религиозного таинства в формальность надолго внушило ему отвращение к иудаизму. Сам Кафка относился к иудаизму (и еврейской жизни) двойственно. С одной стороны, он периодически проявлял нешуточный интерес к тому или иному аспекту этой религии, к некоторым сюжетам еврейской истории и культуры. Например, в 1910 году он близко сошелся с еврейской театральной труппой из Лемберга (Львова), посещал их представления и даже, несмотря на все свое отвращение к публичной деятельности, устроил вечер одного из актеров по имени Лёви, с которым подружился. Увлечение еврейским театром в немалой степени было связано с увлечением актрисой этого театра госпожой Чиссик; так для Франца Кафки поиски национально-религиозной идентификации оказались тесно связаны с миром женщин. Первые реализовывались во втором. Еще одним любопытным обстоятельством стало то, что театральная труппа, в судьбе которой принял столь горячее участие Кафка, была из-за пределов Богемии, из мира польско-русского еврейства, который (именно в силу нахождения далеко от Праги) обладал особой притягательностью для него. С тех пор почти любое движение Франца в направлении идентификации себя как еврея было связано с женщиной, причем с женщиной, имеющей отношение к миру за пределами Праги и Богемии. Первая невеста Кафки, Фелиция Бауэр, была из Берлина, знакомство их началось с обсуждения гипотетической совместной поездки в Палестину. Во время второй помолвки с Фелицией Франц мечтает устроить их совместную жизнь именно в Берлине. О желании уехать в столицу Германии он пишет в это время в дневнике, упоминает в разговорах с Бродом, сообщает родителям. С известного момента Берлин начинает даже ассоциироваться у Франца с Фелицией. Последнюю и, пожалуй, единственную свою счастливую любовь, Дору Диамант, Кафка находит в Германии в летнем лагере еврейского Народного Дома. Как актеры Лёви, госпожа Чиссик и другие, Дора происходит из мира польского еврейства: она была дочерью хасидского раввина, знала древнееврейский, но бежала из дома в Берлин. В Берлине же они с Францем и поселились – до тех пор, пока из-за экономического кризиса не вынуждены были уехать сначала в Прагу, а затем в Австрию, где Кафка и умер.
Итак, Франц Кафка пытался стать евреем посредством женщин, женщин не пражанок[33]33
Единственное исключение – его вторая невеста Юлия Вохрыцек. С ней, местной жительницей, Кафка познакомился в самом центре Праги, в Риегровых садах. В этом случае географическое перемещение было заменено на социальное – взбираясь с Юлией по склону парка, Франц одновременно опускался вниз по социальной лестнице.
[Закрыть], и за пределами Праги. Его любовная связь с чешкой Миленой Есенской, жившей тогда в Вене, также была попыткой идентификации и – одновременно – бегства из Праги. Через эту связь Кафка попытался приблизиться к чешскому миру: он регулярно читал статьи Милены в пражских чешских газетах, а она перевела на свой родной язык «Кочегара». Любопытно, что в «Разговорах с Яноухом», которые, если верить публикаторам, происходили в разгар романа Франца с Миленой, Кафка решительно встает на сторону чехов в их историческом споре с немцами. Яноух предлагает – для лучшего взаимопонимания обеих наций – издать чешскую историю на немецком языке. Кафка отвечает следующее: «Бесполезно. Кто станет ее читать? Разве что чехи и евреи. Немцы определенно не станут, они ведь не стремятся узнавать, понимать, читать. Они хотят только владеть и править…»[34]34
Сочинения, т. 3, с. 522.
[Закрыть]. Показательно, что евреи стоят в этом высказывании Кафки рядом с чехами, точно так же как он был в это время эмоционально рядом с Миленой[35]35
За девять лет до этого разговора Кафка занес в дневник рассуждение о так называемых «малых литературах». Вот как оно начиналось: «Все, что я узнал от Лёви о современной еврейской литературе в Варшаве, и то, что я знаю о современной чешской литературе…» (Дневники, с. 113). Чехи и евреи тоже стоят здесь рядом.
[Закрыть].
В этом контексте спорадический энтузиазм Кафки по поводу еврейского национального движения и сионизма объяснить довольно легко – ведь речь шла о создании национального государства в далекой от Праги Палестине. В то же время для Франца было важным, чтобы этот интерес был добровольным, и он противился всякой его институализации: попытки Макса Брода навязать ему свой сионизм привели к временному взаимному охлаждению. Брод пишет в биографии своего друга, что он в ноябре 1913 года «мучил» его «приобщением к сионизму»[36]36
Брод, с. 163.
[Закрыть], а сам Кафка записывает в это время в дневнике: «Что у меня общего с евреями? У меня даже с самим собой мало общего…»[37]37
Дневники, с. 199.
[Закрыть]. Несколькими годами позже Брод случайно обнаруживает, что Кафка учит древнееврейский, но втайне от него. Что же до иудаизма, то с годами Франц, видимо, стал отделять его от собственно еврейства. В отношении иудаизма он оставался довольно холоден; по крайней мере об этом свидетельствует рассказ Брода. В 1916 году Брод повел Кафку к раввину-беженцу из Гродека, который жил в то время в Жижкове. Посещение это не произвело на Франца никакого впечатления. После этого Кафка с Бродом посетили хасидский молебен. Возвращаясь домой, Франц сказал своему другу: «Собственно говоря, это было похоже на дикое африканское племя. Ярко выраженное суеверие»[38]38
Брод, с. 178.
[Закрыть].
Отношение Франца к иудаизму, очевидно, определялось его отношением к отцу. Для него религия ветхозаветного Бога Отца была религией его собственного отца – Германа Кафки, несмотря на то что отец не был ревностным иудеем. Любые жизненные жесты Франца – прежде всего писательство и попытки жениться – должны были вести прочь с территории религии Отца, за пределы его власти[39]39
Даже вегетарианство Франца, которое, вероятно, было ответом на раблезианский аппетит убежденного мясоеда Германа Кафки.
[Закрыть]. О том, как национальное у Кафки переплелось с матримониальным, здесь уже говорилось. Теперь поговорим о том, как национальное вошло в одну из двух важнейших тем его творчества.
Две главные темы писателя Франца Кафки – «приговор» и «превращение». Первая есть не что иное, как тема «проклятия», – достаточно вспомнить рассказ «Приговор», с которого начинается «классический Кафка». Отец «приговаривает сына к казни водой», и тот бросается с моста в реку. Это – тема отцовского проклятия, тема проклятия Бога Отца, тема отцовской религии Ветхого Завета, тема иудаизма. Если в «Приговоре» отец приговаривает героя в ходе повествования, то в «Процессе» проклятие, иррациональный приговор уже вынесен заранее, до начала действия романа. Йозеф К. пытается доказать свою невиновность, однако он носит в себе чувство вины и оттого обречен. Приговор – это смертельная болезнь, с которой пытается, но не может справиться Йозеф К. Здесь Кафка выстраивает свое отношение к иудаизму – он может вести бесконечную тяжбу с религией Отца, но он обречен остаться в пределах власти этой религии. Проблематика топографии, перемещения в пространстве существует в «Процессе» лишь как нереализованная возможность избавления[40]40
В знаменитой притче путник должен лишь сделать движение, переместиться, войти в ворота, предназначенные только для него. Но он проводит жизнь в ожидании, бездействуя. Не переместившись, он не смог пережить превращение, трансформацию, метаморфозу в иное качество.
[Закрыть]. Вот эту – вторую – важнейшую тему Кафка развивает в первом и третьем своих романах: «Америке» и «Замке».
В «Америке» она представлена достаточно просто – в качестве темы ссылки. Франц Кафка хотел бежать – в Берлин, в Палестину, все равно. Карл Россман выслан в Америку «за то, что его соблазнила забеременевшая от него служанка»[41]41
Сочинения, т. 1, с. 289.
[Закрыть]. Освободиться от власти религии Отца и свободно обрести свою идентичность, в том числе и национальную, – вот о чем мечтал писатель. Берлин или Палестина являются для Кафки географическими точками, где должно про изойти определение его матримониального и национального статуса. Напротив, высылка Карла Россмана в Америку – высылка в никуда, на другую планету, в мир, свободный от национальных и прочих идентичностей. А вот в «Замке» дело обстоит, скорее, наоборот. В ландшафте власти, возведенном в этом романе, воплощена иерархическая национальная структура имперской Богемии[42]42
Воплощена постфактум, ибо роман писался после распада Австро-Венгрии и провозглашения независимости Чехословакии. Старая, имперская, многонациональная Прага стала превращаться в столицу национального государства. В этом смысле одним из возможных определений «Замка» может быть «исторический роман».
[Закрыть]. Крестьяне (под которыми подразумевались чехи) – внизу, в Деревне; господа всех рангов (немцы) – наверху, в Замке. Земле мер К., пытающийся приблизиться к Замку и одновременно наладить связи в Деревне, подозрительно похож на пражского еврея, собственно, на самого Кафку[43]43
О другом возможном месте еврея между немцами и чехами читаем у Яноуха: «Кафка рассказал, что пражский еврейский писатель Оскар Баум мальчиком ходил в немецкую школу. Обычно после занятий по дороге домой происходили драки между немецкими и чешскими школьниками. Однажды во время подобной потасовки Оскара Баума ударили пеналом по глазам, и у него отслоилась сетчатка, он ослеп. Еврей Оскар Баум потерял зрение как немец, каковым он, в сущности, никогда не был и каковым его никогда не считали. Может быть, Оскар – печальный символ так называемых немецких евреев в Праге» (Сочинения, т. 3, с. 522).
[Закрыть]. Надо сказать, что к моменту написания «Замка» в литературе Богемии уже существовали романы, которые описывали городские или сельские ландшафты, символизировшие национально-социальную иерархию. Как сообщает Макс Брод, Кафка еще в школе прочитал классический чешский роман Божены Немцовой «Бабушка»[44]44
Брод, с. 298–301.
[Закрыть], и именно он стал одним из литературных источников «Замка». Действительно, в «Бабушке» изображен мир немецких господ, живущих в поместье, которое расположено на горе. Под этой огромной горой находится чешская деревня, в ней живет главная героиня романа. Другой возможный литературный источник романа Кафки – «Вальпургиева ночь» Густава Майринка. Если у Немцовой (и у самого Кафки) герой смотрит снизу вверх, из Деревни на Замок, то у Майринка главный герой, немецкий придворный медик, всю свою жизнь проживший в Граде и никогда не спускавшийся в мир чехов, смотрит сверху вниз. Роман Майринка заканчивается мистической национальной чешской революцией – толпа чехов врывается в Град. У Кафки землемер К., напротив, несмотря на чудовищные усилия, ни на миллиметр не может приблизиться к Замку.
Но откуда это упорство? Зачем К. должен попасть туда? Ответ прост. Ему нужно, чтобы власть наверху, в Замке, подтвердила его статус землемера и в этом качестве легитимизировала внизу, в Деревне. Пытаясь передвигаться наверх, К. стремится тем самым обрести идентичность в обоих мирах – верхнем и нижнем. Пока же, до подтверждения своего статуса, он лишен любой идентичности: отсюда мучительная неопределенность и двусмысленность его положения. Мы даже не знаем, как выглядит К. (или Йозеф К. из «Процесса», о котором известно лишь, что у него черные глаза). Оба эти героя не имеют характерных черт внешности и не обладают, собственно, характером. Они не идентифицируются иначе, нежели через обстоятельства, в которые попадают либо в силу некоего загадочного приговора (в «Процессе»), либо в силу перемещения в некую топографическую точку (в «Замке»). Проблема национальной самоидентификации Франца Кафки находится именно здесь. Его «приговор», его «проклятие» – еврейство; топографическая точка, где (уже после вынесения «приговора») тянется нескончаемый и безрезультатный процесс его самостоятельной национальной (и не только национальной) идентификации, – Прага. Выходы из этой ситуации, которые Кафка пытался найти, – географическое перемещение, бегство в Палестину и сознательное признание своего еврейства (то есть превращение «проклятия», «приговора» в «выбор») или бегство в Берлин и женитьба, с которой связано новое определение его социального статуса, – все это не удалось. Идентификация предполагает выбор одного из многого, упрощение, «бритву Оккама»[45]45
О «бритве Оккама» применительно к Кафке пишет Роберто Калассо (Calasso R. K. N.Y.: Alfred A. Knopf, 2005).
[Закрыть], приводимую в действие силой воли. Пражская ситуация многоязычия, многоукладности, мультикультурности была для Франца Кафки невыносимой – она удерживала его, не давая привести в действие чудотворную бритву. Вместо простого взмаха руки Кафка был обречен на кошмарный процесс ежесекундного определения себя по отношению к еврейству, к немцам, к чехам. Сам этот процесс оказался единственно возможной его идентичностью. Франц Кафка не был ни «чешским», ни «немецким», ни «еврейским» писателем. Он не смог (и не мог) завершить поиски национальной идентичности, точно так же как не мог завершить все три своих романа. И в том и в другом случае представить себе окончание просто невозможно.
Франц Кафка умер, когда национально-культурный контекст Чехии, Праги уже радикально менялся. Распад Австро-Венгрии, создание двухнациональной Чехословакии, резкое ослабление немецкого элемента пражской жизни – все это привело к исчезновению условий, в которых мог возникнуть сам «казус Кафки». Национальное, даже порой националистическое, чехословацкое государство передало политическую, экономическую и культурную власть в стране титульным нациям, и те, кто к ним не принадлежал, отныне должны были определять свою идентичность по отношению к чехам и словакам. В Праге – только к чехам. Пражская немецкая литература в межвоенный период постепенно умирает, перед местными молодыми евреями, мечтающими о писательстве, уже не стоит тот выбор, который стоял перед Кафкой. Они должны писать на чешском. Вторая мировая война, немецкий протекторат окончательно очистили Прагу от нечешских национальных групп – евреи были уничтожены, немцев после войны выслали. В течение сорока с лишним лет чехословацкая столица была фактически моноэтническим городом с соответствующей (в некоторых случаях чрезвычайно развитой) культурой. Нельзя сказать, что у послевоенных чешских, пражских писателей не было тоски по «национальному другому». Например, один из лучших (если не самый лучший) из этих авторов, Богумил Грабал, населил свою прозу последним иноэтническим элементом, оставшимся в Праге и Чехии, – цыганами.
Ситуация вновь изменилась в 90-е годы. Прага опять стала разноязыкой. Сюда ринулись беженцы из бывшей Югославии, с Кавказа, приехали десятки тысяч экономических эмигрантов из Украины, Молдавии и даже России. Вьетнамская община Праги чуть ли не больше всех вышеперечисленных. Прагу наводнили туристы. В начале девяностых чешская столица – романтический и очень дешевый город – стала модным местом для жизни западноевропейской и американской молодежи; заговорили о «новом Париже двадцатых», а район Жижков называли даже «новым Сохо». И хотя Парижа из Праги не вышло, большинство приехавших быстро разочаровалось и вернулось домой (или откочевало в другие модные города, например в Берлин), здесь остались тысячи экс-патриатов, создавших свой, достаточно замкнутый, мир. Наконец, экономический рост привел в Чехию и Прагу тысячи иностранных бизнесменов. Нечехов в Праге сейчас гораздо больше, чем до Первой мировой войны. Однако это уже совсем иная ситуация, нежели, скажем, в 1913 году. Прага перестала быть местом национальной идентификации, иностранцы замкнуты здесь в собственных культурных гетто, связанных с метрополией, а не с местной господствующей культурой. В чешской столице живут десятки англоязычных, русскоязычных и даже франкоязычных литераторов, художников и музыкантов, однако у них не возникает проблемы идентичности – по крайней мере, в связи с окружающей их культурой. «Новый Кафка» в нынешней Праге невозможен – и не только потому, что каждый писатель, тем более великий, неповторим.
Настоящий август Франца Кафки
Разразилась война, безо всякого приличествующего уважения к писателям-изгнанникам…
Ричард Эллман
Вместо предисловия. Война и мир
14-го июля. Понедельник. Чудная погода продолжается. Утром погулял полчаса; затем принял Григоровича и в 12 ч. Танеева. Завтракали одни. От 3 час. поиграли в теннис. В 6 час. принял Маклакова. Интересных известий было мало, но из доклада письменного Сазонова [видно, что] австрийцы, по-видимому, озадачены слухом о наших приготовлениях и начинают говорить. Весь вечер читал.
15-го июля. Вторник. Принял доклад Сухомлинова и Янушкевича. Завтракали: Елена и Вера Черногорская. В 2 1/2 принял в Больш. дворце представителей съезда военного морского духовенства с о. Шавельским во главе. Поиграл в теннис. В 5 час. поехали с дочерьми в Стрельницу к тете Ольге и пили чай с ней и Митей. В 8 1/2 принял Сазонова, кот. сообщил, что сегодня в полдень Австрия объявила войну Сербии. Обедали: Ольга и Арсеньев (деж.). Читал и писал весь вечер.
Николаю Второму этих дневниковых записей[47]47
Даты здесь приводятся по старому стилю.
[Закрыть] (особенно «чудной погоды» и игры в теннис) не простили многие. На самом деле несчастного императора можно упрекать во многом, только не в отсутствии джентльменского спокойствия: война – войной (за время его правления это была третья, однако две первые происходили очень далеко от Европы), но не пристала же монарху обывательская истерика, как у героев Достоевского или Чехова (недаром, как отмечал Набоков, в царской семье автора «Крыжовника» считали декадентом). Война начинается, не первая, слава Богу, и не последняя; это драма, но не трагедия; наконец, долг православной России поддержать православную Сербию и – уже потом – республиканскую (и тем самым несколько сомнительную) союзную Францию. Такова была логика Николая Второго; многие сочтут ее опрометчивой, порочной и даже антигуманной, но она порождена социальным статусом автора дневника. Так, и никак иначе, война вторглась в жизнь русского императора – та самая война, что уничтожила его империю, а в конце концов и его самого́ вместе с семьей.
Что же до подданных русского императора, частных людей, обывателей, то в их сознание рубеж июля-августа 1914-го вошел без анестезии сословной дисциплины и сопровождался целым спектром страхов и надежд. Корней Чуковский записывает в тот же день 15 июля, когда Николай Второй играл в теннис, а потом Сухомлинов докладывал ему, что Австрия объявила войну Сербии: «Война… Бена берут в солдаты. Очень жалко». (Речь идет о Бенедикте Лившице, с которым Чуковский недавно сошелся.) Автор дневника продолжает: «У меня все спуталось. Если война, Сытинскому делу не быть. Значит, у меня ни копейки. Моя последняя статейка – о Чехове – почти бездарна, а я корпел над нею с января»[48]48
Чуковский К. И. Дневник (1901–1929). М.: Советский писатель, 1991. С. 68–69.
[Закрыть]. Журналист Чуковский реагирует на начало войны так, как и положено частному человеку: сожалеет о мобилизации приятеля, беспокоится о заработках, переживает по поводу неудачного текста. Война приходит в жизнь этих людей, императора и литератора, обычным для людей XIX века образом, как пока еще отдаленное событие, довольно страшное, но не роковое, одно из ряда исторически подобных. Никто не догадывался, что характер войны решительно переменится, что она станет тотальной, мировой и что мир по ее окончании тоже превратится в тотальный, тоталитарный, причем по обе стороны линии фронта – и в России, и, несколько позже, в Германии.
В этом смысле начало Великой Отечественной для советского человека, уже имевшего опыт тоталитаризма, выглядело иным. Об этом пишет Лидия Гинзбург в «Записках блокадного человека». «Записки» начинаются фактически с описания того, как война вторгается в мирную жизнь и мгновенно обессмысливает все ее ритуалы и автоматизм. Трамваи продолжают ходить, гонорары – выплачиваться; однако в новой перспективе, в новой телеологии это уже не имеет значения. И здесь главное отличие от реакции на войну людей предыдущей исторической эпохи, того же Николая Второго или Корнея Чуковского, тех, кого по типу исторического сознания можно назвать еще «людьми XIX века», кто встречал такие известия подобно героям Толстого. В «Войне и мире» война не мешает обычной жизни – до тех пор, пока люди не сталкиваются с ней непосредственно. А вот в «настоящем XX веке» война проникает в жизнь мгновенно, и одним из инструментов тотального ее проникновения и мгновенного разрушения мирного уклада (даже в тех местах, которые отделены от фронта сотнями километров) становится техника. Еще до того как немецкие самолеты начали бомбить Ленинград, война пришла к ленинградцам (равно как и к горьковчанам, свердловчанам и владивостокцам) через репродуктор радиоприемника: «Образовалась новая действительность, небывалая, но и похожая на прежнюю в большей мере, чем это казалось возможным»[49]49
Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство – СПБ, 2002. С. 613.
[Закрыть]. Трамваи еще ходят, гонорары – выдают, а действительность – новая. Это – действительность сознания, которая потом, с началом бомбежек и голода, становится физической действительностью непосредственной близости смерти.
Но вернемся в 1914 год. Франц Кафка – а его считают чуть ли не главным экспертом XX века по тоталитаризму – заметил начало Первой мировой только 31 июля, через три дня после того как Австро-Венгрия, подданным которой он являлся, вторгается в Сербию (ни одного упоминания предшествующих событий, начиная от убийства эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, в его дневнике нет): «У меня нет времени. Всеобщая мобилизация»[50]50
Все цитаты из дневников Франца Кафки приводятся по изд.: Кафка Ф. Дневники… Одному пассажу во вступительной статье к изданию я обязан побуждением написать этот текст.
[Закрыть]. Целый август 1914 года, уже когда война действительно стала всеобщей, Кафка едва замечал ее, будучи погружен в частные переживания и литературные планы. Впоследствии стало ясно, что этот месяц оказался чуть ли не самым важным в его писательской судьбе. В нижеследующем тексте я попытаюсь набросать схему механизма, связывающего почти незаметную жизнь страхового клерка, писателя-дилетанта Франца Кафки с невиданным доселе миром тотальной войны.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?