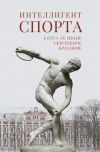Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Мария Гельфонд
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Нижний Новгород
Поэтика жанров поздней лирики Боратынского
Представление о Боратынском как поэте-элегике сложилось в самом начале его поэтической деятельности. Пушкинский отзыв об элегии «Признание» в письме к А. Бестужеву от 12 января 1824 года: «Баратынский – прелесть и чудо; „Признание“ – совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий»,6565
Летопись: 134
[Закрыть] – закрепил и канонизировал эту репутацию. Впоследствии она оказалась естественным образом спроецированной на лирику Боратынского 1830ых – первой половины 1840ых годов. Выход поэта за пределы элегического жанра, расширение тематического, образного, эмоционального диапазона его лирики практически не изменили жанрового кода ее прочтения. Едва ли не все, написанное Боратынским (за исключением, разумеется, нарративных поэм и эпиграмм), традиционно воспринималось в рамках вариаций элегического жанра. Точную и впоследствии многократно цитированную в различных работах о Боратынском формулу элегичности как жанрового видения мира нашел в 1838 году Н. А. Мельгунов, назвавший Боратынского «элегическим поэтом современного человечества».6666
Мельгунов: 72.
[Закрыть] Эти слова Н. А. Мельгунова цитирует в своей статье о Боратынском С. Г. Бочаров, говоря о том, что «единство пути поэта и укорененность философской поэзии „второго периода“ почувствованы здесь точно»6767
Бочаров: 82.
[Закрыть] и генезис поздней лирики Боратынского лежит именно в сфере его ранних элегий. Эти же слова приводит в своих работах о Боратынском И. Л. Альми, видя в них своего рода ключ к среднему и позднему периодам творчества поэта6868
Альми: 157.
[Закрыть].
Не оспаривая такого подхода к поэзии Боратынского в целом, попробуем уточнить его, исходя из того, что поздняя лирика поэта не может быть описана в едином жанровом ключе. Более того, при всем обилии посвященных Боратынскому прекрасных работ, вопрос о поэтике жанров его поздней лирики не только не решен, но и не сформулирован достаточно отчетливо. Неслучайно в лучших работах о Боратынском говорится о жанровой уникальности ряда его зрелых стихотворений: так, лирическая миниатюра «Мой дар убог и голос мой не громок…», по мысли С. Г. Бочарова, тяготеет к «памятнику»6969
Бочаров: 72—73
[Закрыть], И. Л. Альми определяет «Последнюю смерть» как «единственную в своем роде лирическую антиутопию»7070
Альми: 163.
[Закрыть], а «Осень» – как форму философской исповеди7171
Альми: 187.
[Закрыть]. Сильное одическое начало, присущее «Осени», отмечает В. И. Козлов.7272
Козлов: 253—272.
[Закрыть] О неслучайности заголовка «Антологические стихотворения» при первой публикации цикла из пяти миниатюр пишет С. А. Фомичев.7373
Фомичев: 159—166.
[Закрыть] Связь ритмической природы «Последнего поэта» с балладной традицией показана в работе А. И. Журавлевой7474
Журавлева: 134—135.
[Закрыть]. И все же можно предположить, что магистральный путь позднего Боратынского был связан не столько с открытием уникальных жанровых образований или переосмыслением старых, сколько с резким и неожиданным соединением различных жанровых установок. По точному замечанию Л. Я. Гинзбург, поздний Боратынский – это «поэт индивидуальных контекстов и совмещенных противоречий».7575
Гинзбург: 80.
[Закрыть] Если элегической эмоции, по словам В. А. Грехнева, была свойственна установка на «универсальность» и «всеохватность»7676
Грехнев: 120—121.
[Закрыть], то лирическая эмоция Боратынского 1830—1840ых тяготеет скорее к динамике, неустойчивости, ситуативности. При этом сам ее диапазон отнюдь не вмещается в элегические рамки: наряду с «разуверением» и разочарованием ранних элегий в зрелую лирику Боратынского проникают раздражение и обида на современников, самоумаление и самоутверждение, стремление соотнести случайное, ситуативное и всеобщее, вневременное. В произведениях 1830—1840ых годов Боратынский словно бы выходит в те сферы бытия, которые каноническая жанровая система (к тому времени уже распадавшаяся) была не в силах вместить. Постепенный распад системы канонических жанров практически совпал по времени с отходом Боратынского от литературной деятельности и выбором им пути «мурановского отшельника». Вероятно, в свете его философской рефлексии распад жанровой системы непосредственно соотносился с распадом «плеяды», с одной стороны, и цельности видения мира – с другой. Речь, таким образом, шла не об отказе от жанровых канонов: впитавший, по слову А. Дельвига, «правила французской школы…. с материнским молоком»7777
Летопись: 143
[Закрыть], Боратынский остро нуждался в них как в смысловых ориентирах, удерживающих распадающийся мир. Но ориентиры эти смещались.
Все это привело к тому, что различные жанровые установки в лирике Боратынского 1830—40ых годов оказались сплавленными самым неожиданным образом, Так, одическое начало остро и драматически соединяется с элегическим («Осень»), элегия перерастает в инвективу, которая в свою очередь разрешается идиллией («На посев леса»), заздравный гимн соединяется с лексикой дружеского послания и лирическим сюжетом духовной оды («Бокал»), мадригал взаимодействует с эпиграммой («Всегда и в пурпуре и в злате…»), поэтический травелог – с элементами духовной оды («Пироскаф»). При этом рудименты каждого жанра – стилистические, ритмические, образные – сохраняют свою узнаваемость, часто определяемую как присущую Боратынскому архаичность.
В свою очередь можно предположить, что именно в этом неожиданном столкновении разных жанровых канонов крылась как минимум одна из причин читательского непонимания поздней лирики Боратынского: заданный жанром «горизонт ожиданий» предполагал определенный путь восприятия. Жанровая перекодировка разрушала эти читательские ожидания и провоцировала непонимание. Но именно читательское непонимание («Ответа нет! Отвергнул струны я…») осознавалось Боратынским как катастрофа – и тем самым ставило перед необходимостью новых жанровых поисков, поскольку канонические жанры практически не предусматривали рефлексии, направленной на отношения с читателем. Ситуация замыкалась – «круг понимания» оставался разомкнутым.
Попыткой нового «оцельнения»7878
Большухин: 96—104.
[Закрыть] лирического мира стало создание первой в русской поэзии «книги стихов» – цикла «Сумерки». Но мы остановимся не на «Сумерках» как «лирическом единстве»,7979
Альми: 187.
[Закрыть] поскольку оно было многократно осмыслено8080
Альми: 178—205; Дарвин: 3—8; Кушнер: 178—188.
[Закрыть], а на ряде поздних текстов, как включенных в «Сумерки», так и созданных после выхода книги стихов. Выбор анализируемых стихотворений почти произволен: с одной стороны, перед нами, безусловно, ключевые для позднего Боратынского произведения, с другой, здесь наглядно представлена та контаминация жанров, о которой шла речь выше. Вместе с тем, ни одно из этих стихотворений (в отличие, допустим, от «Осени» или «Последнего поэта») не становилось предметом специального анализа в жанровом аспекте.
Открывающее книгу «Сумерки» стихотворение «Князю Петру Андреевичу Вяземскому», несомненно, восходит к жанрово-семантическому канону дружеского послания. Прежде всего, об этом свидетельствует авторское определение жанра – в начале ноября Е. А. Боратынский пишет С. Л. Энгельгардт: «По будущей почте пришлю тебе послание к Вяземскому».8181
Летопись: 324
[Закрыть] Характерное для послания заглавие фиксирует образ адресата, но обращение к реальному лицу – князю Петру Андреевичу Вяземскому – приобретает здесь новый смысл: это перекличка «звезд разрозненной плеяды», тогда как поэтический мир дружеского послания строился на представлении о нерушимой целостности круга, «упоительном ощущении литературной общности»8282
Грехнев: 34.
[Закрыть]. Семантический канон дружеского послания почти незаметно, но значительно смещается относительно своих прежних границ.
М. Н. Виролайнен в специальной работе, посвященной дружескому посланию 1810ых годов, выделяет в качестве основных такие его мотивы, как «отказ от всех сует света, скромное уединение в деревенском доме <…>, наслаждение природой, чтением, дружеский пир, в связи с которым так или иначе возникают напоминания о быстротечности жизни, и специфически оформленный мотив смерти»8383
Виролайнен: 41.
[Закрыть]. Все эти мотивы в стихотворении Боратынского, с одной стороны, остаются вполне узнаваемыми, с другой, – преображаются в новом смысловом контексте. Отказ от суетных радостей жизни и счастливое уединенье по ходу развития лирического сюжета перерастают едва ли не в добровольное заточение, наслаждение природой – в мучительную обреченность на созерцание «степей мира», дружеское пиршество – в «жаркую и живую» тоску по тому кругу, с которым хотел бы, но уже не сможет в силу не столько реальных причин, сколько роковых обстоятельств, воссоединиться лирический герой:
Счастливый сын уединенья,
Где сердца ветреные сны
И мысли праздные стремленья
Разумно мной усыплены;
Где другу мира и свободы,
Ни до фортуны, ни до моды,
Ни до молвы мне нужды нет;
Где я простил безумству, злобе
И позабыл, как бы во гробе,
Но добровольно, шумный свет, —
Еще порою покидаю
Я Лету, созданную мной,
И степи мира облетаю
С тоскою жаркой и живой. [Баратынский 2000: 249]
Свойственное дружескому посланию пространство на границе жизни и смерти, по обоим берегам Леты, вполне сохраняется у Боратынского, но речь теперь идет не о причастности к поэтическому бессмертию, а об уходе от мира общих ценностей. Почти обязательный итоговый мотив «пира избранных» или «симпозия»8484
Баратынский 2000: 62
[Закрыть] утрачивается, а лирический сюжет оказывается диаметрально противоположным по отношению к жанровому канону. Если в традиционном послании он строился на преодолении границ индивидуального бытия в пользу всеобщего, то в финале стихотворения Боратынского как раз индивидуальное бытие оказывается единственно возможной стратегией жизни не только для лирического героя, но и для его адресата:
Звезда разрозненной плеяды!
Так из глуши моей стремлю
Я к вам заботливые взгляды,
Вам высшей благости молю.
От вас отвлечь судьбы суровой
Удары грозные хочу,
Хотя вам прозою почтовой
Лениво дань свою плачу. [Баратынский 2000: 50]
Тот идеал, который культивировался дружеским посланием и предполагал устремленность в открытое, незаданное, непредсказуемое будущее, остается в прошлом, что предполагает скорее элегический код прочтения. Отсюда и элегические формулы: «брошены судьбами», «молящий глас»», «упоенье», «скорбный час», вплетающиеся в дружеское послание и фиксирующие свойственный ему мир как утраченный. В то же время переосмысливается и идиллическая топика «глуши», от которой отталкивалось лирическое послание8585
Теория: 123.
[Закрыть] – бытие в ней перестает быть желанным, но при этом предполагает высокий стоицизм и возможность заботы о другом, так же отъединенном от мира.
Можно предположить и еще два значимых жанровых контекста стихотворения, открывающего «Сумерки». Первый из них – описательная поэма Боратынского «Пиры», близость к которой подчеркивается семантикой метра и строфики. Поэт обращается не к «бегущему, летящему трехстопному ямбу»8686
Виролайнен: 48.
[Закрыть] «Моих пенатов» К. Н. Батюшкова и их многочисленных отзвуков, а к ямбу четырехстопному, причем первая часть астрофического послания князю Вяземскому состоит из тринадцати строк с чередованием перекрестной, парной и опоясывающей рифм, что напоминает о тринадцатистрочной строфе «Пиров», хотя и не тождественно ей. В то же время ритмико-строфическая модель послания, вероятно, отсылает и к пушкинскому роману в стихах, а на лексическом уровне непосредственно перекликается с его посвящением:
Вам приношу я песнопенья,
Где отразилась жизнь моя:
Исполнена тоски глубокой,
Противоречий, слепоты
И между тем любви высокой,
Любви, добра и красоты.
Резонанс первого стихотворения «Сумерек» с «Евгением Онегиным» не ограничивается семантикой метра и строфики. В лирическом герое послания легко угадываются узнаваемые «онегинские» черты – отшельничество, сознательный отказ от «моды», «молвы», «шумного света». Вероятно, этот контекст связан с адресатом – князем Вяземским, эпиграф из элегии которого «Первый снег» предваряет первую главу пушкинского романа. Но возможна здесь и более глубокая связь. И. Л. Альми убедительно показала общий комплекс психологических черт, свойственных лирическому герою ранних элегий Боратынского, в частности, «Признания», и герою пушкинского «романа в стихах»8787
Альми: 146—147.
[Закрыть]. Исходя из этой аналогии, можно предположить, что герой послания наделен чертами Онегина – но того будущего Онегина 1830ых, который остается в открытой перспективе пушкинского романа. Так дружеское послание в поздней лирике Боратынского выходит за рамки канона, подключая к неожиданному переосмыслению смежные с ним жанры.
Еще более резкое столкновение канона дружеского послания с другими лирическими жанрами разворачивается в «Бокале». Отметим, прежде всего, переадресацию с лица на предмет, которая прежде была допустима лишь в шутливом изводе жанра – «Прощании с халатом» П. А. Вяземского (1817) или пушкинском «К моей чернильнице» (1821). В «Бокале» эта переадресация обретает особую, необычную серьезность – произведение, варьирующее мотив дружеского пиршества, обращено к бокалу как единственному собеседнику. Топика дружеского пира претерпевает резкую метаморфозу: в центре лирического сюжета оказывается одинокий пир – ситуация парадоксальная и потому выходящая за границы жанрового мышления. В ранней лирике Боратынского эта ситуация была связана с элегическим унынием («Рассеивает грусть пиров веселый шум…»)8888
Гельфонд: 63—64.
[Закрыть]; в «Бокале» оказывается в неожиданном контексте пророческого прозрения. Отсюда – намеченный выход в жанровую сферу, близкую к псалму или духовной оде.
Топика дружеского послания представляет собой как бы верхний, поверхностно-ситуативный слой «Бокала». Образы бокала, «буйных оргий», свободы мыслей и снов, круговой чаши возвращают нас к дружескому посланию 1810ых годов и позднейшим вариациям темы – в частности, к «Пирам». Однако ближайший прообраз лирической ситуации вновь оказывается пушкинским – это начало «19 октября» 1825 года с анафорическим «Я пью один…», переакцентированном в финале «Бокала»:
И один я пью отныне!
Не в людском шуму пророк —
В немотствующей пустыне
Обретает свет высок!
Разумеется, мотив одинокого пиршества предполагает в принципе не свойственный дружескому посланию сюжет. Но в «19 октября» память жанра еще сильна на сюжетном уровне – и лирический герой силой мысли переносится к пирующим вдали от него друзьям. «Одиночество, – пишет об этой метаморфозе И. З. Сурат, – оказывается временным состоянием, тоска – поверхностным чувством, над всем этим торжествует лицейская дружба, не колебимая разлукой. Унылая элегия превращается в заздравную „вакхическую песнь“ – меняется образность, словарь, настроение, происходит праздничное преображение действительности»8989
Сурат: 156
[Закрыть].
Лирический сюжет – и вместе с ним жанровая природа «Бокала» —принципиально иные. Боратынский так же идет от дружеского послания и заздравной песни – но в противоположном направлении. «Одинокое упоенье» не разрушается силой мысли и воображения, а напротив, поднимается до той высшей ступени, в котором герою являются «откровенья преисподней иль небесные мечты». Его итог – прозрение, аналогичное тому, которое совершается в пушкинском «Пророке»:
Не в бесплодном развлеченье
Общежительных страстей —
В одиноком упоенье
Мгла падет с его очей.
Откровение связано не с мистической встречей, а с «одиноким упоеньем», но это не отменяет высокой подлинности лирического события. «Тревожный» семантический ореол четырехстопного хорея обретает неожиданную торжественность; высокая архаика последних строк не просто перекодирует жанровый код дружеского послания – она выводит его в совершенно новую сферу. Вероятно, перед нами один из примеров, позволяющих понять недоумение читателей-современников Боратынского: столкновение разных моделей реальности выходило за границы их жанровых ожиданий.
Сложный жанровый контекст сохраняется и в тех произведениях, которые были созданы после выхода «Сумерек» и воспринимаются как итоговое лирическое высказывание Боратынского. Прежде всего, это стихотворение «На посев леса» – своеобразный эпилог по отношению к «Сумеркам», и в особенности, к «Осени», который завершает тему поэтического слова и ставит точку в многолетней попытке поэта наладить диалог с современниками:
Ответа нет! Отвергнул струны я,
Да хрящ иной мне будет плодоносен!
И вот ему несет рука моя
Зародыши елей, дубов и сосен.., [Баратынский: 297—298]
Современники Боратынского прочитали «На посев леса» через два года после смерти поэта и восприняли его как инвективу, имеющую конкретного адресата. П. А. Плетнев комментировал: «У Баратынского „скрытый ров“ означает намек на разные пакости, которые в Москве ему делали юные литераторы, злобствуя, что он не делит их дурачеств.… Свои рога есть живописное изображение глупца в виде рогатой скотины. Все последние четыре стиха оттого непонятны, что я не припечатал пояснения, бывшего в подлиннике. Баратынский это писал, насадивши в деревне рощу дубов и сосен, которую и называет здесь дитятей поэзии таинственных скорбей, выражая последними словами мрачное расположение души своей, в каком он занимался и до какого довели его враги литературные».9090
Переписка: 728—729.
[Закрыть] Заданная этой заметкой традиция прочтения стихотворения закрепилась в позднейшей комментаторской практике, но если П. А. Плетнев в качестве «врагов литературных» видел кружок Станкевича, то В. Я. Брюсов – персонально Белинского, а Е. Н. Купреянова и Л. Г. Фризман – круг журнала «Московитянин»9191
[битая ссылка] Брюсов В.; Баратынский 1936: 281; Фризман: 666—667.
[Закрыть].
Оставив в стороне «литературные отношения Боратынского» (В. Э. Вацуро), обратимся к жанровой природе произведения. Это – единственное стихотворение 1840ых годов, жанр которого был обозначен в рукописи как «элегия»9292
Боратынский: 116—123.
[Закрыть], и действительно, первые его строфы отчетливо отсылают читателя к одной из узнаваемых элегических тем – пробуждению природы, на которое не может откликнуться душа лирического героя. Но, начиная с четвертой строфы, элегическая традиция сталкивается с инвективой, в свою очередь восходящей к образности седьмого псалма («Рыл ров и выкопал ее, и упал в яму, которую приготовил»)9393
Фризман: 666—667.
[Закрыть]:
Велик господь! Он милосерд, но прав:
Нет на земле ничтожного мгновенья;
Прощает он безумию забав,
Но никогда пирам злоумышленья.
Кого измял души моей порыв,
Тот вызвать мог меня на бой кровавый;
Но подо мной, сокрытый ров изрыв,
Свои рога венчал он падшей славой!
Личное обращение к читателям-современникам, их обвинение, граничащее с оскорблением – тот смысловой пласт, который был немыслим в элегии. Но если элегия требовала понимающего сознания, идиллия могла обойтись без него. Отсюда – неожиданное разрешение яростной инвективы, обращенной к современникам новой, парадоксально трагической идиллией: герой сажает рощу как замену написанных и ненаписанных стихов. Притче о сеятеле – еще одному вероятному источнику сюжета – возвращается тем самым буквальный смысл:
И пусть! Простяся с лирою моей,
Я верую: ее заменят эти,
Поэзии таинственных скорбей,
Могучие и сумрачные дети.
Очевидно, что сложнейший лирический сюжет – отказ от поэтического слова в пользу практической деятельности, едва ли не предвещающий случай Льва Толстого, – потребовал не просто переосмысления, а резкого столкновения принципиально разных жанров.
В завершение обратимся к «Пироскафу», жанровая природа которого не менее сложна. За автобиографическим травелогом (обстоятельства предсмертного путешествия Боратынского из Марселя в Неаполь, во время которого «Пироскаф» был написан, достаточно известны) встают жанрово-стилевые традиции, отсылающие читателя к духовной оде XVIII века. «Пироскаф» предстает торжественным гимном человеку и бытию, причем одическое (или гимническое) начало разворачивается на всех уровнях – композиционном (строгая симметрия шести шестистрочных строф); лексическом, интонационном («Пеною здравия брызжет мне вал!»). Разумеется, в контексте судьбы Боратынского, предсмертный «Пироскаф» прочитывается иначе – как странная радостная устремленность навстречу смерти. «Отраженный свет смерти поэта, – пишет А. В. Кулагин, – придает стихам в нашем восприятии трагическую ноту, и никакая объективная реальность „жизнерадостного текста“ не может эту ноту отменить»9494
Кулагин: 220.
[Закрыть]. В нашем восприятии «Пироскафа» сталкиваются уже не разные жанровые установки, а жанровое ожидание и внетекстовая реальность. Смерть дописывает стихи поэта, невольно становясь его соавтором:
Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду; мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я бани Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной! [Баратынский 2000: 300]
Таким образом, пристальное прочтение нескольких поздних стихотворений Е. А. Боратынского опровергает представление о нем как исключительно об элегическом поэте. Столкновение разных жанров, мгновенное переключение кодов восприятия, апелляция к разным ценностным системам определяет мир позднего Боратынского как мир неразрешимых противоречий. Эти противоречия затруднили восприятие лирики Боратынского его современниками. Но они же неожиданно сделали ее притягательной для «читателей в потомстве» – поэтов ХХ века.
ЛИТЕРАТУРА
Альми – Альми И. Л.. О поэзии и прозе. – СПб.: Издательство «Семантика-С» совместно с
издательством «Скифия», 2002.
Баратынский 1936 – Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений: в 2 т. / Ред., коммент. и
биогр. Ст. Е. Купреяновой, И. Медведевой. Л.: Сов. Писатель, 1936
Баратынский 2000 – Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. СПб., 2000.
Большухин – Большухин Л. Ю. Распад жанров и новые способы оцельнения художественного мира
в лирике Маяковского //Новый филологический вестник №2 (7), М.: 2008. С. 96—104.
Боратынский – Боратынский Е. А. Полное собрание сочинений и писем. Том 3, часть 1. М., Языки
славянских культур, 2012.
Бочаров – Бочаров С. Г. О художественных мирах. М.: Советская Россия, 1985.
Брюсов – Брюсов В. Я. Баратынский Е. А. // Новый энциклопедический словарь. – Пг.: Изд. дело
бывш. Брокгауз-Ефрон, 1911 – 1916. Т. 5. Стб. 173 – 180.
Виролайнен – Виролайнен М. Н. Две чаши (О дружеском послании 1810-х годов) // Русские пиры
(Альманах «Канун», Вып. 3), СПб., 1998, с. 41.
Гельфонд – Гельфонд М. М. Тема одинокого пира в поздней лирике Боратынского / М. М. Гельфонд
/ Преподавание и изучение русского языка и литературы в контексте современной языковой политики России: материалы 4 Всерос. науч.-практ. конф. РОПРЯЛ. Н. Новгород, 2002. – С. 63—64.
Гинзбург – Гинзбург Л. Я. О лирике. М.: Интрада, 1997
Грехнев – Грехнев В. А. Мир пушкинской лирики. Нижний Новгород, 1994
Журавлева – Журавлева А. И. «Последний поэт» Баратынского. // Проблемы теории и истории.
Сборник статей, посвященных памяти проф. А. Н. Соколова. М., 1971, с. 134—135.
Козлов – Козлов В. И. Сумма элегий: «Осень» Баратынского // Вопросы литературы, 2014, №4.
253—272.
Кушнер – Кушнер А. С. Книга стихов. Вопросы литературы. 1975. N 3. С. 178—188.
Кулагин – Кулагин А. В. Поэтические маршруты «Пироскафа» // Кулагин А. В. Пушкин. Источники.
Традиции. Поэтика. Коломна, 2015.
Летопись – Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского. 1800—1844. М.: Новое литературное
обозрение, 1998.
Мельгунов – Мельгунов Н. А. Письмо Краевскому А. А. от 14 апреля 1838года. // Отчет
Императорской публичной библиотеки за 1895 г. СПб., 1898, Приложения, с. 72.
Переписка – Переписка Грота с Плетневым, СПб, 1896, т. 2.
Сурат – Сурат И. З. Событие стиха // Новый мир, 2006, №4.
Теория – Теория литературных жанров: учеб. Пособие для студ. учреждений высш. проф
образования / М. Н. Дарвин, Д. М. Магомедова, В. И. Тюпа. М.: «Академия», 2011.
Фомичев – Фомичев С. А. «Читателя найду в потомстве я…»// Фомичев С. А. Пушкинская
перспектива. М., 2007
Фризман – Фризман Л. Г. Примечания // Е. А. Баратынский. Стихотворения. Поэмы. Серия
«Литературные памятники». М., Наука, 1982, с. 666—667
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?