Текст книги "Плавучий мост. Журнал поэзии. №1/2018"
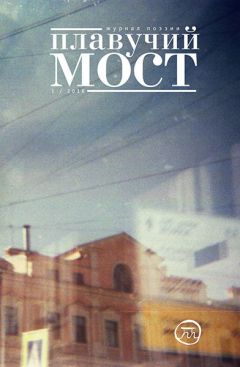
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Журналы, Периодические издания
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Коллектив авторов
Плавучий мост. 1/2018
© Редакция журнала «Плавучий мост», 2018
© Waldemar Weber Verlag, Аугсбург, 2018
Авторы публикаций, 2018
Поэзия и время
Виталий Штемпель. Поэзия как единое пространство
Вот уже в 17-й раз, с интервалами в три месяца, журнал «Плавучий мост» выходит в свет. Пытливый читатель, конечно же, заметит, что между первым и последующими номерами журнала – большая содержательная разница. Постепенно лицо его, уходя от простой антологичности, приобретало именно облик журнала. Это результат той работы, которую ведут его редакторы совместно с авторами. Для нас именно автор является главным действующим лицом журнала. Здесь обращаюсь к единственному числу, поскольку каждый автор индивидуален, привносит своё понимание поэтического слова. Мы делаем всё, чтобы авторский круг журнала постоянно расширялся. Естественно и то, что всё больше становится тех, кто имеет по две и более публикаций в журнале. Вот и в этом номере вновь представлены подборки Владимира Алейникова, Марии Ватутиной, Марины Кудимовой, Андрея Санникова. Поэтов, интерес к творчеству которых, сохраняется уже на протяжении многих лет.
Несколько слов о редакторском составе журнала. Одни из них – Вальдемар Вебер, Вячеслав Куприянов, Вадим Месяц, Тим Собакин – стоят у его истоков, во многом сформировали его лицо. Приход Андрея Таврова – поэта, с необыкновенным поэтическим зрением, опытного редактора; Александра Шмидта, мастера свободного стиха, сумевшего «привить» нежность и проникновенность традиционного стиха верлибру; Сергея Ивкина – ещё молодого по современным меркам, но уже состоявшегося поэта, настоящего сподвижника; Надежды Кондаковой, творчество которой давно знают и ценят многие любители поэзии, редактора с огромным опытом, дали журналу новые импульсы. Хотелось бы выразить благодарность Андрею Бауману, Герману Власову, Вадиму Молодову, Юлии Белохвостовой, много сделавшим для журнала, но по разным причинам вышедшим из редакционного состава. Популярность сайта журнала – во многом заслуга самобытного поэта, интересного собеседника Ольги Афиногеновой, модерирующей страницу журнала на фейсбуке. Бумажное издание получило своё новое воплощение благодаря московскому поэту, издателю Вячеславу Кожемякину. Особая признательность – художнику, дизайнеру Ивану Граве (Санкт-Петербург). Мы рады помощи и содействию известных поэтов и литераторов. Среди них – Владимир Алейников, Евгений Витковский, Нина Габриэлян, Геннадий Калашников, Ольга Постникова.
Что нами двигает в нашей работе? Вера в объединяющее начало поэзии. Желание видеть поэзию, как единое пространство, вне зависимости от географического местоположения и стилевых пристрастий её творцов. Мы открыты для всех. Но эта открытость должно быть обоюдной. О состоявшейся публикации можно говорить лишь тогда, когда она приносит удовлетворение, возможно, и радость автору. Поэтому мы даём право каждому из них быть соредактором собственной публикации. Это позиция журнала, заложенная в его проекте. Мы хотим быть нужными. Нашим авторам, нашим читателям. Менее всего – тем, кто хотел бы управлять нами. Если мы независимы, то это значит лишь то, что строим наши отношения на взаимоуважении. Велеречивость поэзии – в прошлом. Она уже не может быть просто словами, просто смыслами, заключёнными в образы. Она проникает в глубины слова, ищет новые его смыслы. Она выходит за грани образов и создаёт новый надмирный мир. Отрываясь от реальности, она возвращается к ней, чтобы дать ей новое осмысление. Она ищет и находит себя там, где прежде было место лишь шаманской медитации. Она ищет в человеке человеческое, – даже если при этом удивляется тому, как мало в нём его осталось. Она отметает добро, ради того, чтобы это добро возвысить. Самоучижение ради возвышения? И да и нет.
Поэзия не умеет прощать, ибо она – сама память. Но как любая память, она обладает способностью подниматься над низменным и призывает нас всех оставаться собою. Мысль, даже самая верная, но повторенная многократно, становится идеологией. А она – несовместима с поэзией. Я не верю в последнего поэта, пишущего о любви. Тема любви – непреходящая. Только через призму любви возможно видеть прекрасное в этой жизни. Мне очень близка мысль Гёте: «Самое прекрасное, на что способен человек – это удивляться.»
Мы не даём рецептов – как писать, о чём писать. Бенн предостерегал молодых авторов от сравнительных образов. Но вспомним, что другой большой поэт – Пастернак – без них немыслим. Наверное, найти себя, свой стиль, свою манеру письма – это то, к чему должен стремиться каждый. Современная поэзия включает в себя опыт тысячелетий. Дух шумерских наскальных текстов, анакреонтические мотивы, классическая гармония, – разве всё это нам чуждо? Мне хочется закончить это вступление строками из стихотворения Надежды Кондаковой, в которых прослеживается не только заповедь христианская, но и общечеловеческая:
…Мир разрывая на части,
цельность от боли круша,
вновь недостойна Причастья,
гневом палима – душа.
Давайте помнить об этом.
Виталий Штемпель, руководитель проекта, редактор.
Берега

Мария Ватутина. Стихотворения
Поэт. Родилась в Москве 4 мая 1968 г, окончила Московский юридический институт (1995) и Литературный институт (2000, семинар Игоря Волгина). Член Союза писателей России с 1997 года по 2011 год. С 2012 года – член Союза писателей Москвы. Первая публикация – в 1995 году. Работала юристом, адвокатом, журналистом; последние 7 лет – выпускающий редактор юридического журнала. Автор 11 книг, лауреат ряда литературных премий.
* * *
Зима, Мария, пустота.
И вечный разговор с собою,
И препирательства с судьбою,
Уж чересчур она проста.
Мне ясности не надо столь,
От ясности с ума и сходят.
Ее назвали непростой,
Она – простая, скулы сводит!
И предсказуема, как зим
Российских черных неизбежность.
Талант – проверка на прилежность.
Привет! Давай поговорим
Не обо мне, а о тебе,
Я знаю, ощущаю кожей:
Погрешности в моей судьбе
Похожи на твои, прохожий.
Я о себе, но я – о нас,
Я – переписчик, ученица.
Но то, в чем я разобралась,
Глядишь, тебе на что сгодится.
Я не великого ума,
Умен диктовщик, небом залит.
А набело уже зима
Все перепишет и подправит.
* * *
Теперь посадим дерево. Слюною
Польем. Скопила нежность, так не жмись.
Мужчина – если станется со мною —
Уже по двум подпунктам прожил жизнь.
Он сам в себе едва вмещает опыт:
Жену в домашнем три часа с сестрой,
И первую в домашнем же, и топот
Детей из школы, дачу-самострой,
Родителей про страшные болезни,
И в тамбуре, и бархатный сезон…
Войдет, а я скажу ему: исчезни,
Не весь, а только память! Выйди вон!
Давай на равных, я-то ведь мотала
Свои срока в местах, где жизнь стоит.
Я всякую возможность отметала
Жить до тебя. Вот тело и болит.
Не дай ко мне ни слову просочиться
О доме и о сыне вдалеке.
Бери лопату. Вот тебе водица.
Вот мысленный побег на черенке.
* * *
Я люблю тебя, как в кино,
В черно-белом цвете.
Я люблю тебя так давно,
Что могли бы вырасти дети.
Проверяю себя – да нет,
Я вживую, я – не играю.
Только с давних-предавних лет
Я чужое не отбираю.
Вот и длится сплошной туман,
То густой, то прозрачней шелка.
Не роман у нас, не роман
Запасная любовь и только.
Положили на полку, как
Говорится, бобины с пленкой,
Где недолжный угадан брак
Барабанною перепонкой.
Там другой вариант отснят,
Но цензурой изъят усталой.
Там детей голоса звенят,
Впрочем, внуков уже, пожалуй.
* * *
Живые живите. А мертвым пора умирать.
К кому присоседиться, с кем в догонялки сыграть?
Живые живите, а мне мое пекло печет.
И дней мне – по пальцам прозрачным наперечет.
Течет между пальцев песок, убегает вода.
В любви мне отказано небом, да то не беда.
Сгустится она и прорвется, захочет спасти.
Да времени нету – и месяца не наскрести.
А в нашем зеленом краю холодеют не в срок
И жизнь отдают безвозвратно надежде в залог.
Все смерти мои обжигали, а эта – дотла.
Любовь моя долгая, где же ты раньше была?
* * *
Закончилась тяжелая неделя,
И разочарованьям нет числа.
О, Господи, сними с меня немедля
Любовь мою, как скатерть со стола.
Она уже для свадеб не годится
И для коротких встреч не подойдет.
И никакая мыльная водица
Не смоет впредь следы ее щедрот.
На выброс разве только, на порожек
Устало шаркать терками ступней.
Хотя бы так пускай она поможет
Мне низложить ее, покончить с ней.
Вернусь домой и, двери открывая,
Учую запах тлена, так сказать:
Она лежит пластом, еще сырая,
Готовая подошвы мне лизать.
* * *
Как бы так зажить, чтобы парк вокруг,
Чтобы даже, может быть, пара слуг,
Чтобы убран дом, и цветы в горшках,
И альбомы в пушкинских все стишках.
Чтоб вставать и петь, а потом читать,
Кружева и шелк, и своя печать,
И не так, чтоб старость, а все же вот
Положенье в обществе и доход.
Как бы так зажить, чтобы сталь, hi-tech,
Панорамный вид, запредельный век.
Вдоль окна – то тучки, то НЛО.
Голограммы близких во все стекло.
Неизвестно живы ли. Смерти нет.
Подтвердит спасительный интернет.
Так зажить, чтоб космос ко лбу прилип,
Чтоб под кожей – предназначенья чип.
Как бы так зажить, чтоб не ждать войны,
Чтобы слышать музыку тишины,
Чтоб не видеть, как истребит талант
Узколобый внутренний оккупант.
Как бы так зажить, чтоб ни вниз, ни ввысь
Не мечтать отсюда перенестись.
Как бы так зажить, чтоб хотеть, нет-нет,
Выходить из дома на белый свет.
* * *
В. Д.
Говорила женщина – свет не мил.
Говорила женщина – нету сил.
Говорила – тяжкое волоку,
Многовато выпало на веку.
А потом задумалась тяжело.
А потом запела, и все прошло.
А потом задумалась – все легко.
А и взгляд закинула высоко.
По какой параболе, по дуге,
Словно что заметила вдалеке,
Поднимала голову в небеса,
Сотворяла песенкой чудеса.
Поднимала вверх самою себя,
Отрешенно музыку теребя.
Поводила бровью, надув губу,
Принимала, так уж и быть, судьбу.
И о чем-то там говорила ей,
И – чего там – тяжесть прощала ей,
И любила, в общем, судьбу свою,
И кивала: ладно уж, допою.
И вечер длится
1.
Кто посуду моет, досадует на прокладку,
Ибо кран свистит, словно он архаичный стилос:
Как ни ставь заплаты, а дело идет к упадку,
То есть тело идет ко дну, то есть жизнь сносилась.
И тогда взывает к небу посудомойка,
Проклиная кран, из которого каплет капля:
Это все за что мне, господи? Мне и только!
Это травля, господи, это такая травля?
И одной бы капли хватило ей, не протечки,
До которой она терпела еще, терпела…
Ты прости ей, боже, эти ее словечки,
Просто кран чинить – не женское это дело.
2.
«Отступи от меня», – стучала и я по буквам,
Отрекалась некрепким духом в повторном морге.
Благочинным лайкам счет вела по фейсбукам,
Предъявляла: вот учитывай их при торге.
Я хотела платы за эти мои утраты,
Я хотела благ за мою чистоту и веру.
А когда наступал промежуточный час расплаты,
Показанья снимали, как воду по водомеру.
Незаметная течь, бестолковая речь, упреки,
Суесловье, пустоты жизни, строптивый стилос.
Не смиряюсь, но благодарствую за уроки,
На которых я и кран чинить научилась.
3.
Крепостные речи, спорщики с небосводом,
Со крыльца Василия, рифмой скрепляя фразу,
Выходили и мы на площадь перед народом,
Но народ безмолвен был и невидим глазу.
Посылала наша вера нам испытанья —
Безразличье толпы, что хлеще четвертованья,
Умирали наши ямбы среди аилов,
И белели струпья на детушках-книгах, Иов.
Ничего мы здесь не просили в труде безгрешном,
Разве что молились рифме в углу столешном,
Починяли мир, да не очень-то он чинился.
Вечер длился и длился, как будто из крана лился.
* * *
На площадке на обзорной
Ты стоишь. Внизу река.
Над расщелиной над горной
Проплывают облака.
Ты и сам белей и легче
Этих низких облаков.
Шум течения тем резче,
Чем он выше. План таков:
Я несусь, как мальчик местный,
Разбежавшись, вниз, в поток,
Чтобы ты, мой неизвестный,
Страшным чувством занемог.
Чтоб без той, которой руку
Подавал взойти сюда,
Всех утрат своих науку
Обесценил навсегда.
Ах, не бойся, из студеной
Скоро выйду я реки
От надежд освобожденной,
Всем наукам вопреки.
Я сама – любить трусиха,
Пуганое существо.
Как же холодно и тихо
Возле Стикса твоего.
* * *
Люблю тебя – слетело с губ ночных,
Но вся моя Земля была безлюдна:
Река под снегом в щетках травяных,
Село вдали, пропавшее с полудня
(так на радарах тают корабли),
Кровать пустая, чем ни застели.
Кому сказала? Думала о ком?
Зачем сложились губы в оба слова,
Сомкнувшись дважды? Трижды языком
Зачем коснулась нёба ледяного,
Чтоб гласные нарушили меж тем
Спокойствие космических систем?
Услышать, а не то что отвечать,
Тут некому: следы в лесу несвежи,
На небесах сургучная печать,
Нет никого, и лишь порядки те же:
Оттуда, из-за туч, сочится луч,
Но скрыт подтекст, и не сорвать сургуч.
Вот прорезь рта: хранят его края
Весь опыт мой. Явление возврата
К первоначальной форме бытия,
Эффект тактильной памяти, токката
Органная, ямбических слогов
Пульсация среди ночных снегов, —
Вот импульсы «люблю» произнести.
Стремятся губы, как металл в горенье,
К первоначальной форме. Поскрести
Весь мир вернется к первым дням творенья.
Звук извлеки и посмотри на свет:
Он – вещь в себе, он сам себе ответ.
Так зверь приучен вытянуть к Луне
Безропотную морду. Одичанье
Как степень одиночества – вполне
Достаточное средство для звучанья
Животворящей формулы земной,
Произносимой то и дело мной.
* * *
Прощаемся. И римлянка-ладонь
Взмывает вверх, прозрачностью алея,
Не для касанья – в ней горит огонь.
Се – ритуал, с которым веселее.
Удостоверься, что ладонь пуста.
Не уношу отсюда ничего я.
Она – сестра бумажного листа,
Она – мое свидетельство живое:
Я не взяла ни крошечки любви,
Не вынесла томленья и печали.
Прощаемся. И ты ладонь яви.
Мы за богатства оба отвечали.
Брейгель
1. Мой сон Брейгеля
Голова намолота, начинай сначала.
Под ногами – золото. Я его молчала.
К богу наши реченьки в уши залетали.
Черные черешенки падали из глаз.
Не печалься, боженька, нашей пасторали.
Хочешь человеченки? Я – сейчас.
По двору злаченому, по крыльцу верченому
Всеми половинками ходит сатана.
В лыковых подштанниках, в вышитых кафтаниках,
Ни рыба, ни мясо, ни муж, ни жена.
Кочергою сальною свечка входит в спальную.
Тешится, как дитятко, просит тишины.
Лишь бы ты не плакала, лишь бы ты не вякала,
Слез твоих черешенки сварим на блины.
Кто придет к околице – Боженька проколется.
Боров съест любовника и старуху съест.
Выпрыгнув из общего люцифера тощего,
Катерина Грозная выкажет протест.
Вол растет до обуха. Шарик взвил до облака.
Красная-прекрасная гибель на миру.
Волка кормят челюсти лучше всякой челяди:
За маму, за папу, за черную дыру.
де чересполосица, лай собачий носится,
Скалится, бросается да на волчий вой.
А сама собачина помнить предназначена,
Кто ее выкармливал железною рукой.
Ходит мужик с бабою, раздутою жабою,
У селян селекция, господи прости:
У коров два вымени, теленок без имени
И без раздвоения лич-нос-ти.
На ноге татарика сидят два комарика,
На ноге татарика открытый перелом.
Стесан кол о голову бритую монголову,
Молоко на стрельбище отдает козлом.
Видела – не верила, кума ветер меряла,
У вора полтинного полыхал картуз.
От солдата бодрого шла, виляя бедрами,
Служба государева, кричала: сдаюсь.
Дитя мягко падает, грешник бога радует,
Не будет покаяния, когда нет греха.
Берегите яйца вы, люди разгуляевы,
Не было б рассвета, не будь петуха.
2. Избиение младенцев
«Тёть Сонь, а вдруг, когда вы будете
Жениться с вашим женихом…»
Ання Логвинова
Там, где расселась я на снегу, белом, как самый холст,
Вытянув ноги, подняв к врагу потусторонний взгляд,
Там из младенцев делал рагу – Альбой пущен в поход
Через альпийский лед и пургу – карательный взвод солдат.
Там, где сидела я, люд кружил, вязов чернела голь.
Конь испражнялся, пес блажил, рвался на кровь с ремня.
Кто перед этим век не смежил – не ощущает боль
И вообще не имеет жил, взять хотя бы меня.
Где сидела я, таял снег от кровяных телец.
Мельник, лавочник, дровосек – лезли под юбки жен.
Чавкал пес на виду у всех. Дымом пошел торец.
То, что делает человек, не понимает он.
Встану, встану, пойду к венцу, не оглянусь назад,
Из-под снега взойдут цветы, меленькие цветы.
Не поведаю сорванцу-сыну про этот ад,
Да и ты молчи, да и ты, только молчи и ты.
* * *
Не суди. Не суди. Не суди.
Упоенно займись оправданьем
Крематорской прохлады в груди,
Обессиленной смрадным дыханьем.
Ну, какой из тебя судия!
Что ты знаешь о праве и долге?
Учтена ли тобою статья,
Запрещающая кривотолки?
Что ты видишь – соринку в чужом…
Искажает пространство природа.
Не прорезать пространство ножом,
И не счистить с небесного свода.
Все твои обвиненья пусты,
Чистоты и отмщенья радетель,
Потому что свидетель – не ты,
А другой в этом деле – свидетель.
У него в роговицах любовь,
И хорошее место обзора.
Не суди, не ряди, не готовь
Даже вводную часть приговора.
Кто судим – не тебе выбирать,
И за что – не твоя головная…
Фу-ты ну-ты, судейская рать,
Фарисейская рать вороная.
* * *
Я вышла в город, словно из тюрьмы,
Из дома своего, урвав свободу
Египетской угрозой полутьмы
И кровью, превращающейся в воду.
Был пуст и черен город мой вовне,
Я скрылась в подземелье многозевном,
И лишь какой-то нищий плыл ко мне
На встречном эскалаторе подземном.
Переплетаясь, тысячи чужих
Теней плелись в движении бесцельном.
Скрипела дверь на скрепах рычажных
И запирала в пекле беспредельном.
Желание увидеть пару лиц
Знакомых улетучилось. Сквозь щели
Между теней пошла дорога вниз
И по спирали, как у Боттичелли.
Я где-то это видела уже,
Шептала я, слова роняя скупо:
Я помню! Здесь на каждом этаже
Нет ни души, ни грешника, ни трупа.
Я шла и шла, по именам звала
Пропавших здесь, расплавившихся в русле.
И мысль меня земная извела,
Как Данте благородного – вернусь ли.
Я просыпалась дома на тахте.
Воронкой опускался плед верблюжий.
«Все умерли», – звучало в темноте,
Как будто длился разговор досужий.
* * *
Рывками. Выше. Ниже. Выше.
Летит технический прогресс.
Под ним внизу мелькают крыши,
Деревья, люди, речка, лес,
Под ним и в нем посредством вдоха
И выдоха живет Земля.
Но – миг – и рушится эпоха,
Рисуя в небе вензеля.
Представь: нас ветром разметало,
До новых нас сто верст пути.
И нет обратного портала
В погасшей намертво сети.
Другие, новые, живые,
Вы захотите нас понять
И самописцы бортовые
Из пепла древнего поднять.
Впрягайте лошадей в квадриги,
Чешите в наши города,
Ищите книги, ибо книги
Не погибают никогда.
Кино
Когда еще жива была Татьяна
С резиновой, как мячик, головой,
Не вспорот слон, казалась морем ванна,
И пахло близко тряпкой половой,
В воскресный день один, изображая
К искусству тяготенье, заодно
Обновкою женатиков сражая,
Родная мать взяла меня в кино.
Отговорил журнал про съезд и пашню,
И свой «Фитиль» озвучил Михалков.
И рамка на экране, дрогнув страшно,
Расширилась до дальних уголков.
Свет погасили. Сказка странновато
Каким-то пеньем грустным началась.
Шепнула мать: «Запомни – Тра-ви-а-та!»
И вся вперед немного подалась.
Всю сказку героиня громко пела,
Хотя болела, в общем-то, коза.
Сморкалась мать в платочек то и дело,
И дважды закрывала мне глаза.
Там фуэте крутила балеринка,
И мать, простая женщина, считай,
Мне говорила: – Пласидо Доминго.
Васильев и Максимова. Считай.
А я считать немного не умела,
Зато ревела тоже от кино.
И таяло в руке моей без дела
И капало на платье эскимо.
И, несмотря на ужас умиранья,
На то, что мать мешала, как могла,
Мне сказка та понравилась, а Таня
Потом уже от кашля умерла.
Я долго с ней играла в Травиату,
И пела ей картавые слова.
Какие сказки делали когда-то!
Лишь музыка, а сколько волшебства!
Альт
Полуденное солнце
Уже глядит назад,
Где бурый замок Сфорца
Притягивает взгляд.
И тут же тень ложится
От дома до угла,
Где вывеской кружится
Латунный знак Орла.
На полках, словно рыбки,
Дарящие мечты
Виолончели, скрипки,
Мандолы и альты.
Бликует лак на деке,
И рвутся струны в бой:
Стать звуком в человеке,
Пожертвовав собой.
Миланский мастер Павел,
Сын своего отца,
Маслами лак приправил
И каплями с лица.
Когда уйдут из дома
Все, нажитые в нем,
Кому играть истома
Войдет в дверной проем.
Создатель инструмента
Из клена и сосны
Для этого клиента,
Сидящий у стены,
Погладит гриф разочек
И выпустит из рук,
Поскольку струн и строчек
Важнее смысл и звук.
Во все века даренье
Вот это настает:
Творец своё творенье
Другому отдает, —
Кому открыть под силу
Все смыслы, наконец.
Не так ли Богу-сыну
Отдал свой мир Отец?
Тамара Жирмунская. Не блестящего ради созвучия
Был во время войны генерал армии с такой фамилией. Я училась во втором классе, когда он погиб смертью героя. Ну, мы тогда жили чувствами всей страны и – отдельно – своей коммунальной квартиры. Сколько жильцов в квартире, столько раз говорили о нем на общей кухне. Я же с первого раза запомнила. Тем более, что одна соседка возьми и скажи мне: «А ведь ты похожа на него!». О, как я возгордилась! Нашла газету. Прочла своими глазами. Всматривалась в фотографию: ведь и правда, похожа. Запомнила на всю жизнь. Я это к тому, что, когда, десятилетия спустя, кто-то из коллег упомянул фамилию молодой талантливой поэтессы, я почувствовала в области сердца тепло. Почва была подготовлена.
Нет, не буду называть славные и не очень имена предшественниц Маруси Ватутиной.
Раньше стихолюбы и особенно стихолюбки знали их наперечет. Теперь – сложнее. В любом печатном издании (а их великое множество) в рубрике «Поэзия» найдешь женские имена и порой очень впечатляющие тексты. Уже окончив литинститут и защитив свою дипломную работу, где были собраны лучшие мои стихи, написанные за время учебы, я написала стишок, где были такие строки: «Откуда столько поэтесс? Как щебетуний на заре! Откуда этот интерес К их многоточьям и тире? К их неумелости в быту? К свиданьям их? К страданьям их? Долой немую красоту! Даешь пронзительный язык».
Я сознательно напечатала последние восемь строк прозой, чтобы не путали божий дар с яичницей, да не подумают читатели об этом крылатом выражении плохо! Каким-то образом и в те далекие теперь годы я поняла, что не всё, что складно и в рифму, может считаться поэзией. Есть стихотворцы, а есть поэты…В захудалом доме отдыха, куда мне с трудом достала путевку моя мама, оказалась приличная библиотека и в ней почти полное собрание сочинений Александра Блока. Делать было особенно нечего, кавалера не намечалось, так что утешаться я могла только автором революционной поэмы «Двенадцать». Но ее я как-то пропустила мимо внимания. Зато прочла не только стихи поэта но и его статьи о поэзии. Оказывается, прекрасные поэты умеют писать и прекрасные статьи!.. Царапнул отзыв Блока об одной современной ему поэтессе, хвалебно-иронический: «…тот же женский аромат и то же женское бессилие, неграмотность, невечность». Он как будто поставил диагноз одной из моих сестер, чьё имя если и сохранилось, то в старинных антологиях…
Но вернемся к Марии Ватутиной. По возрасту она годится мне в дочери. Так я и буду говорить о ней, как о своей кровной родне: строго влюбленно, требовательно отходчиво.
Тяжелое ей досталось время, одичалое. Если нам, «щебетуньям на заре», все-таки показывали цветное кино, и женская наблюдательность, помноженная на ранний скромный профессионализм, давала неплохие плоды, а старшие коллеги, в основном военного поколения, бескорыстно протягивали руку помощи, то тут, примерно с последней трети века, ландшафт резко изменился. Кино – черно-белое, спорные или смазанные представления о поэтическом мастерстве, которое потеснила мастеровитость, случайные учителя, больше похожие на раков-отшельников. Когда-то Татьяна Кузовлева трогательно просила, не обращаясь ни к кому конкретно: «О, мастер, научи меня лепить, Дай мне секрет смешения породы…». Не представляю на ее месте ни Марусю Ватутину, ни кого-то из Марусиных ровесниц.
«Всё – сама!» – девиз нынешней стихотворной школы, а Ватутина в ней для кого-то образец, для кого-то точка отталкивания. Цитирую очень «ватутинские» стихи, на первый взгляд, не сразу понятные, но режущие по-живому:
Услышать, а не то что отвечать, / Тут некому: следы в лесу не свежи,
На небесах сургучная печать, / Нет никого, и лишь порядки те же:
Оттуда, из-за туч сочится луч, / Но скрыт подтекст, и не сорвать сургуч.
……………
Так зверь приучен вытянуть к луне / Безропотную морду. Одичанье —
Как степень одиночества – вполне / Достаточное средство для звучанья
Животворящей формулы земной, / Произносимой то и дело мной.
Вот тут, полагаю, запротестуют недруги Марии:
«Подумаешь, нарисовала безымянный абстрактный пейзаж и еще говорит о «животворящей формуле земной». Сказала бы прямо: тоска зеленая, мир обезлюдел, писать не о чем. Но она же не бесталанная, ей премии дают, вот и делает из ничего чего…»
Да, Ватутина ярко талантлива. И «сургучная печать», о которой она написала, подается под ее сильными пальцами. «Порядками» в родной стране и вообще на шарике земном поэты не ведают. «Порядки» проходят по другому ведомству. Но кто, заблудившись в потемках, русских ли, немецких ли, или любых других, тянет «безропотную» морду, или душу, или всё своё существо «к луне», ввысь, – тот, очевидно, надеется на отзвук Существует зависимость: чем личностней и горячее издаваемый звук, тем полноценней отзвук. Всегда ли мы это помним?.. Заочно познакомившись с Марией Ватутиной, я, разумеется, захотела узнать о ней побольше. Сейчас это не проблема. Справочная литература открывается одним нажатием кнопки. Повторять то, что любой из читателей может узнать сам, не буду. Что поразило меня в этой отважной женщине? Нет, не то, что одна, на свой страх и риск, родила сына и теперь любовно поднимает его и, надо надеяться, что поднимет без жесткого и подчас бесполезного мужского вмешательства. Я не мужененавистница и со своей половиной (а не «половинкой»), как принято сюсюкать в гороскопах, прожила десятки лет. Просто видела и хорошо помню, какие издержки несли мои подруги, в том числе и воспитывая общих детей, если всё было наоборот: она тянет обоим дорогое чадо в одну сторону, он – в противоположную. Сначала договоритесь между собой. А потом уже экспериментируйте над ребенком!.. Что касается Марии и ее сына, рассуждаю по-простецки: себя сумела поднять – и его поднимет Сама чувствовала недостаток материнской любви (так сложилась жизнь), не допустит такого в отношении изначально дорогого ей дитяти. А теперь стихи – об этом и о многом другом. Поэзия Марии полифонична. Речь идет не только о звуке, но и о смысле. О многих смыслах. Вспоминаются некогда поразившие меня цветаевские строки: «Поэт издалека заводит речь. Поэта далеко заводит речь…»
Прошу не забывать, что я и мои сверстники-поэты, за редким исключением, выросли без Цветаевой. Десятка полтора листочков, как бы вырванных из блокнота, с рукописными строками, неизвестно чьими, принес на наш второй курс Евгений Евтушенко. Мы сидели за одним столом с Ларисой Румарчук. Е.Е. подсел к нам и сказал: «Вот как, девочки, нужно писать стихи!» Далее стихи Марии Ватутиной, написанные, можно сказать, уже в присутствии Марины Цветаевой. Но совершенно самостоятельные. А если и можно говорить о влиянии, то только в смысле свободолюбия.
Научила его варить пельмени и яйца, / Научила его темноты не бояться, а смерти бояться. / Научила его не открывать неверные двери. Научила считать прибыли, не потери. / Научила его говорить на одном из наречий. / Научила его расшифровывать взгляд человечий. Научила его зализывать раны, прикладывать подорожник. / Научила подозревать, что и он – художник. / Научила его стоять на двух ногах, а на четыре падать. / Научила его не слезы, а горечь прятать. Научила его стирать пыль с отцовских портретов. / Научила не нарушать запретов. / Научила его не входить, когда над строкой сгораю. Научила его, кому звонить, когда умираю. / Научила его, что всё проходит, пройдет и это. / Научила отличать мытаря от поэта…
Очень хорошо – ласково, нежно, с пониманием вечных запросов женской души, написал о Марии Владимир Гандельсман. Умело воспользовался Марусиными стихотворными строками: «Девочка, ты наша девочка…», ее особенной интонацией, и пошлО гулять по аккаунту Марии новое в стиховедении слово, определяющее ее вольно звучащий стих. То ли он игровой, то ли колыбельный, а, по мнению отдельных товарищей, фольклорный. Последнее мне больше нравится. Потому что и сама Мария, несмотря на свои два высших образования, плоть от плоти…
Маяковский тоже тут как тут:
Всем! Всем! Всем!
Девочка наша стала ходить в бассейн…
Нет, не блестящего ради созвучия этот бассейн здесь появился. Сейчас возьмет слово мать Марии, лицо первостепенной важности. Дарительница жизни. Со всеми ее проблемами. Женщина трагической судьбы, от которой расходятся круги. Молю вместе с Марусей, чтобы не задели они самое дорогое, что у нее есть. Да будет так!
Диалог после бассейна:
Что, поплавала? что угрюмая? что на завтра задали? что молчишь?
А она, наша девочка, сидит как мышь…
Но не всё ей молчать. Она уже выросла. Может постоять за себя. Главное, может рот открыть. С упреком? С пониманием? И тем, и другим…
Вот ты мама, мама, где твои штучки женские,
ручки бархатные, аромат на висок,
ножки бритые, ногти крашены, губы в блеске,
каблучки цок-цок.
Из-за этого твоего невежества,
из-за этого мужества, / из-за этой твоей изнутри
И я вот такая неженственная,
Не отличу Пани Валевски / от «Красной зари».
Не умела сказать наша девочка, / что в условиях нелюбви
человек сам себя не любит.
И любить-то бывает нечего —
не завезли,
не взлелеяли, не согрели, не счистили скорлупу / до белка, до любви. Девочка, ты наша девочка, / плыви, плыви.
Спасибо тем, кто читает стихи Марии Ватутиной, читателям обоих полов. Женщины и мужчины так связаны друг с другом, что обвал одного пола почти автоматически подставляет под удар другой пол. Спасибо поэту, без всяких суффиксов, что осмелилась написать то, о чем никто не писал.
Примечание:
Тамара Жирмунская – поэт. Родилась в 1936 году в Москве. С 1999 года живет в Германии, в Мюнхене.









































