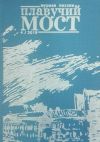Текст книги "Плавучий мост. Журнал поэзии. №4/2018"

Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Журналы, Периодические издания
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Под небом вечно голубым…
Пушкин
Прозрачные века назад,
когда я был зелёной ящеркой
на ноздреватом тёплом камне
и так же обомлело созерцал
лежащее эфирною подошвой
на Таволаре облако, небесный остров
на земном, земным не отягчённом,
и слушал отвлечённо, как выпевают
италийцы слова, подобные аккордам
на языке нечаянных богов,
развеянных мистралем побережным
тогда ещё, когда я был в когда и
в никогда дроздом разливистым
на вычурной оливе и этой рябью
бирюзовой под бережной ногой,
зелёной ящеркой на камне
неслучайном, небесным островом,
лежащим на земном.
2018. Сардиния
«К чему ты снишься мне под утро…»Воздухоплаванье
К чему ты снишься мне под утро,
не снишься въяве мне к чему,
когда струятся вогнутые тени
по ускользающей меже?
К чему глаза твои обратны
и неразборчивы уста,
когда безветрие так внятно
ваяет стёртую зарю?
Очнётся память на обрыве
безгласной пропасти высот,
где всякий взлёт необратимо,
как дым, срывается к тебе,
и побредёт, кляня и каясь,
краями цепкой лебеды.
К чему ты снишься мне под утро
в мирах, где время ни к чему,
и улыбаешься чему-то,
перебирая с негой меты,
дыша прерывно за спиной?
Алексею Кривошееву
«Отмотай меня назад, неразмененное время…»
Меж Ленинградом и Уфой, Харибдой меж
и Сциллой, сирены гиблой яви всласть
швыряли нас о скалы, и пела глубь, как
Ихтиандру в нелётных аэропортах:
«Эй, моряк, ты слишком долго плавал…»
Мы забывали за углом пустые чемоданы,
набитые вселенской мглой и мёртвыми
цветами. Но всё проходит, всё прошло
с нечаемой улыбкой, два мальчика, седеющих
вотще, качаются над пепельной Невой,
стираются за Белой чёрно-белой под вой
стихающих сирен, лишаясь спутников
на острых скалах Харибдой меж и Сциллой,
где вещи сущие теряют милый смысл,
которого и не было у них меж в детство
отлетевшею Уфой и в юность
заплутавшим Ленинградом.
Поздний портрет (Емельяну Маркову)
Отмотай меня назад, неразмененное время,
целлулоидную ленту снов вселенских открути
до слипающихся кадров заэкранной белизны,
где влетает паровоз на всех парах в немые
залы, где бьёт макака кокос о камень и
обратным раствореньем продолжается душа
за воронкой полуснов, где города седого
детства уже в упор нас не узнают, хоть те же
полоумные на скошенных углах в пустых
объятьях одиночеств сосут бессмертья
леденец, где всё сошло и все прошли, и даже
память крылом надломленным под утро
не бьёт в забитое окно. Неприкаянное время,
промотай меня назад – к драгоценностям
дороги и к небренностям весны, где на
росстанях разлук и в преддверьях встреч
обратных мы вслепую мямлим «мама» и
в начале безначальном, и в нечаемом конце.
Мир лишь луч от лика друга, всё иное тень его!
Гумилёв
Годовщина
Пролески взгляда и ущелья разверстые души,
и бережны молчания меж слов, толкающих
к заветному обрыву. Ты не моя, но всё-таки
беда, ты не про то, но всё-таки надежда, и пусть
возлюбят где-то там не так, потому что не знаешь,
как хочешь, и пусть молитвы навсегда темны и
одиноки, ты не поверишь брату никогда и никогда
его ты не попросишь. Под языческой гривой
ковыльной пролески взгляда и холмы отгаданных
желаний, ты пишешь чью-то небыль о себе
и никогда её не дочитаешь.
Благость
Ни о Мишке, ни о книжке, ни о стрижке полубокс,
ни о маминой машинке, отстрочившей вечный срок,
ни о мыле земляничном, ни о смывшихся картинках
из журнала «Огонёк», ни о Ленине в Разливе,
ни о Сталине в Кремле, ни о бабушкином ситце,
ни о папиной лыжне, ни о Герман, ни о Мондрус
в ободзинских облаках, ни о вафельке «Снежинка»,
ни о слизи «Геркулес», ни о голосе Америк,
заглушающем «Маяк», ни о родине почившей и
пропитой на ура,
в сорок лет эмигрантского срока ни об этом, ни о том
и ни-ни обо мне, обомлевшем по весне обетованной
в бездыханности павловских троп, о троллейбусной
баранке и сержантском котелке, о тебе и зиме
чужестранной за смыканьем безлюбых дорог —
ни о Мишке, ни о шишке в новогодних шеншелях,
ни о слопанной коврижке, пережившей божий срок:
подгорела наша каша, и сбежало молоко, чтоб
уже ни о чём не жалел я и жалел чтоб
почти обо всём.
Благость незнания, радость разлуки,
солнце кромешного тла упования,
младость старения, нега борений,
пена безводных зыбей поминания,
небо терпения, прорва парений,
и за плечом наречённых возвратов
блоковских лётов радость-страданье,
розовый крест голубого розария,
сладость бескрылого сна прозябаний,
сорванный тын соловьиного сада,
где пасутся в тени иножители,
где обретаются недоземляне.
Стихотворения
Лада Пузыревская
Родилась в Новосибирске, в семье поэтов – может быть, именно поэтому стихи писала всегда. Автор трех поэтических сборников. Лауреат Григорьевской (Санкт-Петербург, 2016 г.) премии, нескольких сетевых конкурсов.
Стихи печатались в журналах «Сибирские огни», «Нева», «Новосибирск», «Дети Ра», в «Литературной газете», «Петербургской газете», «Камертоне» (Иерусалим) и др., в бумажных и сетевых сборниках и альманах.
так и тыоцифровка
Просветлеешь лицом к лицу,
но с того не легче —
за оконным стеклом завис горизонт на вырост,
И ржавеет ландшафт, и время совсем не лечит
этой осени стойкий ласковый нежный вирус.
Посмотри, облака косяком подались на нерест,
оставляя чешуйки снов в семицветных хордах,
и полынь не звезда,
и на мёд извели весь вереск —
бабье лето, хмельная песня на трех аккордах.
Пламя синих ночей изошло на трескучий лепет,
поревёшь у реки – ни жива, ни мертва водица.
Это осень бесстыдно горбатого снова лепит
то ли бога нам —
кто же станет с таким водиться?..
Так и ты мне ни в жизнь
ни одной не простишь измены,
оставляя столбом соляным, старожилом чащи,
иступлённой иглой, умыкающей свет из вены,
слепорожденным вещим сном
в пустоте урчащей.
Пусть на время, но время свертывания короче.
Я не спорю, что ты любил меня крепче, Отче,
но я тебя – чаще.
Поворот на закат
Не сметь оглянуться. Предательски жёлтым
штрихует внезапно ржавеющий август
пустые дороги, которыми шёл ты,
где солнце и ветер, и шелест дубрав густ.
Мечтать, но не верить в заветное завтра —
теперь уж на той стороне ойкумены,
где первое слово баюкает Автор,
где, все ещё живы, себе на уме мы
Рискнули проснуться с косыми лучами,
махали руками последнему стерху —
ах, как мы в хрустальное небо стучали!..
Кто снизу, кто сверху.
В ответ – только эха бескрайние мили:
мол, вон покатилась звезда на тавро вам.
Не плачь, моя радость, о тающем мире —
он весь оцифрован.
Потерянный пиксель, птенец оригами,
хрустящие крылья с годами – как ветошь,
остывшую землю босыми ногами
всё вертишь и вертишь.
Андрею Ширяеву
тик-так
Там, где кажется – можно ещё наугад выбирать
то ли правильный ход, то ли выход,
но времени нет уж
ни стремительно выжить, ни медленно не умирать,
греет только надежда на слова последнего ретушь.
Отпустить на свободу стихи и, почти не боясь
непонятно когда опустевшего неба, в котором
кровоточит последними титрами млечная связь
вечной осени русской и зарева над Эквадором
– говорить о любви.
И о смерти, вписавшейся в кадр
у вершины горы, где такая по склонам усталость,
что не сложно уже пропустить поворот на закат,
вот и всё, что осталось.
Проговаривать боль – и ещё, и ещё, по слогам,
снова с красной строки
по наречий сухим перекатам,
уплывать во врачующий шепот пустых амальгам
догонять отражения, спрашивать страшное —
как там?..
Там, где Бог навсегда. И не надо держать взаперти
ни горячее сердце, ни вечно обветренный голос,
где забывчивых родин никто уже не запретит
обнимать горизонты, на сколько бы ни раскололось
новых смутных времен это время. Своё отсверкал
именной циферблат,
как бы клапан сердечный не ёкал.
Улыбается мастер повернутых к небу зеркал,
уходя в череду закипающих пламенем стёкол.
и звенят
видишь, город наш огорожен по периметру вечным льдом,
говори со мной о хорошем, раз даются теперь с трудом
сны, зависшие на треноге – не томи, нажимай на спуск.
пусть не дороги нам дороги, дураков не засветишь. пусть
ноша тянет и не легка мне, но богата – глаза не три —
я за пазухой камнем-камнем с чем-то тикающим внутри.
вот повяжут нас, как воришек, и не скажешь – продешевил.
говори со мной, говори же: не про этих, про тех живи,
что колдобины кроют матом, а потом за рулём уснут —
захлебнувшимся этим мартом не хватило пяти минут.
пусть не правы ни те, ни эти – не последний, поди, диктант.
но выходят на площадь дети. и срабатывает: тик-так.
плохая сказка
слышишь, сердце стучит,
разбиваясь о колотый наст?
брось – молчи, не молчи,
наши пленные выдадут нас.
страх дожить до весны
пусть отпустит тебя, наконец,
в безымянные сны
королевства стеклянных сердец.
бог даётся с трудом
тем, кто песни поёт в нищете.
ты войдёшь в чей-то дом,
а вернёшься опять на щите.
дзинь – и жизнь истекла.
а попробуй-ка, врежь-ка замки,
если дом – из стекла.
берегись, береги казанки.
раз уж сеть – божий дар,
так молись, забывая про стиль.
что же ты ожидал,
ведь никто никого не простил.
мы бежим на ловца —
видишь, некому нас извинять.
вот и бьются сердца
и звенят, и звенят, и звенят.
карамболь
Ведь не с нами цунами, что же трясет-знобит
поднебесный ковчег, стартующий в Урумчи,
и зазор между снегом и небом похож на бинт
наливаясь пунцовым светом.
Молчи, молчи
про последний приют —
тут что не тюрьма, то скит,
а попробуй в сердцах надеждой не заболей,
окунаясь в чумные глаза лубяной тоски,
пропадая в краю не пойманных соболей.
Лягушачья не меркнет слава – из кожи вон,
не святую являя `заполночь простоту —
словно родинки, помертвевшие на живом
огоньки за бортом, потускневших небес тату.
Пусть по жизни уже не светит, факир зачах,
поле лётное – словно вымерло – по прямой
переходит в трофейных сказочных кирзачах
безутешный царевич с бряцающей сумой.
Что невесел-то?.. Реквизита с чужих болот
нанесло на три сказки – лучше не городи
про залётные стрелы, волшебный автопилот
и застенчивых жаб, пригревшихся на груди.
По колено здесь всё – сугробы и горе. Впрок
только водка и хлеб, да вечная мерзлота
обесточенных глаз,
лёгкий флирт и тяжёлый рок,
да зияющий выход `за борт – давай, латай.
околоток
покидающий этот дождь не замедлит шаг,
уходя – уходи. махнёт головою русой —
мол, айда-ка
со мною туда, где лишь тем грешат,
что жалеют шары, боясь ошибиться лузой.
ты метнёшься
послушно вдаль вдоль чужих полей,
где такой карамболь, а тут хоть реви белугой
в унисон сквознякам, причитающим: не болей,
раз играешь с руки, не жалуйся и бей в угол.
пятый угол твоей страны с золотой канвой,
об которую бог прилежно сломал все иглы…
обними же меня на прощание – спит конвой
и бесстрашные мальчики снова играют в игры.
западня
то ли кажется, то ли просто судьба такая —
улыбаясь всё реже, молча ходить по кругу,
навернувшейся стрелке компаса потакая,
и нельзя повернуться
снова лицом друг к другу.
он не твой и не мой, и ничей,
этот город страха —
королевство пустых зеркал и лужёных глоток.
но, наверное, мы с тобой всё же дали маха,
возвращаясь в свой вечно ветреный околоток.
тут не снится никто, не то что жених невесте,
на путях тупиковых полчища чёрных кошек.
мы остались почти последними в этом квесте,
кто не черпает тёплый свет из чужих окошек.
и уже не вернуться, как ни вертись на месте,
умирать раз от разу проще, хоть и заметней.
самолёт наш бумажный мы отпускали вместе,
вон как он теперь лихо мёртвые вяжет петли.
ещё бы
курам на смех дружок последние наши дни
вот и тени растут смотри достают до ставен
в этом поезде мы ведь странствуем не одни
у кого бы спросить куда же он нас доставил
стать последними из просившихся на постой
проповедовать от балды то любовь то ярость
нянчить город видавший виды пустой-пустой
наше прошлое набродилось тут настоялось
замахнуть бы на брудершафт
не боясь прослыть
удивляться как будто вот лишь глаза разули
перекрестков твоих проспектов твоих послы
нахлебавшиеся сибири твоей лазури
горе горькое в трижды треснувшей кожуре
мне тебя не обнять смотри – рукава зашиты
не оставить следов вскипающих на жаре
не помочь отыскать друг друга воды защиты
от нездешних молитв ползущих на запах дня
от унылых менял что радость дают по квотам
здесь последняя наша родина западня
а когда постучат мы уже не узнаем кто там
едва устанешь медь с моста ронять —
и вот уж сеть мечтает отвисеться,
растёт на листьях ржавая броня
и к перебоям привыкает сердце.
так осень постепенно входит в раж, но
не полной мерой мстит. не оттого ли
здесь по утрам так холодно и страшно,
что не хватает – то любви, то воли,
то веры опрометчивой, то – сил…
ты мог бы пожалеть меня, малыш, но
ты сам из тех, кто по свистку тусил.
а колокольчик мой почти не слышно
и блажь звенеть, не ведая – по ком я.
скажи, кукушка, сколько нот осталось,
и кто в последний дом мой кинет комья,
и что такое осень, как не старость
в краплёном мёртвым золотом аду?..
господь прощает давящих на жалость,
так плачь, малыш, сойдёшь за тамаду,
на плачущих всё это и держалось —
наш странный век сливающих чернила,
воспевших виртуальные трущобы,
где осень пусть прекрасна, но червива.
а нам ещё бы времени, ещё бы
Прислушиваясь к музыке иной…
Сергей Ивкин
Родился и живёт в Екатеринбурге. Лауреат премии MyPrize-2018. Один из редакторов журнала поэзии «Плавучий мост».
Встреча«цветы – это банально…»
2 февраля 1809 года в Лондоне
получил аудиенцию у Люцифера.
Бархатное кресло.
Смуглая женщина у ботфорт.
Присел у кофейного столика.
Арбалет ударил по бедру.
Никакой охраны.
Нельзя убить ангела.
Женщина зачитывает список грехов.
Трое моих друзей изнасиловали бродяжку,
объявили ведьмой, сожгли заживо.
Мальчишеская гордыня не позволила донести.
Сам зарезал. В течении ночи.
Первый успел проснуться.
Луна внутри слезы.
Утром я исповедовался отцу Франциску.
Никто не может судить
без позволения Божьего.
Принят в ученики.
Ангел слушает внимательно.
Поднимает ладонь:
«Лоренцо Бальбоа,
я забираю твои сомнения».
Нельзя прекратить Зло.
– Мои сомнения – я и есть.
Велик Господь, создавший Вас
совершенным.
Мне же подобает
моя ущербность.
Я пришёл выразить Вам
почтение,
ибо именно Вы
позволяете расти на камне
Духу Человеческому.
Поклонился и вышел,
не видя те самые глаза
приговорённого
мной
ребёнка.
Трое
цветы – это банально
подари ей мебельный степлер
научи прицельно
сбивать пролетающих воробьёв
заодно
будет чем кормить
её вечно голодную кошку
1Николай Корнеевич Чуковский
пишет в «Литературных воспоминаниях»,
что в 1921 году вся интеллигенция Петрограда
резко раскололась на два враждебных лагеря, —
на тех, кто был против, и тех, кто был за
сотрудничество с Советской властью.
Враждовали открыто, мнений не скрывали.
Лишь один человек мог одновременно
являться членом редакционной коллегии
государственного издательства «Всемирная литература»,
членом правления советского учреждения Дом искусств,
преподавателем Студии – советского учебного заведения,
и при этом отрицательно отзываться о творчестве
Максима Горького и Александра Блока.
Обе стороны относились к нему иронически,
одарив прозвищем «Изысканный жираф»
(однажды сам Николай Стефанович назвал
Осипа Эмильевича Мандельштама «мраморной мухой»,
через десять лет Колесо Воздаяния совершило круг).
Расстрел Гумилёва потряс всех.
Пена сплетен сохранила последнее путешествие поэта,
отразившееся в предсмертном стихотворении
«Моим читателям» строфой
«Лейтенант, водивший канонерки
Под огнём неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи».
Лейтенанта звали Сергей Колбасьев.
В салон-вагоне командующего черноморского флота
адмирала Немитца (в вагоне были только они двое)
поэт посетил Крым,
только что освобождённый от Врангеля
Красной Армией.
Ехал в роскоши: необычайная посуда,
бесчисленные бутылки вина.
В освобождённом Севастополе
Гумилёва восторженно принимали
командиры Красного флота
из числа бывших морских офицеров.
После выступления к поэту подошёл
бывший мичман, участвовавший в 1918 году
в походе балтийских кораблей из Кронштадта,
города, в котором родился Гумилёв,
по Волге в Каспийское море,
а после попавший в Азовскую Красную флотилию.
Вот именно он и освобождал Севастополь.
Сергей Колбасьев помог издать Гумилёву
в Севастополе новую книгу стихов «Шатёр», —
возможно, лучшую книгу —
и уехал вместе со своим кумиром
в вагоне Немитца до Петрограда.
По возвращении Гумилёва арестовали
как японского шпиона.
Совершенно бессмысленный поступок.
Что произошло в дороге между
тремя сильными людьми?
Гумилёв метил в чиновники
Литературного объединения
Красной Армии и Флота,
но выдал Колбасьеву, что тот —
бездарный графоман,
как когда-то Лермонтов Мартынову?
И графоман отомстил?
Старший товарищ Николая Корнеевича
после известия о расстреле сказал:
«Когда государство сталкивается с поэтом,
мне так жалко бедное государство.
Ну что государство может сделать с поэтом?
Самое большое? Убить!
Но стихи убить нельзя, они бессмертны,
и бедное государство всякий раз
терпит поражение».
В 1986 году – к столетию поэта —
появилась публикация в журнале «Огонёк»,
Гумилёва реабилитировали, архив был открыт,
и выяснилось, что среди стихов самого ярого
из его гонителей – Константина Симонова,
самого советского из поэтов —
регулярно встречаются строки, а то и строфы
Николая Стефановича.
2Егане Джаббаровой
Не стану называть ничьих имён.
Иначе это стихотворение превращается в пасквиль.
Осип Эмильевич Мандельштам
теряет сознание во время санобработки.
Признаётся мёртвым и увозится в больничку.
Там он оживает и молча лежит целый день.
И только в следующий полдень умирает по-настоящему.
Популярный екатеринбургский критик во время концерта
в честь размещения мемориальной доски на вокзале,
где Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна проводят три дня,
путает «Вторую» и «Чёрную» речки,
а после отшучивается,
что, едино, всем «за речку» отходить.
Известный аналитик русской поэзии подчёркивает,
что Осип Эмильевич старательно примеряет
на себя маску Александра Сергеевича.
Да и сам поэт в «Шуме времён» проговаривается,
что его память удерживает и коллекционирует
лишь маски, а не людей.
Потому и путешествует Мандельштам не в пространстве.
Армянские и грузинские поэты,
после посещения их стран легендарным литератором,
пишут возмущённые письма в Союз писателей,
что в своих путевых заметках Осип Эмильевич
не показывает стремительно развивающегося
социалистического Востока,
а лишь вытаскивает на свет всё реакционное
и отживающее.
Возможно, он – самый последовательный юнгианец
в русской литературе, и потому
стараниями своей вдовы становится «Маской Поэзии»,
архетипом казнённого поэта, вмещает в себя
не только Александра Сергеевича,
но и Давида, и Орфея,
и ещё не рождённого Бродского.
Разбудите меня посреди ночи и попросите прочитать
самое главное русское стихотворение,
я прошепчу:
«И только и свету – что в звездной колючей неправде,
а жизнь проплывет театрального капора пеной,
и некому молвить: «из табора улицы темной…»
3Что является противоположностью путешествия?
Затворничество? Нет, оно – путешествие духа.
Принятие гостей.
Хозяин застолья становится Алефом, центром всего.
В придуманном мире придуманного писателя Макса Фрая
планета, на которой обитают персонажи,
пронзена особым Стержнем Силы.
С одной стороны Стержень выходит на востоке материка Хонхона
в нижнем течении реки Хурон
на острове Холоми
и является Сердцем Мира.
Вокруг него построили город Ехо,
населяют тот город волшебники,
поскольку сила Сердца Мира позволяет им пользоваться
Очевидной магией.
С другой стороны Стержень выходит в глубинах океана,
где обитает неописуемая тварь…
Она готова сожрать каждого, кто заявится на её территорию…
Но некоторых она выплёвывает.
Считается, что, побывав в утробе этой твари, любой человек
обретает невиданное могущество.
Максимально возможное, но не вообще,
а для него лично.
Хочешь развеселить Бога:
либо ныряй в пасть к твари,
либо принимай гостей за круглым столом
в городе с разноцветными тротуарами.
На Чёрной речке в истории русской поэзии состоялись две
знаменитые дуэли.
Вторая также произошла из-за женщины.
Елизавета Ивановна Дмитриева и Максимилиан Александрович Волошин
создали гетероним Черубина де Габриак.
Стихи напечатали в журнале «Аполлон».
Николай Стефанович Гумилёв решил покорить сердце красавицы-католички.
Взять очередной трофей.
Михаил Алексеевич Кузьмин слил тайну имени.
Гумилёв вызвал Волошина на дуэль.
Свидетельства о дуэли противоречивы.
Известно, что Максимилиан Александрович потерял в снегу калошу.
Искали вчетвером, с секундантами.
Стреляться в одной калоше посчитали глупым.
Зато определились два полюса:
ныряющий в пасть неизвестности Гумилёв
и собирающий поэтов Волошин.
Будем точны. Собирал не Волошин.
Создала и хранила Крымский приют его мать —
Елена Оттобальдовна, архетип Великой Праматери,
Пра.
Сам же Макс собирал поэтический дар,
словно в романе его тёзки юные аферисты,
брал понемногу от каждого визитёра,
пока не обрёл максимальную гениальность,
чтобы создать несколько финальных поэм,
самому стать Сердцем Поэзии,
прикосновение к которому дарует возможность
использовать
очевидную магию слов.
Талантливые и не очень талантливые творцы считают, что Сердце Поэзии
находится в Доме Поэта в Коктебеле,
приезжают туда снова и снова,
ожидая раскрытия собственного дара.
Самые хитрые из них идут по узкой тропе до ближайшей сопки,
где покоится могучая плоть поэта,
и выкладывают камешками на плоской вершине
письма небу.
И только единицы понимают,
что достаточно открыть любое из поздних стихотворений
Максимилиана Александровича,
прочитать его над накрытым столом,
а после созвать друзей
и слушать бесконечные истории
о ныряниях в пасти к неописуемым тварям.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?