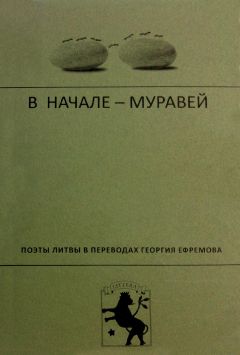
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Далеко до великого князя
Человек стоял у сарая,
спрятав лицо от ветра —
спиной к дороге.
Услышал чужие дровни
и отошёл за поленницу.
В санях бородатые люди вздымали мушкеты:
– Мы от великого князя.
Что прячешься? Нас боишься?
Человек по-настоящему испугался.
– Полезай в сани.
Он ужаснулся, как дремлет изба
и колышутся с краю неба чёрные вишни.
Отъехав немного, один говорит:
– Беги… Только оставь тулуп.
Чтобы потом не латать.
Ноги вязли в снегу.
Воздух не умещался в горле.
Из саней дали несколько выстрелов.
Человек на бегу согнулся.
Упал на колени.
«Как же так?»
«Ещё так далеко до великого князя».
Витаутас Каралюс
1931
Идущий колодец
Человек – идущий колодец.
И падают в этот колодец
ненастоящие звезды
и тяжёлые, настоящие камни.
Звёзд и камней
все больше,
и вода – мысли и чувства —
поднимается выше и выше.
А человек идёт,
принимает
падучие звезды
и камни,
брошенные в него, —
и, наполненный всем, остановится
где-нибудь
около дома.
1966
Мартинас Вайнилайтис 1933–2006
Моя тень
Солнце зажгло в золотом логу
Алый пожар былья.
На одуванчиковом лугу
Длинная тень моя.
Вот: голова упирается в дом,
Ноги – в далёкий дол.
Где-то над аистовым гнездом
Чистый месяц взошёл.
Месяц плывёт, подобен ладье,
В облачные моря.
Тянется к тихой ночной воде
Длинная тень моя.
Проводы лета
Ещё мотыльки-невидимки
На осень глядят свысока.
В густой фиолетовой дымке
Слышны переборы сверчка.
Пчела забирается в улей.
Над грядками маки горят.
Не слышно крылатых певуний.
Берёза меняет наряд.
А ветер свистит, надрываясь,
Цветы на поляне кося.
И клювом не щёлкает аист —
Округа исхожена вся.
Осинные листья уносит
Ручей в непроглядную глушь.
Нагрянула жёлтая осень,
Звеня в колокольчики груш.
Золотые денежки
Смотрим в изукрашенные окна:
Стужа распушила бахрому.
Лето разноцветное умолкло —
Мы теперь скучаем по нему.
Вот и вы, незваные морозы!
Жалит злая стужа всех подряд.
По утрам с растерянной берёзы
Золотые денежки летят.
Я дрожу и на ладони дую,
Всем знакомым денежки дарю
И за эту сказку золотую
Осени спасибо говорю.
Мельница ветра
Жёлтые листья
Все облетели, —
Зиму будите,
Стужи-метели!
Зиму будите,
Стужи да вьюги, —
Мельница ветра
Воет от скуки.
Воет от скуки,
Мелет впустую
Ночь голубую,
Морось густую.
Ждёт она снега,
Льдистых горошин…
Зиму будите,
Вьюги-пороши!
Йонас Юшкайтис
1933
Ветер
В детстве – во́ поле первом —
В мире росном и сорном
С губ младенческих ветром
Звук впервые был сорван.
Мне в бессонное время
Ветер вшёптывал звуки
Плачей: твари, творенья
Жались, будто в испуге.
Ветер прыгал на плечи,
Тьма клубилась ночная, —
Лишь теперь эти речи
Понимать начинаю.
Мне распробовать надо,
Принимая на веру,
Всё, что сам я когда-то
Плакал на ухо ветру.
Воспоминания
В сердечной давней канонаде —
Девичий страх и щёкот вербный:
Им смерть отращивала пряди,
Чтоб мягче было ночью первой…
Напасти, – как бы одолеть их?
И думалось тогда: быть может,
Жизнь – величайшая из этих
Напастей – смертью занеможет?
Не покаяние, не жалость.
Глазами гастролёра вижу:
Приклеил кровью – удержалось
Былое время за афишу.
В воображении реальность
Течёт просторнее и чище,
И жалко тех, что отрекались,
И тех, что голодны и нищи.
Немилое из дальней дали
Милее – как уродец в гриме.
Нет, кинокадры нам не лгали,
Но кривда пользовалась ими.
Заплаканный, ненужный массам,
Старею, коротая время:
Оно болит и пахнет мясом,
Но держит, холодя и грея.
Так хлёстко доброе и злое.
Укрыться от секущих веток
Не выгорит… Прощай!.. Былое
Как ленту крутят напоследок.
Из этой смерти, как ни крутим,
Родиться страх извечный, то есть:
Всего страшней на свете людям —
У них желанья, воля, совесть.
Луна в городе
Цветут деревья желтью лунной.
К лазури городской влеком,
Салют слетает в город людный
Фонтанным огненным цветком.
Как в бриллианте – в кабарете,
Что залит светом голубым,
Припала дама к сигарете,
Пуская сатанинский дым.
Певица в меру элегантна —
И длится укрощенный крик.
Из-под ладони музыканта
Гитара посылает блик.
А барышни с кустов сирени —
Как звёздный белоснежный яд —
На лица, плечи, на колени,
В объятья пьяницам летят.
Та – ласкова, небезответна,
Молва не властвует над ней.
У этой – жизнь как кинолента…
Исторгни из уютных дней —
Застынут лица от бессилья,
Как листья, облетят шелка.
И бабочка, истратив крылья,
Преобразится в червяка.
Осень
Озёрные плоские блики.
В пылу торжества
Сладка – словно старые книги —
Так пахнет листва.
Смятение летнего тлена:
Как листья на свет —
Пронизаны болью Шопена
И тень, и предмет.
Всё веско, округло и ровно.
Осенний урон —
И это старинное рондо,
И сговор времён,
И тьмы над планетой всё те же.
В клубке паутинном
Земля золотым апельсином
Приникла к былью.
Уже отойдя в безмятежье,
Во мрак,
Наудачу…
Хочу – и плачу.
Хочу – и пою.
Альбинас Бярнотас
1934
Змей
Ты бежишь по свежей пажити,
Как кобылка в поле пегом.
По моей нетвёрдой памяти
Так ещё никто не бегал.
Как поводья, рвутся косы.
В небесах неугасимых
Пропадаешь – как с откоса:
Так пропасть никто не в силах.
Но потом при каждом взмахе ветра
Поднимается твое лицо – бесплотней веера —
Треугольник ломкий и зовущий —
Будто змей, детьми запущенный.
Высота неимоверна!
Сумерки, ещё не наступайте:
Нить змеится тоньше нерва
В предзакатном небе памяти.
Небо лёгкое и золотое —
Без границы, без причины.
И врезаются в ладони,
Как от нити, – мелкие морщины…
1971
На возу в полусне
В телеге сладко потянусь:
Трясёмся в полусне домой.
Вздремнула пряжка «Gott mit uns!»
Под брюхом лошади хромой.
И солнце начало зевать —
Эй, туча, рот ему прикрой.
Проложена кривая гать
По дрёме, вязкой и сырой.
Вот сколько в белом дне ночей —
Тягучих муторных дремот…
А с пряжки ржавой всё звончей
Германец щерится: «Mein Gott!»
Брат, был и я дремоте рад,
Кем просыпаюсь, боже мой —
Пылинкой на подошве, брат,
На брюхе лошади хромой…
Во сне бывают чудеса —
Зову увидеть наяву:
Пылинка в спицах колеса
Несётся через всю Литву.
1978
Погладь траву
Шагами землю мучай,
Под зноем не робей —
В тени травы дремучей
Бреди, как муравей.
Веди в потёмки грунта
Свою лесную рать.
Тебя унизить трудно,
Но просто – растоптать.
Войди под клевер белый,
И я сказать смогу:
В луга метель влетела,
Стоишь – и всё в снегу.
Корона как живая —
Пушинки, лепестки.
Ночь, звёзды зажигая,
Привстанет на носки.
Ни зги над гладью пашен.
А ты свети вдали.
Погладь траву. Как влажен
Прохладный лоб земли!
1978
Золотом – бесплотным серебром
Одуванчик, венчик золотой, —
Чем ты расплатился с красотой?
В радостном биенье лепестки
Созидают семечко тоски.
В отроческой радужной тоске
Спит паук на певчем волоске.
Скоро взвалит крест на паука
Серебро дарящая рука.
Позолота сброшена твоя —
Целят прямо в сердце острия.
В золото, уставшее цвести,
Эту горечь млечную впусти.
Зёрнышко твоё не помяну добром:
Золотом – бесплотным серебром.
1978
«В начале – муравей. По рвам, завалам…»
В начале – муравей. По рвам, завалам
Влачить былинку, обходя запреты,
И знать: великое погибнет в малом,
На месте муравейников – скелеты.
Недуги муравьиным ядом лечим.
Все наши притязанья – непомерны.
Но мир несовершенный – безупречен:
И умирая верим, что бессмертны.
Я знал когда-то женщину, она же
Прекрасно знала, что неизлечима,
Но с рынка сотни волокла («всё наше!»),
И это страсть была, а не личина.
Зарыли гроб. И по тропе неблизкой,
Что всех живых во тьму переманила,
Шёл муравей с былинкой, как с запиской:
«Здесь будет муравейник – не могила».
1978
Ты – – —
Водишь солнечной ладонью по вихрам лугов,
Дрожью воздуха стоишь над логом,
Ты – о налитые груди облаков
В вырезе холмов глубоком.
Золото и жемчуг выплеснув грозой,
Горестным опровергаемая громом,
Ты – о вечерами наделявшая росой
Звёзды в летнем цветнике огромном.
Узнанная будничной пчелой в лицо,
Праздничной облепленная тиной,
Ты – о перелётной запорошена пыльцой,
Лепестковой запелёнута холстиной.
Всех, кто воском утекает в тишину,
Бередишь, пока растаять не успели,
Ты – о дерзко в ухо вдевшая луну
И плюющая на гибель с колыбели.
По бумагам, как по линиям землистых рук,
Радужно гадаешь людям и державам
Ты – о раскачавшая холодный крюк
В небе висельном, и пристальном, и ржавом.
И мою судьбу сорвёт тяжёлый взмах,
И сыграю на зубной гармошке наспех…
Ты – о вязнущая ветром в волосах,
Ты – наручниками радуг на запястьях!..
1978
Бойня
Ветер пролетел, раздваивая жало.
Небеса надрезаны клинками крыш.
Слышишь, как предсмертно утро завизжало?
Оглушающую тишину услышь.
Немота в себя разящий луч впустила.
От рассветной стали шею отклони,
Если смотришь, как уходит вверх светило —
Как душа из той свежуемой свиньи.
Что нам делать с окровавленным навозным небом,
Как его отдраить, оттереть, спасти?
Невиновным ни один при жизни не был,
Чисто-белым – точно сала вязкие ломти.
А без мяса и святые перемрут немедля.
О верёвке – ни словца, уж лучше нож.
Над вегетарьянцем колбаса – как петля…
Только свинской эту жизнь и назовёшь.
Но опять в глазах светло от ледяного света,
И на мир не поднимается рука:
А к тебе несут, как розы, от соседа
Розоватые свиные потроха.
1980
Крылатый путь
Взгорья, окрылив дорогу,
Ввысь уходят понемногу —
Всё подальше от печали:
Против ветра, вместе с ветром
На просторе светлом, щедром
Всю округу раскачали.
Замахали часто-часто.
Ты не бойся распрощаться
Со своей привычной ношей!
Кроны – тающие шали —
Будто крылья, зашуршали
За твоей спиной, прохожий.
1980
Марцелиюс Мартинайтис
1936
Ночь у жмудина Кукутиса
За лесом, за лесом – за горкой двугорбой,
где дремлет сова у заглохшей дороги, —
почти что слепой, не живой и не мёртвый,
за лесом Кукутис живет одноногий.
Покуда в печи занималось полено сырое —
могилы осели и стали ржаветь аркебузы:
в округе послышались первые вести о Трое
и радио сообщило, что вымерли пруссы.
Покуда леса наступали и шляхта слабела,
мы выпили за ночь полжизни, такой небогатой.
Я тихо и грустно подмигивал то и дело
единственной дочке хозяйской – красотке горбатой.
Покуда ее охмурял, старика беспокоя, —
Германия пала, калеки вернулись по рельсам,
и я поседел, и мы думали: что там такое —
костер за рекой или это Париж загорелся?
Пока постигали, что мы – у границы бескрайней,
горбунья молилась в углу, испугавшись кометы.
Покуда крестилась, распались державы и страны,
подошвами к северу в землю легли самоеды.
Пока он по-жмудски[2]2
На жямайтском диалекте, распространенном в Жямайтии (Жмуди), западной части Литвы.
[Закрыть] шептал на немецком,
на польском,
на русском, —
как лось, заревел паровоз в перелеске уныло.
И запылали поместья,
когда при мерцании тусклом
хозяйка в чулане постель для меня постелила.
И – замолчала политика…
Джаз передали из Кёльна.
Как прусские кони – заржали в ночи саксофоны, ликуя…
Полжизни прошло, и нам стало ни сладко, ни больно —
ни «danke» за Пруссию, ни за Варшаву «dziękuję».
Покуда Кукутис прилаживал правую ногу,
фитиль зачадил и земля содрогнулась от гула —
столетье петух прокричал и затих понемногу:
одна только ночь промелькнула.
И земля уходит в небо
Ой, Кукутис, зимы долги,
зябко пламени и стеблю!
Где достанешь цепь для тёлки,
чтобы к ней привесить землю?
В годы злые было строго,
выла дурочка на вербе:
нету лога, нету бога
и для мертвых нету смерти!
Города побагровели,
как зарезанное стадо.
И овец секли во гневе —
у кого еды не стало.
Как прожить, когда огня нет?
Кто луну заманит в невод?
Дурочка в колодец глянет —
и земля уходит в небо.
От разора, смрада, пыла
из воды сбежали рыбки…
За грехи, за всё, что было, —
били мертвого на рынке.
Песня Кукутиса
И затянул Кукутис: «Вот отрада —
живешь, и ничего тебе не надо!
Но даже если вдруг чего-то надо, —
и в этом тоже есть своя отрада!»
А песня услыхала, стоя у ограды,
что нету ничего, кроме отрады.
Она окликнула Кукутиса:
– На диво
поешь красиво, сволочь, и правдиво!..
И стала вторить будущему и былому;
на крыше ветер бередил солому.
Кукутис подхлестнул коней и укатил домой,
а песня еще долго пела для себя самой.
Кукутис едет по жмудскому тракту
Едет Кукутис и видит:
– Как похожа Литва на Литву!
Ее березы походят всегда на берёзы,
и небо —
над Литвой
оно всегда такое литовское!
Откуда берется
эта похожесть Литвы на Литву?
Всё, что подумаешь или вспомнишь, —
походит всегда на Литву!
Он пашет:
разламывает комья земли,
продувает зёрна в ладонях,
нюхает хлеб,
встает босиком на глину…
– Как Литва сберегает
вечное сходство с Литвой?
Эта ее похожесть – неизвестно откуда:
ее не поймаешь и не истребишь —
столько войн прокатилось,
чтобы вытоптать землю,
а всё равно уцелело небо,
похожее на Литву!
Даже если уедешь —
всё, о чем ни помыслишь,
будет похожее на Литву:
на небеса,
на берёзы,
на шорох зёрен в ладонях
и на жатву, на жёлтое поле,
цветущее женщинами!
Кукутис на исходе последней жизни
– Я всю жизнь
топориком брёвна ровнял,
пилой названивал в заморозки,
переламывал колосья цепом,
кнутом благословлял скотину…
Из жизни дом себе мастерил:
двор и колодец
с наклонившейся женщиной,
с телятами,
которые перед казнью
лизали мне руки,
с моим же плачем,
когда я не мог понять —
я пьяный
или несчастный?
За что я только ни брался,
всё равно выходила жизнь:
любая малость
обзаводилась именем жизни.
С каждым годом
жизни было все больше
и больше,
а меня —
все меньше,
вот остаётся едва различимое имя
в расчётной книге…
Не раз я пытался
уйти,
пожить втайне от жизни.
Чуть шевельнусь – снова она продолжается
и всё забирает себе.
Даже последнего вздоха
мне не оставит:
он еще называется жизнью.
Поэт с чёрным нимбом
Поэт имеет право быть под надзором,
а также быть обвиняемым
в богохульстве, ветрянке и растенье невинности.
У поэта есть право молчать,
как молчит огнедышащая звезда над землёй
накануне чумы.
У поэта есть право отказа
от каких бы то ни было прав – у него
есть правота прощения.
У поэта есть право ухода:
в изгнанье
он всегда остаётся на родине.
Поэта опустошают его слова,
как личинки выедают порог
под ногами входящего.
Поэт понимает больше других
или не понимает
того, что ясно любому.
Поэта пугаются те,
кого он любил
без надежды на отклик.
У поэта есть право погибнуть от них —
его и целует тот,
кто скоро предаст.
Его будущие апостолы спят,
спят народы, пока он исходит
кровавым потом.
Смерть поэта – его триумф:
стоит уйти,
и ему уже нету равных.
Где был поэт,
остается пролом в скале,
отворённый для жизни.
К вопросу о благонадёжности
При содействии матери и отца
я был завербован жизнью в 1936 году.
С тех пор не прерываю сношений с действительностью,
особенно с её тайными сторонами,
которые доступны только поэзии (и то не всегда).
При помощи тайнописи я вербовал возлюбленных,
секретными взглядами я влиял даже на их походку,
на состояние кожных покровов, тембр голоса, запах и вкус.
Используя скрытое наблюдение, я накапливал данные
об их полусне и полуяви.
Я добился доверия, искусно применяя подтекст,
прикрывая истинные намерения любовью к природе,
нежностью к бездомным собакам, книгам и музыке.
Всё это – при постоянной оглядке, боязни провала,
забвении любимых умений, смене мест,
подозрительности, лицедействе
В номере паспорта зашифрован мой генетический код.
Знаю, что по нему я буду опознан только Всевышним.
База моих генетических данных хранится в родных могилах,
Литва, Расейнский р-н, дер. Калнуяй,
1.5 м ниже уровня жизни…
Там ключ ко всему.
Мои пособники – души умерших,
чьим прикрытием выступали бродяги и женщины;
их шифровки
я находил в стихах, словарях и картинах.
Мои стихи – идеальный способ вербовки, —
у меня имеются связи в Стокгольме, Осло,
Таллине и Москве
(слово «Кукутис» – типичный шпионский шифр)…
Суду я готов сообщить подлинные фамилии, адреса,
как и когда стихи работали с агентурой.
Как вам известно,
я поддерживал тайные контакты с животными —
с целью воздействия на повадки людей.
Практикуя посев, поливку, подкормку,
я сообщал растениям сведения о зарождении,
развитии, росте,
приобретённые мною в процессе зачатия, воспитания,
размножения, потребления и т. д.
Уже обнаружено, что в подполе я укрываю картофель.
Каждой весной я прячу в землю горошины,
которые, прорастая, повинуются лунному свету —
их чувственные мембраны реагируют
на разговоры мёртвых.
Вот так, господа.
Что же касается мелких провинностей,
я бы просил беспокоить лично Господа Бога.
Там самые верные сведения.
Плач глупенькой Онуле
Нашла у дороги Онуле
красную нитку
из варежки детской —
а может, из радуги?
На холмике села,
и стало ей жаль эту нитку,
до слёз
её стало жалко.
И пожалела Онуле
жаворонка на пашне,
и пчелу, на рассвете упавшую в пруд,
и в песке – отпечаток ладошки.
И пожалела Онуле,
что острые плуги
скоро запашут гнездо,
что пчела не вернётся домой
и никого не накормит,
что малые дети – вырастут и постареют,
и красные рукавицы
им станут малы.
Сидит у дороги Онуле
и плачет,
и нитку сжимает в руке,
и так она плачет,
как будто осталась одна
у сгоревшего дома.
Опись обнаруженного при земляных работах
Череп, зубы. Сохранились не полностью.
Позвонки, один из которых раздроблен.
Большая берцовая кость. Без пары.
Суставы… Комплектность не установлена.
Пясть. Кисть руки…
Стопа… Локоть… Лучевая кость, заметно искривлена.
Рёбра. Со следами сросшихся переломов.
Типичные признаки воздействия внешней силы.
Ещё. Несколько волосков и лоскутьев ткани.
Пряжка неясного происхождения.
Из вещей не найдено более ничего.
Профессия, возраст,
вероисповедание – неизвестны.
Находка не представляется важной.
Подобные в этих местах обычны: ни в одной
ничего уникального или ценного
для истории нашего государства.
Дальнейшие раскопки решено прекратить.
Земляные работы продолжить.
Томас Венцлова
1937
«Знаю: прошлого трогать не станем…»
Знаю: прошлого трогать не станем;
Всё равно моя память цела —
О единственном городе старом,
Где ты раньше когда-то жила,
Где за строем училищ и храмов,
Желтоватых казарм и контор,
От невымытых окон отпрянув,
Вечера осыпа́лись во двор.
Пусть тогда они были ненастны:
Можно слёзы с асфальта стереть,
И расслышу холмов ассонансы —
Городскую любимую речь.
Он решил обнаружиться снова —
Изо всей мишуры кружевной,
Из тумана, из ночи и слова
За неделю воссоздан живой.
Ночь
Разрывы туч – как Млечный путь:
Дома и тополя белы.
Гроза рассыпалась, как ртуть,
И эхо грянуло вдали.
А город, вял и терпелив,
В финале громы разметал,
И, стекла все испепелив,
Потёк расплавленный металл.
Тебе светание и тьма
Завещаны в земном пути
За то, что давняя зима
Нема, как истины в горсти,
За отчужденность и родство,
За стебли мачт у той черты,
Которой нет – и от чего
Не в силах откреститься ты.
От Ландверканала до Шпрее
Мурату Хаджу[3]3
Мурат Хаджу – кавказец-авангардист, продающий свое творения около бывшего восточногерманского Дома Республики, предназначенного к сносу. Роза – разумеется, Роза Люксембург, утопленная в Ландверканале, строка о ней отсылает к Бродскому. Паризер Платц – площадь у Бранденбургских ворот, с российским и английским посольствами. Зигесзойле – колонна в Тиргартене в честь немецких побед, на ней стоит ангел. Эмигрант – Владислав Ходасевич (цитируются его слова). Есть также ссылка на Шиллера-Тютчева («Градозиждущей Палладе,/ Градорушащей молясь»).
[Закрыть]
Я тут бывал (не называю года),
Я тут впивал изгнанье – горечь мёда
И желчи, я играл – такая мода! —
Бессмысленную партию с судьбой,
И я взирал, копируя Назона,
Туда, где молча пустовала зона
Запретная под властью гарнизона
Чекистов. Это был последний бой.
Канал, откуда выудили Розу,
Уже не отражает злую прозу.
Всё умирает и живёт без спросу.
Лишь ты не изменился. Рухнул пласт.
Пульсирует в другом конце аллеи
Пустой огонь, безжизненно белея.
Посольские знамёна – мощь былая —
Поблёкли от времён. Pariser Platz.
Меж новым паркингом и минибаром
Дышу постмодернистским перегаром.
Стерильный банк – на зависть всем Сахарам,
Где мы в стеклянном атрии горим.
Глаза тончайшим блеском намозолив,
Плетутся рельсы, их узор назойлив,
И в мутном небе ангел Siegessaule,
Как отрицание, неоспорим.
Стены не стало. Весь пейзаж растёкся.
Не разберёшь, где стыли воды Стикса.
Держава потребления и секса
Не разрешит загадку старины,
Волнущую робкого туриста.
Где партия учила нас гордиться,
Разложены листы авангардиста,
Сбежавшего из тонущей страны.
Мы оба с ним вбираем хмель свободы.
Я архаичен, будто гугеноты,
Но жив, хотя не попадаю в ноты,
И говорю без темы, наугад —
Испытанный разнообразным спектром,
Осыпанный и порохом, и пеплом
Вблизи моста, висящего над пеклом,
Блуждаю, новым временем объят.
Но я ему не свой – как те фронтоны,
Доспехи, колесницы и грифоны,
Потопом принесённые тритоны,
Хранимые в воде (точней, в огне).
Ну а пока не грянула разлука
И все трофеи держатся друг друга,
Акрополей опека и разруха —
Паллада всемогущая – при мне.
Её владенья людям вечно внове,
Изменчивость эпох в её основе,
Империям вдогонку – суесловье,
Сильнее триумфатора – монах.
Отчизны, семьи, имена теряем,
Богатство и тщету считаем раем,
Но (как заметил эмигрант) ныряем
В веках, как саламандра в пламенах.
И только в этом благодать на лоне
Земли, где верховодит слово «ohne[4]4
Без (нем).
[Закрыть]».
Держись тропы на каменистом склоне,
Живи огнём. Никто не ждёт тебя.
Пусть мухи над идеями роятся, —
Но ты, ничтожный, предпочёл бояться
Скорее рабства, чем нужды и братства,
И лжи – сильнее, чем небытия.
Над парком ангел кружит. Верный свету,
А может – мраку. Пробежавши смету,
Благодарю согласно этикету
Судьбу, раз не положено другой.
Пока созвездие мне целит в спину,
Сверну к Стене, которой нет, и сгину,
Окинув взглядом тесную витрину
И со стекла себя стерев рукой.
По ту сторону пролива[5]5
Стихи о Вильнюсе, который уподоблен саду Гесперид (по ту сторону Геркулесовых столпов, т. е. Гибралтарского пролива), где Атлант поддерживал на своих плечах небесный свод. Статуи атлантов поддерживают балкон одного из домов Старого города в Вильнюсе. Во второй строке – названия фирм, обосновавшихся вблизи этого дома.
[Закрыть]
Седые тинистые кружева
атлантов. Кодак, Тавола, Эльвора.
Вдохни томящий воздух косогора
и позабудь, что млеет голова,
что из-под ног уносится дресва
и наклонён ущербный кубок свода,
и запрокинься тише, чем вода,
ведь эти кручи – ржавая гряда,
обрывы туч и терния осота
тебя не приглашали никогда.
Идёшь, оставив имя на воде,
а им неловко в дряхлой наготе
и нет нужды в таком единоверце.
Но городское сморщенное сердце,
влекущее по тесным жилам тромб
к надтреснутой аорте, рваный ритм
дробящее, – оно живей, чем ты,
и дольше. Этой путаницей троп
ты прокрадёшься к тёмным Гесперидам,
где вторят небу звучному сады
и камень затмевает все плоды.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































