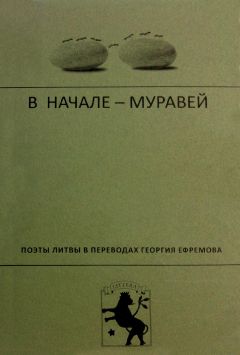
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Прекрасный день
Апельсины и глицинии,
Слёзы южные – лимоны.
Нескончаемые линии,
Неумолчные пилоны.
Время древнее, укромное.
Смерть живую воду пьёт.
Сердце Божие огромное
С неба скатится вот-вот.
На опушке тени веские —
Только шорох, только скрип.
В море облака ловецкие
Рады переплясу рыб.
Кубок подняла Лукреция,
Так наивна и невинна!
И язычница Венеция
Ждёт пророчества – дельфина.
Сон
Слушателей заполняет камнеподобная тьма, словно душу допотопного ящера, вмурованную в глубины геологической эры. Статуи о размере залы гадают по одному лишь голосу, который отдаётся в пространстве, переродившемся в дремлющий слух. Нержавеющие соловьи виснут над их головами в ожидании очереди.
Когда голос начинает вещать о «зоне, где горизонтальные проекции зримых и осязаемых контактных сил разнонаправленны», Вулкан наносит удар пламенною рукой, голос рвётся как нить, зажигаются светильники и светила, соловьи запевают стальными колоратурами на седьмых небесах, и статуи, разбужены светом, принимаются декламировать посреди пространства, нежданно зрячего:
От молний меркнет адская идея,
Меж интегралов не найти корней,
Но из корней восходит орхидея
И освещает мир огня верней.
Лист
С чёрной ветки, с выси непреклонной
В этот мир слетает лист зелёный.
Пущенный по ветру лёгким богом,
Лист плывёт в сиянии глубоком.
У него и губы, и глаза.
Всё поймём, о чём и знать нельзя:
Погляди, вверху не сыщешь вех.
Будь как лист, хоть ты и человек.
Офелия
В детстве
Я не хотела учиться плавать,
Плакала,
Укусила за руку няню.
Когда принц оттолкнул меня,
Я упала с обрыва
И никогда бы не выбралась,
А теперь —
Плыву на спине
Посреди облаков и трав,
И пою от нечего делать.
Зябкое утро.
Помню слова каменного мыслителя:
Космос движется к мерзлоте,
Бог погибнет от холода.
Как-то ночью пою
И плыву мимо цыганских костров.
Плясуны подбежали
К реке,
Тут же уловили мелодию
И подхватили хором.
Такое течение,
Что никогда не достигну берега.
Уже слышно ревущее море.
Надеюсь, учитель не ошибался:
Земля действительно круглая,
И через много лет,
Украшенная соляными кристаллами,
Я вернусь по воде в Эльсинор.
Если правду сказали цыгане,
Что принц скончался от яда,
Тогда я забуду, что научилась плавать,
И брошусь в реку.
Альбинас Жукаускас
1912–1987
Они прекрасны, но непостоянны
Когда из Каунаса мы вернулись после двух
совместных выступлений
не так уж поздно было:
нас пустили в пригородный ресторан.
– Вы только, – говорят, – ребята,
себя ведите чинно, не шумите!
«Ну вот, – мы оскорбились, – дядя, разве не заметно,
что мы с рассвета ни в одном глазу!»
– Заметно, – отвечает нам привратник.
– Только всё равно
скандалить не годится, нужно отдыхать культурно,
прилично, проще говоря, как подобает…
Приятель спрашивает, сколько у меня в заначке.
– Вообще-то, – отвечаю, – деньги есть.
И если не забудемся —
нам хватит.
По кружке тёмной «Балтики» (для старта)
мы стоя выпили. Потом присели
и приняли покрепче. Под конец
крепчайшего отведали. И вышло
не много и не мало – в самый раз.
И мы тогда вполголоса запели
про шуструю Шилувскую шалунью —
про девицу-красавицу…
Нет слов:
домой идти нам было рановато.
– А знаешь что, любезный, – говорю. —
давай мы к суженой моей заглянем,
она тут рядом, прямо за леском…
А эта суженая, говорю, она ни то,
она ни сё – она как все невесты.
А вот её сестрёнка! Это, брат,
такая фифа – ты увидишь
и весь растаешь…
В Лаздинай мы машину не нашли
(водители, понятно, тоже люди).
И порешили мы пешком протопать
те пять (от силы десять) километров.
Подумаешь, беда! Пока мы обсудили
претензии на псевдоклассицизм в литовской лирике,
пока мы горевали
об истощенье нравственности в людях, —
пришли к реке. Паромщика искали.
Нашли его. Насилу добудились.
Он долго одевался. Рассвело. До той поры
всё шло великолепно. А потом
я вдруг припомнил, что моя невеста
и несравненная (без дураков!) её сестра
лет этак пятьдесят тому назад
(когда отца и мать похоронили) —
домишко продали и всё хозяйство
и отбыли (по слухам) в Катовицы.
Такая, извиняюсь, карусель.
Тут мы с приятелем слегка остолбенели,
и, полагаю, нас легко понять.
Так вот, выходит, каковы невесты,
вот каковы их верность и любовь!
И это – чистота и постоянство?!
Сначала глазки прячет, нежно шепчет:
«ни шагу без тебя, с тобой – на край земли!»
А после, Боже правый, с пылу, с лёту
постройки продаёт, и скот, и утварь – всё бросает
и отправляется (по слухам) в Катовицы!
Ну хоть бы позвонила, написала,
предупредила… Что там говорить!
И ты, спустя всего полсотни лет,
идёшь сквозь ночь, и дождь, и ветер! Зябнешь
на берегу реки! Предвидишь встречу!
А ей – ни холодно, ни жарко: упорхнула!
Сбежала! Укатила! Всё забыла!
Ох, женщины! И мы после всего
Должны в любовь и постоянство верить?
Ну нет, теперь понятна ваша суть!
И лучше так – спустя полсотни лет
промокнуть и продрогнуть, среди ночи
стремнину одолеть, – и поразиться:
чего вы стоите, красавицы-невесты,
вы, скромницы… И какова цена
всей вашей преданности.
Страшные дела!..
Казис Брадунас
1917
Усадьбы
Гляжу с холма вдоль межи —
Темна грозовая вода.
Среди взволнованной ржи
Усадьбы, как в море суда.
С небес прольются моря —
Нестрашно: прочны корабли.
Опущены их якоря
В глубины земли.
По пути
Мы трава под косой судьбины,
Нас умчало вдаль от корней,
От земли, где дремлют руины,
Где она, а не память о ней.
И ослепнув, отыщем путь,
Чтоб у ног её прикорнуть.
На праздник
В час, когда история вслепую
Землю красит кровью пролитой
И сквозь тьму бездонно-вековую
Пробивается росток святой,
Опускаюсь молча на колени
И, с моленьем о благих вестях,
Убиенных горестные тени
Прячу за собой, как чёрный стяг.
И душа Литвы, крыла раскинув,
Дальней песней осенив меня, —
Обретает силу исполинов,
Восстаёт из пепла и огня.
Был нетерпеливым Одиссей
Был нетерпеливым Одиссей
И домой, наперекор Гомеру,
Он, не завершив дороги всей
Возвратился —
мстительный не в меру.
Одиссею
Двадцать лет окольных
Были как проклятие в пути.
Ну а мне, как будто я невольник,
Выпало их больше тридцати.
Одиссей родимую Итаку
Различил сквозь утренний туман,
А мои глаза привычны к мраку —
Свет мне только в сновиденьях дан.
Одиссей, ты шёл домой для мщенья
Два десятка лет, побед, обид.
Я не жду, не жажду утешенья —
Ведь хребет всей жизни перебит.
Наклонись
Мой Господь, возлюбленный от века,
Ты с меня – на жалящем ветру —
Благодать живую с человека
Не срывай, как с дерева кору.
Как я – на виду вселенной этой —
Вынесу беду и наготу?
Наклонись за ягодой нагретой —
Я растаю у Тебя во рту.
Эдуардас Межелайтис
1919–1997
Человещность
Вещь, Вещам, Вещами, Вещью,
Для Вещей и о Вещах.
Речь забыли человечью!
Вещь – и только – на плечах!
Даже вящий вещий разум —
Тоже вещь и стоит свеч!
А преграда всем заразам
Гроб – удобнейшая вещь!
Кротость вечная овечья
Нам не слишком помогла.
Вещь – подобие увечья:
В гроб её – и все дела!
Подснежник
подснежник – чернильная синяя точка,
последняя в этом прощальном письме,
а ласточка в форме резного листочка
раскрылась – весна изнутри и извне
во всё проникает, как властная плазма,
и ветка черёмухи никнет, смирясь,
щекочут и ластятся крылья соблазна:
втоптать эту точку в весеннюю грязь
и фразу продолжить – всё тает во мне,
меняется, точно смола на огне
Осколки сердец
Пусть лагуна милей, голубей и белей
оптимизма – тут кладбище кораблей,
их останки – подобны осколкам сердец:
так инфарктом разорван храбрец и гордец;
словно в крепком спирту или в глыбине льда
динозавров-суда сохранила вода
навсегда, – а отважные корабли
так свободно к невидимой гибели шли:
белый парус верлибра трепали ветра,
а земля отступала – ясна и тверда,
и аорты рвались, – но радист и матрос
отвергали диагноз под именем SOS;
вольным воля, а страх – как докучливый страж.
Это блажь, если жизнь превращается в пляж;
в море нежится некто, изыскан как торт, —
глубь укрыла обрывки снастей и аорт…
Пусть лагуна смелей парадокса, светлей
ренессанса, – тут кладбище кораблей.
Бактерии осени
Назначив Музе randez-vouz,
я лёг под клёнами в траву.
А той порой – там целый рой
бактерий осени сырой.
Я Музу жду – уже готов
букет бесхитростных цветов.
О, Муза, в час, когда придёшь —
меня уже прохватит дрожь.
Как сизый ворон, как изгой
я буду заражён тоской.
Везде – под кожей, под корой —
бациллы осени сырой…
Паулюс Ширвис
1920–1979
«Не смотри…»
Не смотри,
не свети
грустью влажной
в глаза.
Так случилось —
не суди,
грустно какие сказать.
Ты
меня обними,
и пьяней,
и полней,
и кувшин
наклони —
чашу нашу
налей.
Пусть не ты,
всё равно —
что гадать:
нечет-чёт?
Чашу часа
испей,
а не то
утечёт…
Утечёт?
Утекла
Та минута
Седа
Как и ты,
Как и я —
Навсегда,
Навсегда.
А у самой
Воды
Губ
Дрожащая нить:
Как и я,
Как и ты —
Чашу часа
Испить.
Осколки
Налетают ветра,
Задувают звезду…
До зари, до утра
Пляшет свадьба в саду.
Ты сидишь у стола.
Ночь бела и хмельна.
Но полна и цела
Чья-то чаша одна.
Только всем невдомёк, —
Кто, невидим никем,
Одинок, одинок,
И печален, и нем?..
Ночь хмельна и бела…
Он пришёл, нелюдим,
И любви, и тепла
Пожелать молодым.
– Уж таков мой удел…
Что текло – утекло…
Кто-то рюмку задел —
Захрустело стекло.
Реют вишни в цвету.
Налетают ветра,
Задувают звезду…
Расставаться пора.
Сдуты ветром одним
Дни мои и твои.
Соберем, сохраним
Хоть осколки любви.
Самый маленький – твой.
А мои – нелегки.
Ранят болью живой
Ледяные клинки…
Витаутас Мачернис
1921–1944
«Человек! Так медлительно утро…»
Человек! Так медлительно утро,
Кратки сумерки бытия.
Нарождение – долго и трудно,
И стремительна гибель твоя.
«Маленький народ с великим словарём!..»
Маленький народ с великим словарём!
Как тебе соседи ближние помогут
Неман одолеть: все видят лишь ярём,
А сокровища твои понять не могут?..
Альфонсас Малдонис
1929
«Ты все моленья утолил…»
Ты все моленья утолил —
И дни бесцветны и пусты.
Кого там высоко, вдали,
Не слушая, услышал ты?..
Чья ласка – невесомей сна —
Тебе становится слышна?
Затем ли, что давным-давно
От шума – в сердце тишина?
К тебе является сюда
Всё то, чего нельзя вернуть?
Что началось Бог весть когда
И кончится когда-нибудь?
Луч, разорвавший пелену,
Тьма, у которой нету дна, —
Неодолимую волну
Рождающая глубина?
Мгновенье
И пастбища пусты, и пашни голы,
Уже доступно взгляду всё кругом.
Последний терпкий мёд уносят пчёлы
В свой восковой многоэтажный дом.
И тишина.
Тепло в пустых просторах.
И тишина.
В пруду вода мутна.
И тишина.
Паучьих нитей шорох.
Косые волны льна.
И тишина.
Сияние скупого небосвода
Дрожит вверху, как запоздалый плод.
Осенняя неясная свобода
Ко всем долинам и откосам льнёт.
Уходим от счастливой жизни летней,
Нам стало тесно и в себе, и в ней.
Благодарю тебя за мёд последний,
Мгновенье светлых юношеских дней.
В краю больших ночей
Уснёт пурга. Метель
Отбросит белый кнут.
И звери лягут в тень.
И птицы отдохнут.
В ночи январский лес,
Как вкопанный, замрёт.
Лишь затрещит плетень
Или озёрный лёд.
А колеи по льду
Уходят в темноту,
И яблоня в снегу
Как будто вся в цвету.
Она бела бела,
Она едва едва
Жива, как имена —
И, как они, мертва.
Не будешь никогда
Нарядней и белей,
Чем ночью, среди льда
В кругу пустых полей,
Под северной звездой —
Холодной и ничьей,
Под яблоней седой
В краю больших ночей.
Цельность
Не выживет никто из нас.
И, значит, временна ущербность.
Минует безмятежный час —
Его ребяческая щедрость.
Простор – неуловимый дым.
Всё новое – сверкнёт и канет.
Но всем, до времени живым,
Оно горит. Горит и манит.
Трава падёт – взойдёт трава.
Умолкнет соловей едва —
Услышишь иволгу с кукушкой,
Увидишь: ястреб над опушкой
Парит, недвижен и велик,
И страшен ястребиный крик.
Всё рядом – немота и пенье,
Зачатье, жертва и забвенье,
Неповторяемый узор…
Трава горит всё горячее —
Желание и отреченье
Терзают сердце до сих пор.
И труд, рождённый до меня, —
Священное творенье хлеба,
И мысли – как столбы огня:
Опора для пустого неба.
И вечный поиск нити той,
Что нас роднит верней неволи,
И знанье: кровью пролитой
Не погасить всемирной боли…
О птица серая, в тоске
Ты кру́жишь и о чём-то просишь,
И в чёрном матовом зрачке
Тень и мою несёшь, уносишь.
Ты часть всего – огня и тьмы,
Спокойной мудрости и страсти,
Которую не в силах мы,
Как сердце, поделить на части…
Трава падёт – взойдёт трава.
Умолкнет соловей едва —
Услышишь иволгу с кукушкой,
Увидишь: ястреб над опушкой
Парит, недвижен и велик,
И страшен ястребиный крик.
Последние вьюги
Возле дома во всём величье
Ходит ветер, шурша и кружа.
Мысль укромную – перышко птичье —
Согревает гнездо: душа.
Мускулистому вихрю доверясь,
Зёрна снега летят наугад.
Ледяную земную поверхность
Невесомые иглы скоблят.
И сдаётся земля нагая.
С этой силой попробуй сладь!
И сливается, изнемогая,
С чёрным небом белая гладь.
К небесам обнажённые недра
Прижимаются всё плотней.
Горка снега – в ладони ветра…
Кто назавтра вспомнит о ней?
Бездомная рожь
Ведёшь к тревогам, ранам и утратам…
Закат алей и горячей горнила.
Забытая, сестра безвестным травам —
Ты нас одна в голодный год кормила.
Зачем так много ласки безответной
Нам отдаёшь, неблагодарным чадам, —
К обычной жизни, к смерти незаметной
Готовая на лоскутке песчаном.
Ты подарила нам внимание немое
И на ветру не растеряла веру,
И войны шли, и мор накатывал как море,
И сосны слали семена в иную эру…
О, как бы уберечь тебя от зноя злого
И от пурги укрыть, навеки остывая…
Ты разве не такая же, как наше слово —
Былинка слабая, открытая, сухая?
Мелеющий поток смывает и уносит
Несобственные наши имена и числа,
И у травинки, повстречавшей осень —
Одна вселенная, одна отчизна.
И слово, неподвластное ни гунну и ни готу, —
Его не выпросишь и не отнимешь силой.
Земля, вбирающая дождевую воду,
Всё сбережёт во тьме, сырой и стылой.
И всё с такой же незаметной болью,
С такой же волей, но ещё упорней,
На том же месте, словно сам собою,
Росток пробьётся из того же корня.
А ты меня зови бездомным братом
И уводи в огромный алый вечер, —
Сестра лесным волнующимся травам,
Кормилица негромкой нашей речи.
1982
Альгимантас Балтакис
1930
Из цикла «Анеле»
5. «Гуляет с каждым…»6. «Целые сутки…»
Гуляет с каждым, дразнится,
Мол, ей какая разница.
И я грожу впустую:
«Ещё увижу – вздую!»
Она и в платье мятом
Под стать любой царевне.
«Тебя же чуть не матом
Песочат на деревне!»
Она не прячет взгляда.
Красивая, паскуда!
«Не нравится – не надо.
Тогда гуляй отсюда».
И, косы расплетая,
Идёт к постели прямо.
Красива, как святая, —
А ни стыда, ни срама.
Целые сутки
Кричали утки.
И я наблюдал
За длинным
За журавлиным
Клином.
Эй, молодо-зелено!
Вам, травы,
Шуметь не велено!
Сок с берёзы —
Весенние слёзы…
Эй, и ты тоже?
Плакать не гоже!
Мы тихо следим
За длинным
За журавлиным
Клином.
Тринадцатый месяц
Так сладко и просто, что в это не очень-то верю.
Неповторимое утро нам отдано просто – за так.
Нынче распахнуты настежь сердца и двери,
Но – ненадолго. А после – закат.
Что ж вы молчали? Я бы не тратил напропалую
Хрупких сокровищ, которых уже не верну.
На миг – эти губы, открытые первому поцелую.
На миг – эти волосы, плещущие на ветру.
Не повториться уже нежданному снегу,
Ни смеху, ни слову, ни вгляду, ни полнолунью.
Дважды не ступишь в ту же самую реку.
И солнце сегодня – уже не такое, как накануне.
Это январь? Январь уже был когда-то.
Наши сани – в чулане. Пожухли календарные числа.
Это февраль? Для февраля поздновато.
И март уже был. И апрель случился.
Май отмаячил. Июнь – не такой уже юный.
В июле – как в брошенном улье – тишь пустоты недоброй.
И август не густ. И сентябрь – за серебряной дюной.
Октябрь и ноябрь набрякли багряной охрой.
Не воскресит декабря ни один умелец.
И нам, как тогда, уже не бежать по льдинам.
Где же он, долгожданный тринадцатый месяц,
Который, как ни старались, не удалось найти нам?
А вдруг?.. Если очень хотеть… Ведь и в нашем веке
Такое случается, что отмахнёшься, не веря:
Вот кратер – он только дремлет, смежив тяжёлые веки…
И мы дожидаемся чуда, покуда не вышло время…
1968
Баллада о трёх братьях
Ходит война повсюду,
Стучится к отцу и сыну.
– Я добрым буду,
Вот потому и сгину.
Второй – над убитым взмыл,
Кровь брата – как пенная брага.
– Я буду злым
И гибель приму без страха.
А третий среди лихолетий
И словца не проронит.
Он выживет – третий —
И двух других похоронит.
1977
«Жажда погибнуть и жажда начаться…»
Жажда погибнуть и жажда начаться.
Жажда проснуться и жажда забыться.
Жажда скорее с тобой повстречаться,
Жажда скорее с тобой разлучиться.
Жажда винтовку на руку вскинуть.
Жажда беду смертоносную скомкать.
Жажда умолкнуть и жажда воскликнуть.
Жажда запамятовать – и вспомнить.
Жажда немыслимой правдой делиться
И на костре обличить кумира.
И неотступная жажда – укрыться
В мирном уюте от бурного мира.
Вечная жажда понять хоть что-то.
Жажда победы. И пораженья.
Жажда паденья и жажда полета.
Жажда начала. И завершенья.
1967
Юстинас Марцинкявичюс
1930–2011
«В лесу прохлада и мгла…»
В лесу прохлада и мгла,
в памяти – холода.
Сентябрь. В сердце вошла
осенняя немота.
Цветущему – время созреть.
Созревшему – время упасть.
Дней шелестящую медь
ветер относит вспять.
И ты, побеждённый, туда
идёшь сквозь ветер и свет,
а губы смиряются: да.
Душа разрывается: нет.
Из «Малой трилогии»:
МиндовгТракай
Вдруг сердце содрогнулось —
он увидел:
труду, который начат,
нет конца.
Лось подошёл к девятому потоку,
поплыл,
неся корону над водой.
Не отпускала боль.
Он сполз на землю
с коня, ногтями расцарапал дёрн
и вырыл папоротниковый корень,
сжевал и проглотил.
И кровь во рту
смешалась с почвой чёрной.
Он подумал:
«Какая это горькая земля».
А лось взошёл на берег.
Отряхнулся —
и на мгновенье радуга повисла
меж царственных рогов.
Как будто нимб.
Вокруг леса теснились.
По вершинам
незримая прошелестела дрожь.
И в сердце холод постучал:
всё ближе!
Он шел, обняв коня за шею. Слушал:
десятая река шумела рядом.
И вдруг поверил: «За рекой
откроется… И то, что там, за нею,
не так горит и мучит,
как Литва».
Волны, валуны
в пятнах седины:
тишина и отклик
далеко слышны.
Сердце ли виной,
смытое волной, —
преклоню колени,
весь в крови земной.
Покаяние
Томительная тающая тайна,
крылатый вечер и звезда над ним.
Волнистый лес, теряя очертанья,
сливается с дыханием равнин.
И, словно колокол над мраком храма,
восстала боль – и стонет глубина.
Как черная пугающая рана,
теперь моя душа отворена.
Откуда этот неутешный голос?
Чей это перст возносится, грозя?
И свет мгновенный – небо раскололось?
И жить нельзя? И умереть нельзя?
Над серым пеплом радостей и плачей
звезда мерцает в бездне голубой.
Печальный влажный сумрак – над горячей
поникнувшей, повинной головой.
Уход из деревни
Родня жнивью. Тебя мы звали
землёй, работой и тоской,
косой, сохой и всем, что знали —
и птичьей речью, и людской.
Ни отклика, ни отголоска.
И мы молчим который год.
А на столе осталась ложка —
растресканный кричащий рот.
Лесное озеро
Этот блеск,
этот воздух осенний, сырой.
Этот плеск,
этот лес, осенённый зарей.
Тишина.
Нагота золотая – светла.
Вышина.
Голубая вечерняя мгла.
Как тепла
серебристая дрожь озерца.
Как игла
боль последняя входит в сердца.
Этот крик
журавлиный томительно-чист.
В этот миг
мягко на воду падает лист.
Тусклое утро
Ночью стеснена душа живая.
Снова из беспамятства зову
и молюсь, чего-то ожидая,
солнцу – золотому божеству.
Всех, кого душа моя впитала,
оживи – не то во тьму уйдут!
Из какого отольёшь металла
несколько часов или минут?
Может быть, я выйду из боренья,
как огонь, могучим и благим,
и сдержу нахлынувшее время —
ведь оно смертельней всех лавин.
Кажется, как будто воздух тает.
Листья, капли, дни летят с высот.
Медленно, мучительно светает —
Господи, а вдруг не рассветёт?
Взгляд на Литву: вблизи
Наполнишь сердце мукой,
закатами, людьми:
словами убаюкай,
до песни подними.
На прутьях краснотала
две птицы расцвели:
всё то, что нашептала,
мне выплакать вели.
«Свет живой, преодоленье сна…»
Свет живой, преодоленье сна, —
как люблю тебя и как ревную!
Над окном река зари видна,
мощная, вливается она —
словно в море – в синеву дневную.
Мы плывём! Ты видишь там, вдали,
близкий, отуманенный годами,
берег света? Или край земли?
То, что мы в себе уберегли —
то, чего мы все не разгадали?
Витаутас Бложе
1930
Это был я
Мне трудно что бы тот ни было рассказывать о человеке,
который носил моё имя и фамилию
более двадцати лет назад.
Что у меня общего с ним?
Я унаследовал от него кое-какие знания и привычки
(по большей части – дурные).
Он передал мне величайшее из сокровищ —
воспоминания детства
(в жизни я не читал ничего прекраснее).
Я хранитель его останков, которые мне доставляют
столько хлопот.
Мой предшественник не был уверен,
что я вообще появлюсь на свет.
Денно и нощно он испепелял свои силы,
которые принадлежали и мне.
От него у меня очки в одиннадцать диоптрий.
Он был человек, затравленный жизнью.
Корни всего в социальном происхождении —
сам-то он был невиновен.
Он хотел пробить головой потолок.
Мне в итоге достался мозг после нескольких сотрясений.
Жена от него ушла —
её не хватило делить сообща такую судьбу.
После него я живу с надорванным сердцем.
В последнюю пору жизни он считал себя
императором Франции и повторял:
после меня хоть потоп.
Он покончил с собой.
Тогда и родился я.
Медленно, постепенно родился я.
С оправданными: солнцем, травой, воздухом и водой, —
которых не понимал мой предшественник.
С его собственной посмертной реабилитацией.
Я не знаю того, кому передам свои руки и голову,
глаза и сердце лет через двадцать.
Я не имею права считать, что его никогда не будет.
Я не могу транжирить то, что принадлежит ему.
Я должен заботиться, чтобы он из-за меня не страдал.
Чтобы он меня не считал врагом.
Считал меня другом.
Братом.
Самим собой.
Чтобы он мог сказать: это был я.
11. IV.1964
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































