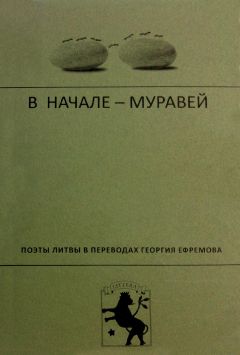
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
По достижении Атлантиды
На илистом мысу торчит ангар миражный.
О канувшей земле не грезят моряки,
особенно теперь, когда войной протяжной
их грозная страна разбита на куски.
Гостиничный буфет. В окне облезлый цоколь.
Шуршанье катеров. Зима уже вблизи —
за шторами она темнее мутных стёкол:
седых бетонных брызг и почвенной грязи.
Приземистый маяк над дюнами всё тот же,
и крепость не страшней отхлынувшей чумы,
в кровавых перьях пирс, – но эти чайки твёрже,
чем камень и чугун, тем более, чем мы.
Застынь, прикрой глаза. Любая вязнет ноша
в проулочном песке. И зренье сожжено.
Мы разминуемся. Куда ни обернёшься —
ни воздуха, ни зги, ни срока – всё одно.
Полынь, чертополох, linnaea borealis[6]6
Растение, характерное для Восточной Пруссии. В стихотворении изображён городок Балтийск (Пиллау), где останавливался Бродский. Гостиничная столовая и маяк описаны им в стихах «Отрывок» («В ганзейской гостинице “Якорь”…»).
[Закрыть].
И только влажный луч сквозь рваную броню.
Друг другу внятны мы как высшая реальность —
у смерти на краях, в поруганном краю,
который скрыт песком и срыт водой бездонной,
где лентой траурной расплылся под ногой
фарватер, но всегда шуршат из-под ладоней
ноябрь, нищета, грамматика, огонь.
Йонас Стрелкунас
1939–2010
Только раз
Сон твоей округи,
Предрассветный час,
Ласковые руки —
Это в первый раз.
Красота без крова,
Сколько хватит глаз,
И простое слово —
Это в первый раз.
Звёздная корона,
Люди без прикрас,
Книги и знамёна —
Это в первый раз.
Ложь единоверца,
Отклик ветра в нас
И затменье сердца —
Всё в последний раз.
«Леса здесь были, пустоши и дали…»
Леса здесь были, пустоши и дали,
И люди жили испокон веков,
Косили сено, сеяли, пахали
Вдали от гор, морей и городов.
Один и тот же тяжкий труд веками,
Поблекшие святые по углам,
Как сторож у ворот – безмолвный камень,
Промозглая предутренняя мгла.
Родился ты, промучился – и умер,
Как дерево – безвестно, без следа.
О, сколько слез, обманов и безумий! —
Потомки не узнают никогда.
Здесь между тем, что не было и было,
Шла долгая кровавая война.
И каждый знал, что ждёт его могила,
И в новые не верил времена,
И кланялся, и кланяется в пояс
Товарищам и недругам своим…
И кто же знал, что вырастет Чюрленис
Под небесами, серыми как дым?
«Шепчет ветер среди ночи…»
Шепчет ветер среди ночи
Малому цветку:
«Век твой краткий всё короче,
Ты уснёшь в снегу».
Ветер зреет и крепчает:
«Сгинешь в свой черёд!»
А цветок не отвечает,
А цветок цветёт.
Слово
Ты как знамя, хранимое втайне
От чужих и завистливых рук.
Ты как медленное прорастанье
Детской жизни, очнувшейся вдруг.
Ты – как знаменье о королевстве
Том, где правда превыше всего.
Ты как благовест, слышанный в детстве:
Пасха, Троица и Рождество.
Ты – как хлеб материнский, пропахший
Летом, аиром, дымом, тоской.
Ты как дерево в дымке за пашней
У великой дороги людской.
И меня в этой жизни скорой
Обогрела, оберегла…
Ты простая рубаха, с которой
И купель, и могила мила.
В память ротонды
Где тогда была беседка
И гуляли мы нередко, —
Металлическая сетка
Окружила сквер.
Суета листвы беспутной
И какой-то дождь простудный
Из осенних сфер.
Только зябнущие типы,
Вроде нас, листают липы
И под горестные всхлипы
Ищут без конца,
Без чего природе пусто:
Счастья, правды, водки, чувства,
Близкого лица.
Только это всё едва ли,
И дантисты – трали-вали —
Лишнее поудаляли
Из гнилого рта.
Столько мусора и пыли!
Кто писал, что «мы тут были»? —
Нету. Пустота.
Землю эту
Мы верны родному свету,
Да и тьма у нас одна.
Землю знали только эту
Наши солнце и луна.
Чума
Вроде, лето впереди.
Сомневаюсь.
По могильному пути
Еду, маюсь.
Там ни деревца, ни зги,
Ни креста нет.
Кто воскреснет из тоски,
Кто восстанет?
Встанет кто-нибудь за мной
Рядом с бездной,
Чем утешу – новизной
Безнебесной?
Вековая череда
Мировая —
Земляная чернота
Моровая – —
Портрет с сигаретой
Ни дыханья, ни ответа,
беспросветно и мертво,
только тлеет сигарета —
больше нету никого.
Сигарета ночью бродит,
отражается в стекле,
и она тебя не спросит:
для чего ты на земле.
Что ей пальцы или губы —
те пригреют, те примнут,
будет страшно или глупо
лишь на несколько минут.
И падёт ненужный пепел,
на лету теряя пыл:
бесполезно, если не был,
и неважно, если был…
Ни дыханья, ни ответа,
беспросветно и мертво,
только тлеет сигарета —
больше нету никого.
«Замолчал ручей…»
Замолчал ручей,
не слыхать речей
стой самой недели
как птицы слетели.
Посидим вдвоём
над седым быльём,
вдруг да поладим.
А вечер прохладен.
Полегла трава,
ни к чему слова.
Мы зябкую осень
сразу не бросим.
Ты опять права,
что тропа крива:
наша, не наша —
вся спутана пряжа.
А кругом покой
золотой такой,
что не слышно сердца —
захлопнута дверца.
Альгимантас Бучис
1939
Из цикла «И свет, и тьма, и ты»
Откуда ты?«Дымка словно кисея…»
Забвенье приоткрой
и назови свой край…
Он белизной увековечен —
там нет воды в ручье,
там брызжущая кровь
окрашивает окна каждый вечер.
Оттуда, говоришь,
где оживают камни,
где погибает бор среди зимы,
где боль близка Тебе
и темнота легка мне —
там тают без следа
такие же, как мы.
Дымка словно кисея.
Ветер позабыл погоню.
Медленно вернусь в себя —
к беспокойству, не к покою.
Скоро праведным огнём
опалит листву сквозную,
осень вспыхнет за окном,
перемены знаменуя.
Перемены и во мне.
Как бы ложь ни теребила:
я не сгину —
как в огне
та кровавая рябина.
Альгирдас Вярба
1941–2000
«Дом свой ищу, а обретаю страх…»
Дом свой ищу, а обретаю страх,
Звёздные льдинки жую на постоялых ветрах.
Сон свой зову, а вижу окна в слезах,
Ночь зажигает фосфор в моих глазах.
Сына хочу, но каждый раз только пасынки.
Сердце дарю, а свищет сквозняк из-за пазухи.
Вот благодать святая – учуять сено,
Только опять похмелье ко мне на постель присело.
Деньги люблю, у меня их, кричу, будет куча!
Скалятся, сволочи, пуза от хохота пуча.
Девочка, с кем ходил я небесной тропой, —
Боль с тобой.
Матери я обещал золотые горы, —
Холмик цветущий ей оказался впору.
«Я откуда и чей?..»
Я откуда и чей?
Что за ветры мне кровь замутили?
Ноги студит ручей,
Греет руки земля Жямайтии…
Оставайся, лети, —
Буфер с буфером в ласке всегдашней.
Как мясные ломти,
Поле в дымке и туча над пашней.
Орды скрылись в огне,
Сохранившись в преданьях, рыданьях.
В брани, будто в броне,
Живы звуки имен стародавних.
В тишине, в полусне,
При лучине, пожаре, тревоге —
Нам, крестьянской родне,
Тайно названы терпкие слоги.
После Судного Дня
Солнце жёлтое в небе зелёном
Встанет, кровью пьяня,
Над Понарами и над Хевроном.
Семь потов, а восьмой —
Пот кровавый, и грех за душою…
Край проспавшийся мой!..
Вроде мой, а похмелье чужое.
Красноречие рощ,
Краснолесье осеннего края…
Нынче сердца не трожь,
Перелётная птаха родная.
Нет пути облакам:
Виснут грузно, как сало в сарае…
Выйдешь – бьёт по щекам
Рукавами рубаха сырая.
Ржаная баллада
Покуда не старый, сей хлебные зёрна…
В. Кудирка
На взгорье – не щебет, не звяканье сбруи —
Там стебля ржаного волшебная песнь.
Не клик соловьиный, не струнные струи —
В ней голод, один только голод и есть.
Лишь этому учит жямайтская мудрость:
Сей хлебные зёрна, покуда живой,
В рассветную стылость, в осеннюю хмурость,
Во рвы и окопы войны мировой.
Отеческий дым – он ни сладок, ни горек:
Почти невесом, а дерёт наждаком…
В чужие могилы (там череп! там Иорик!),
В живот материнский, раскрытый штыком.
Мы, милая, тоже плоды подворотен,
Зато наши души всегда на замке,
В толпе мы – всесильны, но каждый бесплоден,
И молимся лжи на блатном языке.
В бетонном ангаре – сей хлебные зёрна,
В самих небесах и в последнем аду,
Где кровь твоих близких доходит до горла
И лес повторяет чужую беду.
Там дуб на равнине трясётся без звука,
От сумерек жёлтую пряча звезду,
И в окна стучит эмигрантская мука,
Отчизну рождая в солёном поту.
В гареме народов, на плахе бескрайней,
И евнуху в ухо, и в рот палачу —
Сей хлебные зерна. И скрежет трамвайный
Меня успокоит, когда закричу.
В словесные дупла, в сердечные камни —
Пусть голод, и холод, и мор впереди —
Сей хлебные зёрна. И даже руками
Уже перекрещенными на груди.
Курлычут колодезные журавли,
Все в мареве поле – как тусклое море.
А кто-нибудь выйдет на голое взгорье,
Покличет – и рожь отзовётся вдали…
Что за беда
Трудно понять, отчего набираю вес —
Вроде, нет у меня сбережений, невест, небес?
И дурачок убогий – что за тоска! —
Сыплет в глаза мне горсти огненного песка.
Как столб в разлохмаченных объявлениях весь —
Стою среди улицы и гадаю: зачем я здесь?
И куда укрывает город на ночь своих ханыг —
Вшивых, ошпаренных, обмороженных и хмельных?
Ладные мальчики, девочки в голубом, —
Терние у меня в подошве и в сердце ком.
Ничего не прошу – ни прощения, ни вина,
Никакая милость не насытит меня.
Косы, что воткнуты у распутья (лезвия врозь),
Как заржавеют – ищите меня: сердце разорвалось.
Цапля с водонапорной башни спросит у всех тогда:
Что за беда, ребята, что за беда?..
Сигитас Гяда
1943–2008
«Я вышел – и Литву увидел…»
Я вышел – и Литву увидел.
Там птицы, женщины и ветер.
К полудню двигались коровы.
Огромный – ветреный – багровый
срывался жаворонок вниз.
Вздымались крылья, бились реки,
и женщины летели в небе.
Травою зарастали веки.
В траве при свете глубины
быки ворочались, красны.
Куда – откуда – принесён
мой глиняный и длинный сон?
Из поэмы «Страздас»
ДопросЭпилог
Как настала сырая
весна после зимней студи,
а из ветхих сараев
шли телята и люди,
как зелёные травы
с горки бросились книзу, —
Страздас в Вильнюс отправился:
может, выпустят книгу.
Пел про зверя и птицу,
про грехи человечьи, —
можно ль песне сродниться
с божественной речью?
Всё цвело в этом гимне,
говорило и пело:
валуны у тропинки,
и деревья, и небо,
женщины над овином
летали, кружа.
Словно дух, как душа —
всё живое невинно.
Синева. Белый ангел
на небесной траве —
там спасён и прославлен —
искуплен человек:
как большое дитя,
тихо трогает звёзды…
…О, как близко Литва —
взял её и увёз бы!
Тут попы-чужаки,
на помине легки,
подошли, обступили —
толкая, браня —
книгу, коня
взяли у простофили.
А его допросили:
– Фамилия? Имя?
Ты с нами? С ними?
Где обувка
твоя, плебей?
А эта буква —
А или Б?
Спал с женщиной?
Путался с бесом?
Пой торжественно
«Kyrie eleison»[7]7
Господи, помилуй! (греч.)
[Закрыть].
Ака, попался!
Порядками недоволен!..
—
С дороги, панство!
Я птица-вольная…
Страздас от них
летит – и плещутся ветки.
Нет, не выпустят книгу,
как птицу из клетки.
Нищий врёт на погосте,
что летал в облака.
Как в Пажайслисе[8]8
Монастырь под Каунасом.
[Закрыть], Господи,
Удержать дурака!
Эти космы и струпья…
Ветер воет и бьёт…
Два крыла – или руки,
перья – или тряпьё…
Верьте или не верьте…
Так темны и тесны
эти сны о Бессмертье,
эти красные сны.
Ковыряются свиньи
в палых листьях, в земле:
дремлет сон негасимый
в комле, в корне, в тепле.
Жизнь – святая – седая —
бьётся – просит, наверное:
песню, просит, мне дайте,
имя дайте бессмертное!..
Свидание скелетов
Встряхнем наши косточки, старая блядь!
Вот женская доля – желать и зиять,
О зелёные стебли! В иные века,
Ты, помню, была высока и тонка,
Но червь прогрызает небесную гладь,
Встряхни свои кости, но пыла не трать!
Кто первым прижал тебя к бочке пустой?
Потом навалился второй и шестой,
О зелёные стебли! О Боже, постой,
Ты вся прохудилась… А-а!.. Франсуа,
Облезлый кобель, ты пробрался сюда,
Душа костяная, пора бы устать,
Репейное солнце, крапивная стать…
Гони эту крысу! А вдруг на беду
Воскреснем, почуяв хмельную бурду,
О зелёные стебли! Иду, я иду,
Я тут… что за свинство, такие соски,
Не надо, Марго, я не вижу ни зги,
Чья очередь? Рёбрышко быстро пригладь,
А то ведь рассыплешься, старая блядь!
Марго, от Вийона ты песен ждала.
Но кто же поёт про такие дела,
О зелёные стебли!.. мы вместе дотла
Сгорим, обнимаясь, и пусть говорят,
Что мы ещё встретимся где-то! Навряд…
Душа, отдыхай, багровеет кровать,
И червь тебя в полночь придёт целовать —
А-а!..
Из «Вильнюсской баллады»
* * *
Я, наверное, пропал бы, но купил в палатке сдобу
и тогда увидел чёрта под берёзой угловой,
он асфальт готовил ночью, у него пергамент сбоку,
по булыжному проулку я один шагал домой,
медленно листва темнела, свечи таяли в салонах,
негасимые фигуры шли, храня сиянье дня,
я бы вряд ли воротился – если бы не пять зелёных
душ среди толпы осенней окликающих меня.
На подмоченных афишах-фильм, расставшийся с экраном,
монументы в ржавых пятнах; ночью бледно-огневой
я уже почти вернулся, и – наполнен светом пьяным —
ресторан, как привиденье, пролетел над головой,
знаю, там сидели люди, у которых нет привычки
видеть оборотней на ночь, я вернулся, и тогда
вдруг оскалилась зарница, и забились крылья бычьи,
в памяти моей играла сумеречная вода…
* * *
Мне утешиться хотелось там, на площадном граните,
где бесстыдно тлели плахи; перисты и нечисты —
небеса в густом неоне; как паук, прядущий нити,
я и сам упорно верил, что погаснут все мечты
в душном пламени; мерцают под корявым вязом листья,
женщина ушла, оставив помело на мостовой,
на призыв сирен вечерних обречённые неслись, а
утром всё опять нальётся беспокойством, синевой…
В золотом осеннем храме, где горит листва не грея
и кренится свод отвесный – мы живём не навсегда,
тени – из воды зелёной, а во мне звучит всё время
дождевой орган вечерний, гравий, градины, вода,
легкие осколки света возле самых глаз повисли —
подлетели метеоры к ледяному витражу,
ты одна меня любила, королева сизых высей, —
новых слов – жемчужин белых – для тебя не нахожу.
Не пекись о сновиденье: спят стрижи, в дому почтенном
занялись дрова, пугливый призрак зашуршал крылом,
уголок найдётся в небе, где ползут вьюны по стенам,
и они о нас гадают: впору ли осенний дом,
я на свете знаю место, где душе на всё ответят,
где горит огонь прозрачный, призрачно звучат слова,
гладь зеркальная темнеет, льётся дождь, соцветья светят,
и о будущем мечтает робким шёпотом листва…
* * *
Конопля в озёрах мокла, далеко, у мамы в детстве,
отрясал на землю месяц млечную ночную слизь,
наши годы к тем долинам не вернутся, не надейся,
все мосты, паромы, шлюзы мутной пеной унеслись,
я утопленника вижу, паводок, сырые рощи,
готику и новостройку, слог и слово, всё вдали,
этот город, эту площадь я бы высказал попроще,
но крошатся самолёты над провалами земли…
А теперь в пустых аллеях – листья, тлеющая груда,
с горестной моей любовью плакать и молчать иду,
после явишься на площадь, ведьма, старенькая дура,
и не вспомнишь, для чего ты столько раз была в аду,
зарастёт моя могила; каплями песок исколот,
холод стынущей холстины, ледяная карамель,
бредит на часах кукушка, и шуршит, мерцает город,
вертит грязную девчушку бешеная карусель.
Из поэмы «Жальгирис»[9]9
Žalgiris (Грюнвальд) – деревня в Восточной Пруссии (ныне – в Польше), где в 1410 г. были разгромлены войска тевтонского ордена.
[Закрыть]
…Душа… ещё взойдёт моя луна;
медведь, однажды пойманный на травле,
он будет говорить по-человечьи: это сын
матёрого лесного исполина и девушки,
потом его всегда мы брали в битву,
и немцы удивлялись: вон литвины
опять ведут чудовище…
Блудницы-души, вы сражались храбро,
я к Жальгирису грозному иду,
не бойся, птица, я подальше уведу полки
татар, литовцев, русских и поляков,
пока они не обратились в пламя,
в траву на этом поле голубом, – их души
говорят незримыми телами —
в нетленном королевстве полевом…
…И виден странный путь: там плыл корабль,
зарубленного рыцаря из кожуры железной
упрямая выуживает рыба, а женщины
орудуют вальками; пусть Ягайло
под крапивой умертвит свою Ядвигу,
пусть крестоносцы собирают все полки
для Грюнвальда…
…в осоке восседают хмурые князья:
над всеми верховодит замученный Миндовг,
пускай он смотрит за живыми, а Гедимин —
со взгорья вешнего – убитых воинов
по свету шлёт на запад и восток,
отец, Кейстут, отчаиваться поздно: эти монстры
(их двое) пеньку мочёную не выпустят из рук,
а небесам ещё раскачиваться долго; человечек
яичко чибисово катит в гору, скоро
и дочери преобразятся в рыб, так много
кровавой неизвестности вокруг…
Я в Новограде светлом помню женщину,
грядущее она рассказывать умела, божья
коровка тлела меж её грудей, держава
великая цвела в её глазах: понабегут на двор
князья и просто шляхта, кто поплоше,
а кони всхрапывают в пальмовой листве,
лошадки ходят по нагретой женской коже —
ресницы не боятся рвать над зрячей
голубизной, а ты стареешь,
погоды дожидаешься у Ганга:
корону ляхи умыкнули, а Ягайло
так долго слушал соловьев, что умирает…
Я на пути от Жальгириса видел жямайта —
он разглядывал слоновий след, и я скажу:
пускай, черны и велики, над озером моим
восходят ветреные васильки… Мы будем
жестоки, будем вешать, на колы сажать,
пусть подыхают, на бескрайний океанский луг
пускай идут пасти свою скотину… Боже,
коровка разукрашена Тобой, и голубь тоже,
и лотос – перламутровый овал, верни нам лето,
пусть опять
окрепнут великие земные голоса: вот жаба,
вот кукушка, а попугаи и пингвины пускай
спешат на Твой песчаный и багровый остров,
точно Ты их звал…
О, сколько этих пестрокрылых, теплокожих
Тобою рождено!.. Вон брюкву
шинкуют у подножья Гималаев,
идут в лаптях осклизлых самураи, свои мечи
зазубрив друг о друга; те забрались
на зреющие вишни; те голосят, что откопали
большого краба… Впереди у всех —
великий Грюнвальд, немощь, старость, нищета,
дорога черепашья в Мекку только начата,
и пусть летят сипаи на велосипедах,
пусть маленького засмолили в бочку
и говорят: плыви…
Укрой их, Господи, туманом скорби и любви,
пусть опадают перезревшие кокосы, пусть
возвращаются с охоты тигроловы и жёлтое
страшилище несут, пускай вздремнут
задушенные орды, а выжившие пусть хватают девок
и тянут их за бёдра… Пусть миру на погибель
пустую тьму облаивает пёс, исходит хрипом, лязгом,
пусть ночь укроет всех – дай, Господи,
отдохновенье, передышку жямайтам, баскам,
полякам, курдам, ливам, немцам, русским и ятвягам…
Юргис Кунчинас
1947–2002
В заветном квартале
Заветный городской квартал,
где все ошибки и цветы:
там я когда-то обитал
среди беды и суеты.
Там синева над головой
и в паутине все кусты,
есть неизменный домовой
и место есть, где светишь ты.
О, в том квартале потайном,
у заповеданной черты,
сидишь в листве перед окном
и не стыдишься наготы.
Есть полоумная вода
и есть блистательные льды,
меж навсегда и никогда
есть паутина суеты.
Пусть боги подведут черту,
как и положено богам,
а я по улицам иду
и повторяю по слогам:
ты ни при ком и ни при чём
и с повседневностью на ты,
сидишь, обвитая плющом,
и не стыдишься наготы.
Оне Балюконите (Балюконе)
1948–2007
Заря
Этой болью, лелеемой смолоду,
К Вам со дна докричаться хочу —
Мне к теплу бы прижаться, к плечу
Лбом приникнуть, к надёжному холоду —
И согреться… Над бритвенной гранью
Встанет ангел: тщедушный, босой —
Вновь шепчу и свечой, и росой:
Меч меж нами… Но если пораню —
Исцелю… Приложу незабудку,
Забинтую тропой… Не страшна
Даже смерть… Чем живее она,
Тем скорее слезинку добуду
У последнего камня на свете, —
В утешенье сиротской душе —
Высь аукнется глубью: Дыши!
Там Заря – там светают Соцветия.
Стасис Йонаускас
1948
Гниющая ольха
С ней в обнимку скрипит осина —
Их в любом перелеске полно.
Гниение вечно. Трясина
Как скупое немое кино.
Растут и по десять, и по́ сто —
Все в струпьях и гнойниках.
Казалось бы, сгинуть просто,
А вот не выходит никак.
Так люди в краю родимом
Живут без вреда и следа —
И тянутся вслед за дымом
Никуда и всегда.
Промаялся – успокойся,
Оставь дела и слова:
Пора годовые кольца
Сматывать со ствола.
Ольха спокойно и смело
Без всяких «вперед!» и «за мной!»
Гниет за правое дело,
А после станет землей.
Летучая мышь
Дорожная пыль седая мерцает, не оседая.
Даже по воскресеньям не оживают старые снимки.
Лишь именам и фамилиям доверены заглавные буквы.
Но неизвестно, кто её так назвал.
Путей не больше пяти и не слишком дороги дроги.
Зубья пилы редеют. Выветривается слово.
Есть филантропы, фолианты, дефолианты, дефолты.
Но по её полету не разберёшь, кто прав.
Неведомо, для чего закат и за что рассвет, непонятно
Куда истекает месяц апрель и девается лунный месяц.
Пакля даже весной не даёт побегов, она подобна латыни.
И невозможно изобразить, как ухают ночью совы.
День завершается эхом ответа на каждую жизнь.
Ночь начинается эхом вопроса о вечности и тишине.
Только в подполье всё позади, и никто ничего не слышит.
Тишина безответна, как вопиющий в ночи.
Древесные кольца. Круги на воде. Пространство
Раздаётся, не находя исхода. И безначальный свет
Обгоняет любого, ибо не знает, куда летит.
А летучая мышь как мы: умирает, когда придётся.
Жямайтские слова
Они поставляют детали
речи, а не ружью.
Как их представлю в металле,
изображу, прожую?
В них нужда возникает нечасто.
Nachuj шлют их поводыри.
И они, как слепцы, стучатся
в толковые словари.
Им непонятен порядок —
только дождь и рассветный хлеб.
В обиходе и на парадах
их отрывистый звук нелеп.
И без них обойдётся месса.
В жизни правильной и большой
нет у них подходящего места
ни под лавкой, ни за душой.
Даже маковые соломки
долговечнее, чем они.
Их окончания ломки,
как последние летние дни.
Но Литву отражают в капле
даже грязные, даже те,
что навеки запаяны в колбе —
как лицо на старинном холсте.
После восстания. 1864
Скошены косы. А птицы еще не умолкли,
И слова вопреки запрету растут сквозь пепел; закон
Букву ведет на паперть и там четвертует; мчатся
Кони, пока не становятся танками; корни
Слов это корни смуты; книги исходят кровью;
Во тьме и слепой позабудет грамоту, а чиновник
Ищет в кармане слово, пока не нашарит копейку; мерно
Жернова перемалывают язык, выживает редкая буква.
Белые гусеницы – страшны и огромны —
Ползут через поле, раскалывая черепа
Зазевавшимся кочанам; еще не проросшие клубни
В борозды правильными рядами укладывает чума.
Стяг будто кубок – выпив его до дна,
Чужак не заботится о сохраненье сосуда;
Но черепки бессмертны – дайна и полонез:
Расставание крови с родиной.
Покидая людей, кровь становится эмигранткой,
Перемещённая так далеко, она не вернётся в сердце.
Но кровь не болит, и в этом она права,
Она красна и густа, – а ось истории требует смазки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































