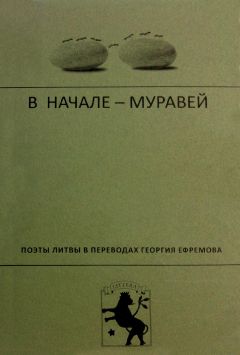
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Человек в санях (старая картина)
Сумерки в крапинах воска.
Звон зальделой бадьи.
Из рамы едет повозка —
И все в забытьи.
Дорогу тесали сами,
Вот и бела, как скамья.
По ней – на Крещенье – сани,
И сыплется краска с коня.
Душу ли вместе с телом
Уносят в дверной проём, —
Ведает каждый, что делал,
Не ведает, что потом.
Пейзаж истончён, источен,
И вороны тут как тут —
Вдоль облезлых обочин
Последней подати ждут.
В небе не видно плешей,
Но всё ясней на душе.
Спешит по холсту проезжий.
Недалеко уже.
Правду знать лучше
Птицы владеют крыльями, улитки не нуждаются в смазке,
Самолеты умеют летать, энергия не исчезает,
Земля непрерывно вращается, весной зацветает черемуха,
Народы имеют право на самоопределение.
Собаки предпочитают мясо, для хлеба не обязателен радий,
Будущее постепенно проходит, соль превращается в камень.
Рыбы не знают грамоте, потому их молчание бесполезно,
А когда молчание бесполезно, следует ждать беды.
Бабочки нам не родня – живут без всякого плана,
Металлоиды – слабые проводники, ёж обладает колючками.
Флаг не бывает бесцветным, пуля к цветам безразлична,
На солнце отсутствует влага, завоевать его невозможно.
Черви вполне бескорыстны, зайцы не слишком трусливы,
Всех занимает истина, одни лишь камни спокойны.
Мотылька не скрестишь ни с курицей, ни с сиренью.
Сказавшему правду всегда задают дополнительные вопросы.
Нет запаха у свободы, луна не владеет литовским
И не страдает бессонницей. Трактор не может без гусениц.
Люди не всегда излечимы. Цифры – не всегда величины.
Всё это так, однако правду знать лучше.
Сумерки
Где колосья белеют, и льны
зелены
посреди полутьмы,
где холмы
и ладони теплы,
и стволы
и ручьи холодны;
где немеет гроза до утра,
расплескав до небес вечера,
и ветла в полусне
и ветра, —
но уже просыпаться пора;
там сгустилась прозрачная мгла,
облегла
клевера за рекой
и, светла,
за собой привела
и земные дела,
и покой.
Видманте Ясукайтите
1948
«Ни ту иглу, ни ту петлю…»
Ни ту иглу, ни ту петлю
Не погублю, не пригублю,
Ведь все они – вблизи, вдали —
Меня коснуться не смогли.
За ту гряду, за ту беду
В чужую невидаль иду,
Ведь все они – враги, врали —
Меня коснуться не смогли.
Я – середина, я среди
Ветров, родившихся в груди,
Я – полпути, а вы извне,
И вы не встретитесь во мне.
Ведь вы белы, черны, черствы,
И каждый день другие вы,
Вы никогда – в пылу, в пыли —
Меня коснуться не смогли.
Римантас Ванагас
1948
Идти
идти
не боясь
что скоро стемнеет
что можно
сбиться
с пути
даже если ослепнешь
тебя тропа не отпустит
тебя на оставят
придорожные тополя
а когда
соскучишься
по живому теплу
только вздохни
и к тебе прикоснутся
кора и трава
идти
родина родина родина
Нийоле Миляускайте
1950–2002
«на толстом прозрачном льду…»
на толстом прозрачном льду
лежишь
и так долго
очарованно смотришь
на самое дно
пока не теряешься
что за мир
и можно ли снова
мне
после стольких лет
шагнуть в этот день
чистый и звонкий
разглядеть твои мысли
«вносишь в дом…»
вносишь в дом
вместе с охапкой дров
морозный воздух
и снежный привкус
как тепло (и входящий
понимает, что рядом Бог)
комната вся затоплена солнцем
таким золотым и густым
цветы
потихоньку взрослеют
бьют часы
обрывается нить и бабушка просит
вставить иглу в старенький «зингер»
наверное подшивает бельё
за окном неустанно слышны синицы
и тебе нестрашно
что не готовы уроки
что рукавицы промокли
снова несёшься на улицу
и ещё не знаешь
что у этого дня
привкус вечности
Гражина Цешкайте
1951
«Как уйти от себя, если страсти всего не отдам…»
Как уйти от себя, если страсти всего не отдам,
Как остаться с тобой – безжеланным, бесплотным, бесплодным,
И остаться собой, и телесный никчёмный обман
Уберечь в глубине, в оступившемся сердце голодном?
И всегда осязать эту жизнь, этот воздух живой,
Этот призрачный свет, возникающий втайне от слова;
Ночью – в ночь превращаться, вставать – изумлённой травой
И всегда понимать, что грядущее-та же обнова.
Ненавидеть без меры, и слепо любить без конца,
И осиливать страх перед небом в уклончивых звёздах,
И, очнувшись в ночи, различать, что чужие сердца —
Это мысли твои: вечным эхом умноженный отзвук.
Владас Бразюнас
1952
«ночь светла, тепла и нежна…»
ночь светла, тепла и нежна словно внутренняя сторона твоих бёдер,
во дрёме пребудешь, а днём пробудишься, и снова сонливую ночь вполовину
пробудешь со мной, а за окнами будет бело, и порывами будет мести, как мело,
и морозные меловые ладони огладят белую яблоневую кору, на юру, льдистый хруст, это
сад полупуст, если хватит глаз, всюду наст, всё до нас, эти сумерки полугусты, наши мёртвые матери расстилают повсюду беловые холсты, ноша медленна и тяжела, будто влажная мгла расползалась по случайному сну,
нежная, снова ты, моя нежная, мне даруешь меня, эту слабость и белизну
Фабиёнишес, 7.I.2002
«полдень жарок…»
полдень жарок
в холмах долин
серый жаворонок
он твой один
такое солнышко
у самых губ
покатилось зёрнышко
в небесную глубь
Всё это пиво
Бог человека любил пытливо,
ему из него же спроворил Еву,
увидел, что человеку мало —
из ячменя приготовил пиво.
Оплёл-опутал плетями хмеля
и дал слова, чтобы люди пели.
В начале-то было пиво,
затем стало слово —
от пива пошёл весь мир.
Ныне и присно
первоначала
пёстрого мира
ищи в Пасвалисе —
и пиву молися,
там, где бык
прыг с городского герба,
весь во хмелю, а за ним гурьба
гонится – будь то Пасха или же Троица —
поют и дерутся счастливо, —
а всё это пиво!
Всё – это пиво!..
Фабиёнишкес, 6.VI.2000
Войшелк[10]10
Войшелк (1223–1268), сын великого князя Литовского Миндовга (Mindaugas), князь новогородский (1254,1258–1263), великий князь Литовский (1263–1267). Около 1254 заключил мире Данилой Галицким, отдал его сыну князю Роману Новогородскую землю (Новогрудок), а сам постригся в монахи. Около 1258 вернулся в Новгородок и поселился в основанном им Лавришевском православном монастыре. В это же время возвратил себе княжение в Новгородке. В 1268 г. был убит галицким князем Львом Даниловичем.
[Закрыть]
в письмовной вязи демоны всё те же
из Греции, как тот Миндовгов сын
и сон мой всё никак на возвратится
и значит то, что значит: православен
на нет и разговора нет: монах
лишь соцветаниям послушен: служка
и слышно – жолклый оседает мрак
на терния стерни, святые брызги
а сына нет, и демоны всё те же
подслушивать – и слышать, путь всё ближе
всё ближе войско по большой воде:
кровавое дело
а солнушко село
и рдеет поляна
бело средь бурьяна
седло из сафьяна
Антанас А. Йонинас
1953
Вечер в музее
всё увы завершилось музеем
пустотой обернулась жизнь
пыль клубится а мы глазеем
это женщина без одежды
и мольбы её безутешны
и призывы бери и ложись
статуэтка в музейной зале
племена что давно мертвы
это вечность под видом вуали
околдована жизнь и скомкана
а за дверью та страшная комната
где архангел с подругой в пыли
«В поисках документов о собственной смерти…»
В поисках документов о собственной смерти
я не нашел свидетельства о собственной жизни
кто-то заверил печатью
что я родился
одолевал науки
где-то служил
женился на той от которой родился еще один человек
даже собака прошла регистрацию
и никаких доказательств
что могу умереть
ни в одной из амбарных книг
я так и не обнаружил
Вальдемарас Кукулас
1959–2011
Маме
Так и сидим – старость не старость,
юность не юность:
где-то неблизко мама осталась,
вот бы вернулась.
Медленно стынут капельки воска —
полосы, лозы,
плещется пламя остро и плоско,
катятся слёзы.
Мамина ласка вся уже спета
и увядает,
узкое пламя – деревце света
медленно тает.
Тонкое пламя, память о чуде,
дым как соцветье,
так вот и будем, так вот и будем,
будем на свете.
Вдруг озарится тьма напоследок —
капля сорвётся,
утлое утро, стынущий слепок,
веточки воска.
Айдас Марченас
1960
Уход
Уксус вместо вина.
Вместо сердца дыра.
Неоглядна вина.
Расплатиться пора.
Возвращай же долги,
хоть и пусто в груди:
добезумствуй, долги,
домолчи. Уходи.
И не плоть, и не дух —
чем тебе угожу?
Так и скажешь: недуг.
Ну и пусть. Ухожу.
27.10.1990
Тоска по великому служению
Лелеять стихотворение следует самое малое год,
все редкие просветления празднуя, не предаваясь прозе —
как будто небесный нектар собираешь для жизненных сот
и миром божественным смазываешь вселенские оси.
19.08.1993
Мнения
Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов
поскольку мненье эрекции
не отражает авторского сомнения,
поскольку июнь не равен тому, что «требуется» и «дано» —
автор провидит небо и – более или менее —
различает, что лев превращается в крысу, в урода, но
и этот небесный грызун перетекает в слона —
и качает хоботом,
а вот он уже кентавр – полу-юноша, полу-лось!
и вдруг – рассыпные литовские овцы:
в провизорской, оптом
взвешенные сахаринки – доказано; всё сошлось
15.05.2000
Конец света в 1981 году
Ну, вот и всё… Теперь уже конец.
Луна.
Все мысли – об отбое скором.
Три психопата запевают хором,
и параноик весел, как птенец.
А завтра будет вторник – день Бальзака,
его дежурство, и с утра кефир,
для идиотов шахматный турнир,
а я смогу отправиться, однако,
на серую скамью под старый клён,
что за неделю ветреного танца
весь облысел, – но в памяти остался
сырой порыв, богами вдохновлён:
клён золотой и тёмный, как альков,
предельно чёткий, точно axis mundi, —
то дерево, затерянное в грунте…
Всё, что хочу сказать – не для стихов.
Так вот – похоже, не годится тема,
и правы компетентные структуры.
Три психопата – родом из Сан-Ремо,
а те вдали туманные фигуры
в халатах – только мимо, мнимо, немо.
Так, о порядке…
В голове опять
пылает клёна царственная крона,
так Рим искрился под рукой Нерона,
на горе христианам: обвинять
невинных – значит, вторить мгле небесной…
(Из Рильке процитировать!) Песнь песней!..
Так я сидел под клёном и гадал
о том, что мне нужней, что бесполезней:
«Ведь я женат. И нет нужды жениться.
И разводиться глупо – мы с женой
недолго жили, да и шли во зле с ней.
А выпустят – как буду я удал!
Ведь я видал парящий лист над бездной:
единственное, что хранит изгой,
бросая мир насупленный и пресный.»
Так – о порядке… Тут порядок строг:
нет ручек, но еды дают помногу,
а станет плохо – обретёшь подмогу
в психиатрии. В такт биенью строк
рокочет клён: «Садись и дай мне руку.
Мир истекает. И душа, и плоть —
прекрасны. Надо огород полоть
и женщину любить – жену, подругу,
выдавливать тугие краски вплоть
до оживания холста, по кругу
идти – и пустоту перебороть.
И надо день переменить на ночь,
и мысли прочь, что не проснёшься завтра,
не спи и помни: смерть – она точь-в-точь
такая же, как жизнь: темна, внезапна».
А полнолунье множило беду,
и вторила небесная капелла:
«Смотри – листва еще вчера кипела,
эсхатология тогда была в ходу!»
И стало ясно: я схожу с ума
(как видно, стали действовать таблетки), —
спасти меня могла одна тюрьма,
я побежал – но в двух шагах от клетки
увидел: к чёрту катится луна,
а млечный путь сродни узкоколейке,
и клён не тот – совсем другая форма, —
где листья были – свищут канарейки…
Я у дежурной попросил – сполна
вколоть мне прямо в вену родедорма.
Ну, вот и всё… Теперь уже конец.
Бальзак смеется, как птенец:
ему
не привыкать к ночному зелью,
вновь умирает свет – и потому
снежинки тихо падают на землю.
12.10.1990
Как сочинить стихи
Главное – это решиться (если удастся).
Взять, например, и сказать: слово было в начале…
Или: жили да были в некоем государстве…
Или: Марченас, к доске, внимание, все замолчали.
Без сновидений о школе не было ни одной недели.
А чаще всего снятся занятия по математике.
Почему-то в девятом классе. Девочки в самом теле.
Пи. Пифагор. Всё по интимной тематике.
Словом – в начале было число. И доказано строго —
вопрос о курице и яйце был раньше, чем куры и яйца.
И разве не феминизм: инем янь заслоняется.
ОМ на уме и в уме… Сеновал и овал первородного слога.
Или абсцисса и ордината – им не дано разминуться,
ими охвачено всё. На них наша глупость нанизана.
Сосредоточенность одиноких, – просто подобие онанизма.
И мазохистская радость, что утром сумел проснуться.
«Я счастлив» – недавно сказал журналистке
(или как-то похоже).
И промолчал, что так же Мачернис
думал под свист снаряда[11]11
Поэт (1921–1944), убитый в конце войны случайным осколком.
[Закрыть].
Истинно так. Ошибаться поэту и в молодости негоже.
Глаз, тебя соблазняющий, выколи, а рука,
ввергающая в соблазн, да будет отъята.
Онтологическая тоска. В дурдоме один, ради шутки,
имя для здешней зимы подходящее смастерил.
Белокромешные зуммерки. Доктор, он выйдет
из этой шизофренической клетки? Январь истощился,
и мерные сутки
кругами расходятся вширь. И блажен только тот, кто видит.
И благословен, кто слышит. И слушает, если даже
он ничего не слышит. Сновидящий и бессонный.
Молящийся в храме февральском истовее,
чем бранился в похмельном январском раже.
Ибо молитва и брань сочетаются речью в громоподобные сонмы.
Как сочинить стихи? Надо слышать, пускай нечасто.
Надо уметь смотреть. И читать интересные вещи.
К примеру, что́ там выводит ворона
об этом этапе словещем.
О скончанье двадцатого века. Но всё-таки
что-то должно начаться.
Давняя ночь в Ленинграде: импровизо
Джон Донн уснул
Иосиф Бродский. Большая элегия
Нева, таблетка полнолунья,
окурки, пьяная шалунья,
свистает чайник от тоски.
Я, равнодушный и ничейный,
ныряю в полумрак вечерний,
в тот город, полный приключений, —
торговец, чей товар стихи.
«О рыцари! Не на привале —
я вечно в поиске: пера ли,
Ключа, Пароля и Грааля!
Но я найду, я дал обет.»
Бегу, не опасаясь бед,
плыву и, черти бы побрали, —
назад уже возврата нет.
Там Терпсихора в сонном танце,
в Танатовом цветочном глянце
хиппующие оборванцы
мне шепчут на ухо «пока».
И комната, и город пляшет,
и всё равно никто не скажет,
чья эта светлая рука,
зачем ночной порыв цветка, —
но это дивно в строчку ляжет.
Отсюда в сад сбегает тропка,
луна верху тверда, как пробка,
всё в темноте сияет ровно —
от светляка до той звезды.
А розам снится рай. Подробно
шаги мои грохочут. Громко,
как комья о поверхность гроба,
на землю сыплются плоды.
И корни рвут из-под плиты
пустое тело. Спит утроба
розария. Шуршат сады.
Но тише процветанья сада
седая пряжа снегопада —
запорошенные межи,
где ночью ёжатся ежи,
и красота словесной лжи:
ей нападать и падать надо.
Прости.
И на заре блаженствуй
в своей осмысленности женской —
под сердцем шевельнулся плод.
А я уже не сплю – и вот
проснулся Бродский, ритмы, рифма,
кириллица необорима,
слюна неудобоварима,
и Венцлова, и перевод,
и родина в лохмотьях дыма,
и надвигающийся лёд.
Над бухтой дождь, воронья стая,
Кресты, кукушка часовая,
железный Петя, суки, сутки,
скучающие проститутки,
похмельный белоснежный бред,
суда, курсанты-малолетки,
гардины, лестничные клетки,
прелестницы старинной лепки,
горящие блатные кепки,
и жаворонки юных лет.
John Donne проспался, видит: Питер…
Лохматый неформальный лидер
внизу острит – под стать ножу
над нежным цветником – дрожу,
как шприц внутри зари венозной.
И это никогда не поздно.
И никогда…
Бедный Иорик
не выучивший ямба и хорея,
на пальцах я подсчитываю стопы,
что напишу – легко сдувает время,
Шекспиру стоило присвистнуть, чтобы
взыграла буря! как мне с ним тягаться —
упрямо в долгом ящике пылиться?
ах, тягостная доля святотатца!
яд на слуху и в сердце – небылица:
актеры, отравившие друг друга,
вам низко кланяются, сходят с круга,
смолкает флейта, хватит, расставайтесь,
слова, слова! и принц бросает чтиво —
на старый череп смотрит молчаливо,
а после шепчет: бедный, бедный Айдас[12]12
Айдас (Aidas) – по-литовски эхо.
[Закрыть]
Банальное
стоит зима нагая, —
гляди, несчастный враль:
как все недомоганья,
кончается февраль —
итог неосязаем,
неважно на каком
пиши, что исчезаем
и явно, и тайком, —
эдемских пташек стая
на стеклах всё видней:
мороз, – ладья резная,
но мы еще не в ней
Ангел в забегаловке памяти
Зима темна. Сюда, похоже, вновь
наведался ледник. Попозже выйдешь
на Замковую в книжный – и увидишь
себя в доисторической пивной:
в советской «Вайве». Потому что спутал
страну и дверь. И времена
смешал. И ангел там забился в угол,
его душа от мамонтов черна,
он шепчет, тихо водку наливая:
«Тут не отчизна – точка нулевая.
Умение безжалостней ума…»
«А дух? И прах? И лагерная стужа?»
«Душесмешенье, удушенье, ужас —
архипелаго аго агума![13]13
Заклятие из стихотворения Сигитаса Гяды «В новых алхипелагах».
[Закрыть]»
Кястутис Навакас
1964
Поэты
им кто-то слова сортирует метафоры дарит
и в ножницах сжав преподносит им каплю воды
они как незрячие в мире бессмысленно шарят
чуть хлопнешь в ладоши – их тут же простынут следы
им красные шапки сияют вверху над лесами
за двадцать последних столетий прочерченный след
подуешь на пальцы и пальцы взойдут парусами
опустишь и кровь не уймется две тысячи лет
вселенная их избрала ничего недоверие
они ворожат бесконечное разворошив
как ангелы глухо внимают шуршанию перьев
и будто им в радость что свет беспримерно фальшив
их стрелки тенями стирают труху с циферблата
и видно что время ненадолго заведено
а речь их была тороплива подробна крылата
и сами они как листы истрепались давно
и темы внезапно иссякли а были как будто
но если что было оно никогда не пройдет
задремлет в тебе словно спящий бестрепетный Будда
и вдруг да проснется а если точнее: пробьет
на полках трехтомная пыль в ожидании позднем
коротких целительных пауз хвалебной хулы
и кто-то им приотворяется так и не познан
в надежде быть познанным в горстке уловленной мглы
Восемь тридцать
ну что ты всё носишься с этим Гершвином а?
не день a magie noire
не успел я всех оседлать слонов ради которых сплю —
а в комнате ты и широко безызвестный in blue
и не подсовывай Китса я в этом ни ме ни бе
в голове две паузы я их посвящаю тебе
телефоны молчат наглотавшись лохмотьев дня
выкинуть что-нибудь? слово из песни? меня?
не успел я во сне расслабиться вас невпротык
снова меня подбирать как корку и целовать родных?
пускай себе сохнут мокнут дохнут издалека
– пока!
вон ходит внизу по клавишам черным зима
ты снова что-то плетешь? снова кому-то ма?
ну и ладно еще посплю подремлю угу
и клавиши пусть растают себе в снегу
всё что еще могу забелю
in blue
Сигитас Парульскис
1965
Ничто меня не удержало – в такое мгновение – даже детство
теперь только детство: годы сродни пустыне
дорога впервые, и окна, и поле с россыпями костей
одна только смутная память, облёванные святыни
мать, отдающая мести любимых своих детей
теперь только детство: мама выкладывает поленья
отец посреди борозд, конские ласки грубы
я не вернусь в это вечно брюзжащее племя
я не вернусь в это стадо, что топчет свои гробы
теперь только детство: вернуться, но без возврата
ни лилий, ни белены, ни белизны кувшинковой нет
куда, сирота, в XVI – й, что ли, где красота распята
разве дрожащее сердце втиснется в твой скелет
теперь только детство: бойня меня всосала
о, внутренние дела! по жилам крадется обморок
в покинутость, в холод, в покойницкую вокзала
там лунная в небе могила или слезящийся окорок
теперь только детство: что в нем найти могли мы
мясо, мясо и кровь – живое червям скормили
из глотки моей – красноталые космы, а липкие липы
цветом своим укрывают похмельную дуру Марию
теперь только детство: стеклянная дымная призма
к столу примостился Тарковский, на ладонях – по видеоязве
не теперь – и не только – не детство – и не смерть нам отчизна
видение – привидение – провидение… Разве?
«Полюби, Господи, кисель из груш…»
полюби, Господи, кисель из груш
и не только, не только – и мою душу
полюби, Господи, лютую стужу
и не только, не только – и мою душу
полюби, Господи, глупую клушу
и не только, не только – и мою душу
полюби, Господи, пьяную курву
Христова тела зловонную урну —
и не только, не только – и меня дурня
Альвидас Шляпикас
1966
«Вот женщина седая пожилая…»
вот женщина седая пожилая
в долине камень в туче птичий клин
клубится вишня холмик опыляя
в стеклянных небесах трезвон – ян ин
атлант из глины Ева очень рада
вкушает грушу и она права
трава и воля до низин Евфрата
в песке увязнув ёжится Литва
в апреле непорочность всё короче
где были два там станут дважды два
в руке японца розга – в ближней роще
токуют топоры – в реке плотва
и мимо дома утекают сутки
смотрю со дна – на гладь садятся утки
Мальчик
порнографика тайных карт и старуший протез скрипящий —
и в стакане сыро-зелёной воды отражённый рассвет,
табуретка и ножик, и голод, и ящер
в той зиме, в том стекле, из которых и выбора нет
сигарета затеплится и пробудится несмелое утро,
немота или письменность, Достоевский зачитан давно-далеко
Петербург полумесяцем падает в воду, там зябко и мутно,
ты же с книжной обложки слизываешь стихотворное молоко:
города пламенеют и девушки на столах танцуют без тени
щурится мятый валет среди хлебных крох и костей
гвоздь вгоняет сосед то ли в стену, то ли тебе непосредственно в темя
разлетаются часики – прямо на завтрак кучка стальных гвоздей
«это немощь» – ты мыслишь – «раю и праву поверить трудно»
и свинцовая голова ныряет в полыхающее вчера
и глядишь – озабоченный Ной тащит льва на осевшее судно
и под действием вражеской веры опрокидывается гора
Мой отец тает
Языковед был в полном восторге
когда я
в ту пору студент
рассказал
что ещё существует
в Аукштайтии форма «таять» —
не исчезать убывать
а удить – ставить сети, рыбачить
тает отец мой
я говорил
он таять идёт (или таить?)
воображаю лодку
и в ней отца
неподвижно сидящего
в бескрайней тиши
когда говорят лишь рыбы
потом
спустя несколько лет
внезапно
в доме сестры
я обнаружил его сидящим в постели —
торчащие скулы
острый нос
непомерно большие уши
в лице желтизна
сынок
я услышал
мы больше не встретимся
сиплые звуки
тяжёлыми сгустками
падали у него изо рта
я пробовал успокоить
я не верил
когда-то мы с ним болели
лежали на соседних кроватях
большие чёрные голавли
красными широкими плавниками
опахивают речные омуты
он так говорил
они поджидают нас
вот подрастёшь
научу тебя таять
одолевать великанов
в речной глубине
тает отец мой
отец мой тает
я плакал
не веря
в загробные реки
когда его привезли домой
ни с того ни с сего
лопнул водопровод
мы брели
против ледяного течения
с трудом волоча горбы добрых воспоминаний
огромные чёрные голавли
медленно плыли
в тёмных небесных
глубинах
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































