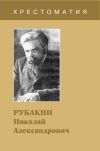Текст книги "Библиопсихология. Библиопедагогика. Библиотерапия"

Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
На наш взгляд, прав А. Амфитеатров, знавший обоих и достаточно пространно написавший о роли Суворина в жизни Чехова: «…Суворин, проверив коснувшегося его слуха отзыв, сразу уверовал в Чехова. Понял в нем великую надежду русской литературы, возлюбил его с страстностью превыше родственной и сделал все, что мог, для того, чтобы молодое дарование Чехова росло, цвело и давало зрелый плод в условиях спокойствия и независимости… Дал ему вырасти внепартийным и независимым» [1, с. 81, 83]. В этой помощи таланту молодого писателя – безусловная заслуга влиятельного книгоиздателя. Но в то же время Амфитеатров подчеркивает, что «влиять на этот здравый, твердый, строго логический и потому удивительно прозорливый ум была задача мудреная… Суворин видел Чехова лишь настолько, насколько тот позволял проникать в себя. Вообще-то этот разрешенный слой вряд ли был глубок. Чехов был не тот, кто любил конфиденции» [1, с. 89, 103]. «В противоположность Суворину, он (Чехов. – Н.К .) ужасно глубоко зачерпывал жизнь даже в самых незначительных ее мелочах. Совсем не заботясь о том, совсем непроизвольно… Суворин – огромное воображение, чутье, инстинкт, эмоция и “человек волны”. Прежде всего – эхо. Чехов – великое знание, воля, система и сила. Прежде всего – голос» [1, с. 102, 109]. Думается, в такой трактовке можно и жизнь человека рассматривать как целостный текст, которому можно дать и образное определение («Суворин – эхо», «Чехов – голос»).
И более яркий пример «текстового» и «контекстного» восприятия события или явления можно проследить по тому, как читали и принимали современники пьесы А.П.Чехова. Александр Измайлов (известный прозаик, критик, поэт-пародист) так рассказывает о театральном событии 17 октября 1896 года: «Катастрофа с “Чайкой” – один из наиболее памятных моментов в жизни Чехова. Печальная строчка о провале пьесы, с какой связывались едва ли не самые смелые надежды писателя, прорезает даже самый краткий биографический набросок о Чехове. И когда Чехов попадет в учебники, об этом будут учить гимназисты…». Но суть «провала» – оскорбление, которого Чехов не мог забыть всю жизнь: сам рассказывал, что «был ранен, почувствовав, что некоторые из его товарищей в антракте “отнеслись к нему высокомерно”. В его душе навсегда осталось пренебрежительное и раздраженное мнение о критиках и рецензентах» [1, с. 55].
Причина особой травли премьеры «Чайки» во многом была в том, что Чехов был «уже писатель с совершенно определенно установившейся и чрезвычайно лестной репутацией. Как драматург, это – автор имевшего успех “Иванова” и неудавшегося “Лешего”. В “Русской Мысли” уже прошел его “Сахалин”. После знаменитой “Палаты № 6” он – уже постоянный и почетный сотрудник газеты “Русская Мысль”. Об его пьесе заранее оживленно говорят. На пьесу идет не случайный рецензент “из мелких”, а специалисты театральной критики и сами писатели… Но отрицательный эффект первого спектакля был настолько ошеломителен, фиаско пьесы настолько очевидно, что было немыслимо отстаивать успех комедии. Даже дружественный Чехову Суворин в ночной заметке не мог скрыть неуспеха» [1, с. 56–57]. Он написал: «Пьеса не имела успеха, хотя в чтении это – прямо талантливая вещь, стоящая по литературным достоинствам гораздо выше множества пьес, имевших успех».
В «Петербургской Газете» авторитетный критик А.Р. Кугель высказался так: «Давно не приходилось присутствовать при таком полном провале пьесы. Это тем замечательно, что пьеса принадлежит перу талантливого писателя, хотя, быть может, и не в меру возвеличенного друзьями… почти не аплодировали актерам. Вещь неслыханная в стенах доброго Александрийского театра!.. Выражаясь словами беллетриста Тригорина, “брюнеты были возмущены, блондины сохраняли полное равнодушие”… В анонимной заметке в “Петербургском Листке” отмечалось, что “Чайка” погибла. Ее убило единогласное шиканье всей публики… “Чайка” – это какой-то сумбур в плохой драматической форме» [1, с. 57–61].
Лишь 19 октября Суворин дал комментарий всем голосам прессы, заступившись за «Чайку». Он писал: «Сегодня день торжества многих журналистов и литераторов. Не имела успеха комедия самого даровитого русского писателя из молодежи, которая выступила в 80-х годах, и вот причина торжества… О, сочинители и судьи! Кто вы? Какие ваши имена и ваши заслуги?.. Написать такую оригинальную, такую правдивую вещь, как “Чайка”, рассыпать в ней столько наблюдений, столько горькой жизненной правды может только истинный драматический талант… но для сценического успеха необходима и ремесленность, от которой автор бежал…» [1, с. 61–63].
Действительно, «ремесленность» и эпатажность на потребу публике – это не для Чехова. Анатолий Эфрос писал об особенностях его драматургии: «У Чехова в пьесе – эмоциональная математика. Все построено на тонких чувствах, но все тончайшим способом построено (выделено автором. – Н.К.)». И сам Эфрос, режиссер 1960—1980-х годов, отмечал изменение жизненного контекста чеховских пьес: «Теперь, быть может, такое время в искусстве, когда эту эмоциональную математику нельзя передать через быт. Надо подносить ее зрителям в каком-то открытом, чистом виде. Пикассо рисует одним росчерком, точно и метко, всю позу схватывая, все движение. Но это – почти символ, почти условный знак… То же самое и в театре. Можно создать иллюзию жизни, можно создать атмосферу, живые характеры и т. д. А можно во всей этой жизни в пьесе найти тот единственный росчерк, который сегодня выразит очень важное чувство и очень важную мысль… Ритм и стиль репетиции стали иными, потому что иным стало мышление…» [10, с. 80–81]. И суть пьесы «Вишневый сад» Эфрос определил несколькими фразами: «Опасность и беспечность. Беззащитность. Быстротекущая жизнь и “недотепы”. Неумелое сопротивление надвигающейся беде. Уходит в прошлое, а будущее не наступило» (10, с. 81].
Стоит сказать и о том, что первая постановка чеховских «Трех сестер» самого Эфроса в 1967 году была «скандальной», по отзывам той же прессы. А вот о второй постановке в Театре на Малой Бронной пьесы в 1982 году критик Елена Давидова писала: «Режиссер явился, круто изменив свою манеру. Как в ересь, он впал в неслыханную прежде простоту, продемонстрировав редкую свободу от зрительских ожиданий, – и, кажется, это не стоило ему никаких усилий… Незнакомые молодые артисты существуют в какой-то новой манере: отход от психологизма, легкая быстрота касания, небрежение деталями в пользу целостного образа (вспомним, что именно о таком видении пьесы писал А.Эфрос! – Н.К.)… Режиссер предлагает нравственную модель выживания в ситуации катастрофического отторжения духа. Ясная этическая цель вызвала к действию новые художественные средства – аскетические. С этого момента искусство Анатолия Эфроса изменилось столь решительным образом, что многие к нему так и не смогли приспособиться…» [4].
Но именно чеховский психологизм – тонкое воздействие на читателя и зрителя – стало особо привлекательно в начале XX века в России, позже на Западе, где после Второй мировой войны с развитием в философии и литературе экзистенциализма ярко обозначился интерес к сути человеческой жизни – изгибам души и переживаниям.
И в этом контексте можно снова обратиться к личности А.П. Чехова. Его современник – журналист, театральный и литературный критик Сергей Яблоновский в очерке «Два Чехова» подчеркивал: «Всмотритесь, вдумайтесь: разве их было не два? Во всем различные, порою до такой степени, что они являлись антиподами один другому. Даже имена у них были совершенно различны: одного звали Антоша Чехонте, другого звали Антон Павлович Чехов. Один родился в крестьянской семье, добившейся некоторого материального достатка, живущей жизнью городского мещанства. Другого надо было бы назвать аристократом, если бы по поводу этого слова не приходилось каждый раз делать оговорок… один… веселым, звонким смехом заливается по поводу всего, что встречает вокруг себя. А встречает он обывательщину, пошлейшую, тупую, невежественную, злобную, лживую обывательщину… У другого были сумерки, и хмурые люди, и такая скорбь, какой, может быть, за исключением Лермонтова, ни у кого не было в русской литературе» [1, с. 111–113]. И далее, младший современник писателя, хорошо знавший его, размышлял: «Но откуда же все-таки эти два лица? Почему всем дано одно, а ему – два? Потому что в Чехове медленно, как все огромное, рос и формировался внутренний человек… Чехов выработал сам того исключительного человека, которым предстал перед нами, завершил свое развитие. И одно только было в нем всегда вечное, чему он никогда не изменил: безусловная честность, безусловная правдивость, беспримерная независимость и как художника, и как человека… Весь был свой особенный, ни на кого не меняющийся… Цельный, сильный, настоящий; друг и учитель» [1, с. 116–117].
…Каждый человек неповторим, текст и контекст его жизни уникален, и все же есть те, кто имеет единственный голос, который нельзя смешать ни с чьим другим, пример того – А.П.Чехов. И особую симпатию к этому большому художнику слова вызывает тот факт, о котором писали современники: «… у него была своя собственная песня, никем до него не пропетая; он был таким огромным среди окружавших его маленьких писателей 1880-х и 90-х годов, а полагал, что его достоинство и сила в том, что он – хорист, артельный рабочий…» [1, с. 115]. Думал, что читать его после смерти будут 7—10 лет, но минуло уже столетие, а мы повторяем слова, сказанные в начале века двадцатого: «Чехов весь в будущем, и мы только начинаем понимать, как он был огромен, но уже давно поняли, что необходимо поставить вехи, провести демаркационные линии: русская литература до Чехова и русская литература после Чехова. А если хотите, то и еще больше: русская жизнь до Чехова и русская жизнь после Чехова, потому что влияние творчества Чехова на русскую жизнь бесспорно и велико» [1, с. 115–116].
1. А.П. Чехов в воспоминаниях современников / Сост. А.Л. Костин. – М., 2004.
2. Библиопсихология и библиотерапия / Ред. Н.С. Лейтес, Н.Л. Карпова, О.Л. Кабачек. – М., 2005.
3. Зинченко В.П. Возможна ли поэтическая антропология? – М., 1994.
4. Крымова Н.А. Имена. Книга 4. Высоцкий. Неизданная книга. – М., 2004.
5. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка… 4-е изд., доп. – М., 1999.
6. Осип Мандельштам. «Полон музыки, музы и муки…»: Стихи и проза / Сост. и комментарии Б. Каца. – Л., 1991.
7. Рубакин Н.А. Психология читателя и книги / Краткое введение в библиологическую психологию. 2-е изд. – М., 1977.
8. Саркисян К.Б. «И слово в музыку вернись…» (музыкально-поэтическая антропология). – Самара, 2001.
9. Чехов А.П. Собр. соч. в 12 т. – М., 1960–1964.
10. Шапарь В.Б. Новейший психологический словарь / В.Б. Шапарь и др. Изд. 2-е. – Ростов н/Д, 2006.
11. Эфрос А. Профессия: режиссер. – М., 2003.
Созерцание и деятельность в рассказе А.П. Чехова «Дом с мезонином»
Д.Л. Агапов
В течение всей жизни человек развивается и познает окружающий мир. Согласно Раушенбаху, существуют два пути познания: путь логического мышления и путь созерцания, при котором человек наблюдает картину бытия, лишенную подробностей, но зато обладающую свойством полноты [4, с. 271]. Моменты возникновения состояния созерцания можно увидеть в произведениях Л.Н. Толстого, И.А. Бунина, К.Н. Леонтьева и, конечно, А.П. Чехова, например в его рассказе «Дом с мезонином».
Само название наводит на мысль о двух составляющих рассказа. Мезонин, расположенный под небом, созвучен главному герою – художнику, созерцателю по жизни. Он далек от любой деятельности, ему свойственно созерцание в той его части, которая касается лишь наблюдения за окружающим миром: «Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал» [5, с. 76].
В то же время символ деятельности близок хозяйке дома Лидии Волчаниновой: «В это время Лида только что вернулась откуда-то и, стоя около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла двух-трех больных, потом с деловым, озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкап, то другой…» [5, с. 83].
Читая рассказ, постепенно не только погружаешься в размеренный быт героев того времени, но и начинаешь по-другому смотреть на «неодушевленные» предметы. Усадебный дом превращается в «самостоятельное существо», которое словно с высоты своего строения (мезонина) смотрит на происходящее вокруг: «…милый, наивный старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, и понимал все» [5, с. 92].
Художник и Лида находятся в рамках своего узкого восприятия реальности, а усадьба выступает в роли наблюдателя, раскрывая перед читателями иное измерение бытия. Усадьба становится точкой покоя, вокруг которой происходят события.
Герои постоянно спорят, жестко отстаивая только свою позицию: «Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности, так же как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада. Вы не даете ничего, вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности, новый повод к труду», – говорит художник, на что ему Лида с презрением возражает: «Ах боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь!»
Но художник не унимается: «Нужно освободить людей от тяжкого физического труда. Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности – в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый, животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе, и тогда увидите, какая, в сущности, насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, науки, искусства, а не эти пустяки». В ответ, еле сдерживаясь, хозяйка, усмехнувшись, произнесла: «Освободить от труда! Разве это возможно?» [5, с. 88]
При чтении рассказа, несмотря на противоположность мнений героев, создается ощущение изумляющей целостности этих двух позиций, которое подкрепляется высказыванием Ж. Лакруа: «Освещенное любовью созерцание уже не может быть бегством от мира. Христианин – это тот, кто трудится над осуществлением истории: разнообразие призваний, одних – более созерцательных, других – более деятельных, не означает противостояние их, поскольку все должны служить одному делу» [3, с. 494].
А.П. Чехов сочетал в себе способность вдумчиво описывать окружающую действительность с пониманием ее истинной природы и того, что необходимо сделать для нее. Объединение созерцательного и деятельного восприятия действительности, которое олицетворяет дом с мезонином, присуще самому автору. А.П. Чехов одухотворяет усадьбу не только потому, что она объединяет главных героев, но и потому, что, являясь неподвижным центром, вокруг которого кипит жизнь, она представляет собой обитель всех деятельных начинаний и мыслей, вдохновляющих главных героев. Поэтому она и становится своеобразным микрокосмом созерцания, зеркальным отражением мыслей и мироощущений автора.
В рассказе «Дом с мезонином» писатель будто раскрывает перед читателями грани своей личности. Чехов умел, погружаясь в деятельность, не признавать ее власти над собою, ясно видеть необходимость высших, духовных целей бытия: «Кто искренне думает, что высшие и отдаленные цели человеку нужны также мало, как корове… тому остается кушать, пить, спать или, когда надоест, разбежаться и хватить лбом об угол сундука» |цит. по: 2, с. 144].
А.П. Чехову присуще «высшее созерцание», а именно созерцание в деятельности. Он выступает наблюдателем жизни и, принимая людей, с любовью описывает исполняемые ими роли. Мудрость у него сводится к простоте и естественности. М. Горький писал о Чехове: «У Чехова есть нечто большее, чем миросозерцание, – он овладел своим представлением жизни и таким образом стал выше ее. Он освещает ее скуку, ее тяжести, ее стремления, весь ее хаос с высшей точки зрения. И хотя эта точка зрения неуловима, не поддается определению – быть может, потому, что высока, – но она нами всегда чувствовалась в его рассказах и все ярче пробивается в них» [6, с. 33].
1. Агапов Д.Л. Персонализм как методологическая основа психокультурологических секций //5-е Ознобишевские чтения: Мат-лы науч. – практ. конф. 29–30 июня 2007 г. – Самара, Инза: БИ, 2008.
2. Дунаев М.М. К югу от Москвы. – М.: Искусство, 1986.
3. Лакруа Ж. Избранное: Персонализм: пер. с франц. – М.: Росспэн, 2004.
4. Раушенбах Г.В. Геометрия картины и зрительское восприятие. – СПб.: Азбука классика, 2002.
5. Чехов А.П. Повести и рассказы. – Куйбышев: Куйб. кн. изд-во, 1984.
6. Чехов А.П. Pro at contra / Сост.; предисл., общ. ред. И.Н. Сухих; послесловие; примем. А.Д. Степанова. – СПб.: РГХИ, 2002.
Психологический анализ художественного текста в учебниках серии «Русская филология» (на примере произведений А. С. Пушкина)
Г.Г. Граник, Л.А. Концевая
Пушкин кажется понятным, как в кристально прозрачной воде кажется близким дно на безмерной глубине.
Валерий Брюсов
Правда, эти повести занимательны, их нельзя читать без удовольствия: это происходит от прелестного слога, от искусства рассказывать (conter), но они не художественные создания, а просто сказки и побасенки.
В.Г. Белинский
В 40-е годы прошлого века Б.М. Теплов предложил использовать в качестве одного из психологических методов исследования анализ художественной литературы. Он был глубоко убежден, что «художественная литература содержит неисчерпаемые запасы материалов, без которых не может обойтись научная психология на новых путях, открывающихся перед ней», и говорил о возможности и необходимости «установления принципов научно-психологического использования данных художественной литературы» [2, с. 360].
Идея Б.М. Теплова неслучайна. Большой писатель – всегда психолог, его герои – живые люди, которым не только может сопереживать читатель, их может изучать и ученый. Свои теоретические размышления Б.М. Теплов проиллюстрировал двумя литературно-психологическими этюдами. В них в качестве инструмента исследования он использовал предложенный им метод на произведениях Пушкина. Первый этюд посвящен маленькой трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери», второй – Татьяне Лариной, ее темпераменту и формированию характера, становлению ее личности.
Психологический анализ художественной литературы неоднократно привлекал к себе внимание психологов (см., например, работы Л.С. Выготского). Но вот что интересно: сейчас, когда синтез властно вторгается во многие области научного знания, то, что предложил Б.М. Теплов, получило развитие в литературоведении. Такие литературоведы, как, например, Б.С. Мейлах, Ю.М. Лотман, А.З. Лежнев, В.С. Непомнящий раскрывают героев художественных произведений как литературоведы-психологи. Психологический анализ стал одной из основных частей их подхода к художественной литературе. В их методе слились литературоведение и психология, история и философия.
Одним из интереснейших направлений такого комплексного подхода являются исследования проблемы смысла жизни. В работах В.Э. Чудновского, Н.Л. Карповой и сотрудников их группы литературоведы и психологи могут найти интересный материал, который поможет по-новому взглянуть на многие проблемы психологии, в том числе психологического анализа художественных произведений.
Мы предположили, что психологический анализ художественной литературы может стать одним из способов воспитания Читателя, читателя, умеющего понимать художественный текст, открытого его эмоциональному и эстетическому воздействию, способного проявить нравственную позицию в оценке читаемого и умеющего грамотно выразить свои чувства и мысли как в устной, так и в письменной форме. Это человек, который «судит, наслаждаясь текстом, и наслаждается, рассуждая» (И. Гёте). Читателем с большой буквы мы называем человека, для которого чтение является потребностью, формой духовной жизни и средством созидания самого себя как личности.
Мы поставили перед собой задачу создать психологические учебные книги по русской филологии. Такие учебные книги могут использоваться школьниками для самостоятельной работы и учителями при организации работы в классе. Однако, как известно, прямой проекции науки в практику школы нет, и работы литературоведов, а также немногочисленные исследования психологов в этой области просто перенести в школу нельзя. Поэтому нами было открыто и разработано направление, которое мы определяем как «школьное литературоведение на психологической основе». В учебник закладывается особый, созданный нами литературоведческий материал, который строится на основе психологических закономерностей восприятия художественного текста. Создание такого текста для учебной книги по русской филологии – это специальная и достаточно сложная научная и практическая задача.
В качестве примера приводим фрагмент учебной книги по литературе, посвященный разбору одной из «Повестей Белкина» – повести «Выстрел». Фрагмент построен в форме беседы авторов с учениками.
* * *
Мы надеемся, что вы уже прочитали повесть и подумали над прочитанным. А теперь выскажем свою точку зрения мы. Вы, может быть, с ней не согласитесь. Тогда спорьте с нами. Но только доказывайте свою правоту.
В литературоведении неоднократно высказывалась мысль, что «Выстрел» – одна из самых загадочных повестей Пушкина. Тем интереснее найти разгадку.
Читая «Выстрел», вы, наверное, уже поняли, что эта повесть интересна не только своей острой, захватывающей фабулой (сюжетом), которая держит читателя в постоянном напряжении, но и загадочностью главного героя. Загадка этой повести, скорей всего, именно в самом герое. Герое с необыкновенным именем – Сильвио, о котором рассказчик сообщает, что «какая-то таинственность окружала его судьбу». Психологическая разгадка Сильвио – вот главная пружина всей повести. Сама же разгадка таится в смысле жизни героя. Чтобы ее разгадать, вам предстоит превратиться в литературоведа-психолога и вместе с нами провести исследование.
В психологии есть такое понятие направленность личности, которое связано со смыслом жизни. Это интересы и склонности человека. От того, для чего он живет, чем интересуется, зависит очень многое: заполненность жизни, успех, окружение, настроение и многое другое, Значительность и широта интересов освещает все, что человек делает. А бывает наоборот: кто-то одержим одной идеей, одной страстью, и тогда он может превратиться в неполноценного человека, маньяка. Вот такое подавление всех интересов одним создает узкую направленность. Узкая направленность может не только обездолить самого человека, но и принести страдания другим.
Наверное, вы уже поняли, что все это имеет непосредственное отношение и к Сильвио. Однако все по порядку.
Представьте себе захолустное местечко, где расквартирован армейский полк. Там нет ни одного «открытого дома, ни одной невесты». Будни, скука, однообразие, учение, трактир, пунш, карты – вот жизнь офицеров русской армии. И на фоне всей этой унылой серости – загадочный Сильвио.
Найдите в тексте слова, которые особенно ярко характеризуют его внешность и впечатление, которое он производил.
Наверное, вот что вы нашли: «Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рта, придавали ему вид настоящего дьявола».
Конечно, он не мог не поразить воображение тех, кто с ним общался. С текстом в руках проведите свое наблюдение за ним, чтобы ответить на основные вопросы: что же это был за человек и в чем смысл его жизни?
Наверное, вы без труда увидели, что он человек яркий, необычный. Вначале блестящий гусар, который «привык первенствовать». И это не просто положение в обществе – это его страсть. Что говорит об этом сам Сильвио? Найдите его слова в тексте.
Скорей всего, вы отметили слова: «смолоду это было во мне страстью». В нем было все, чтобы страсть эту удовлетворять, и он наслаждался своей славой и обожанием товарищей. Но вдруг все изменилось…
В полку появился другой кумир, который ни в чем не уступал Сильвио, но к тому же был еще красив, знатен и богат. Найдите в тексте характеристику графа, которую дает ему Сильвио.
Вот она: «Отроду не встречал счастливца столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым он не знал счета и которые никогда у него не переводились, представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось».
Появление графа изменило не только жизнь Сильвио – оно изменило его самого: из блестящего повесы-гусара он превратился в злобного завистника. И теперь всеми его поступками начинает руководить зависть. Зависть приводит к дуэли, дуэль – к отставке. На смену зависти приходит более страшный мотив – жажда мести. Злобный завистник превращается в злобного мстителя. И теперь зависть – это уже не просто мотив поведения: это – основной, единственный смысл жизни. Так у Сильвио возникает узкая направленность, которая подчиняет себе все: она изменит жизнь Сильвио, она будет разъедать его душу.
Страшный смысл жизни делает страшным и самого Сильвио. Какую пустую, никчемную жизнь он теперь ведет! Он стреляет: стреляет в карты, стреляет в стены, стреляет в мух! Он весь во власти мести и своего «ужасного искусства».
Сильвио не живет, а ждет своего часа. И это час мщения. Ради него он даже отказывается от дуэли, хотя это грозит ему прослыть трусом. Он, храбрый дуэлянт, который на всех дуэлях в полку «бывал или свидетелем, или действующим лицом», пренебрег своей репутацией ради предстоящей мести.
И вот час настал. И что же происходит? – Нечто совершенно неожиданное: Сильвио опять не стреляет в графа!
Но почему?! Как вы думаете, почему?
Вполне возможно, вы скажете, что выстрелу помешала жена графа, которая кинулась Сильвио в ноги.
Есть еще одна версия; о ней говорит он сам: «Я доволен, я видел твое смятение, твою робость, я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно».
Конечно, Сильвио жаждет унизить графа. Он не забыл свое унижение: мало того, что граф дал ему пощечину, он еще на дуэли с Сильвио, под дулом револьвера, ел преспокойно черешню и выплевывал косточки. Взбешенному и униженному Сильвио даже казалось, что косточки долетали до него, хотя это было невозможно: они стрелялись на двенадцати шагах.
Однако это сейчас с него «довольно» только унижения графа, а раньше у него была совсем другая цель. Почему он не убил графа на той, предыдущей дуэли? Найдите в тексте мысли Сильвио об этом.
Вот что, наверное, вы отметили: «Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит. Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет».
Решение лишить графа жизни в момент, когда он будет ею особенно дорожить, пришло к Сильвио, когда он был в состоянии аффекта[6]6
Аффект (образовано от латинского слова affektus, что означает душевное волнение, страсть) – сильное кратковременное эмоциональное состояние.
[Закрыть]. И оно могло измениться. Как вы знаете, этого не произошло: прошло время, однако и в момент исповеди рассказчику Сильвио по-прежнему полон решимости убить своего врага. Убить, а не унизить. Притом не просто врага, а богатого графа, то есть человека, стоящего на другой, более высокой ступени социальной лестницы… Нужно отдать должное графу: он был достойным соперником Сильвио. И дело не только в его храбрости. Вспомните, как он появился в полку. Он вовсе не хотел отобрать у Сильвио его славу. Напротив, он хотел с ним сблизиться. Это Сильвио его отверг. Отверг, и возненавидел, и стал мстить.
Так почему же Сильвио так и не убил графа?
Вмешательство жены графа, удовлетворение от его унижения действительно сыграли свою роль, но есть и другая причина, более глубинная.
Страшный мститель Сильвио вновь стал человеком. Оказалось, что его душа не умерла. Ее не убил страшный мотив мести, который вел его по жизни и который, став узкой направленностью, превратился в смысл жизни. Его душа жива. И это она не дала Сильвио сделать заветный выстрел, к которому он готовился несколько лет. И хотя в эти годы «не прошло ни одного дня», чтобы он «не думал о мщении», ожившая душа Сильвио не дала ему убить графа и обездолить, превратить во вдову его молодую красавицу жену. Однако, если бы душа Сильвио не проснулась, никакая красавица жена не смогла бы ему помешать – он бы «перешагнул» и через нее.
То, что душа Сильвио проснулась, подтверждает и конец повести, очень значительный. Прочтите его еще раз.
Самое главное в этом конце, что Сильвио был убит, участвуя в борьбе греков за свою независимость.
А теперь нам бы хотелось, чтобы вы обратили внимание на особенности композиции повести.
Вначале показана унылая, тусклая жизнь в местечке, где служит рассказчик, подполковник И.Л.П., а тогда юный офицер. И вдруг здесь возникает колоритная фигура Сильвио, который будоражит воображение и вызывает всеобщий интерес. Кульминация этой части – исповедь Сильвио, рассказ его о графе и о себе.
Потом показывается унылая жизнь того же рассказчика в своем поместье, где он поселился, выйдя в отставку. Скука здесь еще больше, чем в полку. Это жизнь, в которой ничего не происходит. И вдруг – приезд графа и всеобщий интерес к нему, в том числе и того же рассказчика. И опять центральное, самое напряженное место – это рассказ графа о себе и о Сильвио; вначале о том, что мы уже знаем со слов Сильвио, а потом о том, что же произошло с Сильвио, когда он покинул полк, чтобы расквитаться с графом.
Исследователь прозы А.С. Пушкина З.В. Кирилюк обращает внимание еще на один момент: «…нелестные характеристики героев основываются на их личных сообщениях о себе, а не на сообщениях противников… Если бы, ничто не меняя в самом рассказе, поменять местами субъекты повествования в двух эпизодах повествования (граф рассказал бы, как он невозмутимо стоял перед дулом пистолета Сильвио, когда тот изнемогал от бессильной злобы. А Сильвио сообщил бы о страшном смятении графа, о бесчестящем его выстреле и о том, как сам он великодушно отказался стрелять в противника), герои не только утратили бы индивидуальные черты, оба предстали бы перед читателями лжецами и хвастунами» [1, с. 130].
И, наконец, о самом рассказчике. Что вы могли бы сказать о нем?
Это не просто человек умный, думающий, наблюдательный. Его не случайно любил Сильвио, и не случайно он был единственным, чьим мнением Сильвио дорожил. И.Л.П. – человек нравственный. Он не просто рассказчик: он оценивает все, что видит, со своих нравственных позиций. Обратите внимание, как лаконично, но емко говорит об этом Пушкин. После исповеди Сильвио, казалось бы, юный офицер должен был вновь проникнуться трепетом по отношению к Сильвио, но он не торопится: «Я слушал его неподвижно; странные противоположные чувства волновали меня».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?