Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 3"
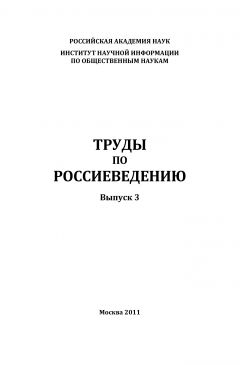
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Метаморфозы российской свободы в контексте политических трансформаций XIX–XXI веков
В.В. Лапкин
«…Паситесь мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?…»
А.С. Пушкин «Свободы сеятель пустынный…», 1823
«Фирс: Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.
Гаев: Перед каким несчастьем?
Фирс: Перед волей»
А.П. Чехов «Вишневый сад», действие второе, 1903
«…Устами каждого воскликну я: “Свобода!”,
Но разный смысл для каждого придам…»
М.А. Волошин «Ангел мщения», 1906
«…Врали: “Народа – свобода, вперед, эпоха, заря…” –
и зря»
В.В. Маяковский «Хорошо», 1927
«Итак, по плодам их узнаете их»
(Мф. 7, 20)
Согласно современной российской историографии, унаследованной нами от идеологов так называемого освободительного (или революционно-демократического) движения и окончательно закрепившейся в нашем национальном сознании в виде прогрессистских схем, затверженных в советский период, траектория движения России к свободе прочерчивается посредством знаковых событий, привязанных к датам, символическое значение которых всем нам понятно:
1825 – 1861 – 1881 – 1905 – 1917 – 1953 – 1991…
Каждая из этих дат, безусловно (быть может, лишь за исключением 1881 г., «освободительный» смысл которого не очевиден и не является общепризнанным), обозначала очередной рубеж продвижения российского общества по пути к свободе (продвижения практического или по крайней мере изменяющего сознание его авангарда, устремленного к скорейшему «освобождению»). Но…
Но каждый такой шаг (и здесь, я думаю, кроется самое интригующее) – при известном воображении – мог бы послужить прекрасной иллюстрацией известной максимы Дж. Оруэлла: «Свобода – это Рабство!». Не стану останавливаться на пояснении очевидных случаев. Напротив, обращусь к самому неочевидному, самому спорному – к Освобождению, с заглавной буквы вписанному в отечественную историю. Как хорошо известно, оно сопровождалось целым, как сказали бы сегодня, пакетом фундаментальных модернизирующих российское общество реформ в судебно-правовой, образовательной, экономической, военной, административной и иных сферах, широко распространяющих, а порою и насаждающих практики правовой ответственности, инициативы, самоуправления, гражданского самосознания. Произведенный этими реформами эффект в кратчайшее время проявился в оживлении культуры, подъеме творческого потенциала в сферах науки и искусства, в активизации общественной деятельности, предпринимательской инициативы, в интенсификации деловых и культурных контактов с Европой и пр., и пр.
О каком же пресловутом «рабстве» в таком случае может идти речь?
Вопрос риторический. И ответ на него всем нам хорошо известен.
Речь – о том, что было положено в фундамент пореформенного прогресса, что стало судьбой еще нескольких поколений бывших частновладельческих крестьян, а затем – на долгие годы советского режима – судьбой всей страны.
Наше восприятие исторических, как, впрочем, и любых других взаимосвязей, наблюдаемых в окружающем мире, парадоксально. Многие из них представляются нам вполне естественными, привычными, как бы сами собой разумеющимися, притом что объяснения им мы не находим или не хотим искать по той, далеко не такой уж «простой» причине, что объяснение этих «элементарных взаимосвязей» порою грозит нам полным переворотом привычных представлений об окружающем (вспомним казус Галилея–Коперника).
В рамках того же рода взаимосвязи (подчеркну еще раз, представляющейся нам практически тривиальной) оцениваются Крестьянская реформа 1861 г. и революционная катастрофа 1917–1918 гг. Связь между этими двумя ключевыми событиями современной российской истории практически очевидна для всех и каждого, однако ее причинность (каузальность) и фундаментальная природа остаются до настоящего времени не вполне ясными и вызывают горячие дискуссии концептуально-мировоззренческого порядка. СВОБОДА, дарованная российским самодержцем рабам своих подданных (частновладельческим, или крепостным, крестьянам2929
Два этих термина, используемые зачастую как синонимы, несут в себе принципиально различные смыслы: то – личную зависимость крестьянина от частного лица, его хозяина; то – его «крепость», жестко контролируемую государством связь с землей, с обрабатываемой им пашней. И это смысловое разногласие, коренящееся в не всегда отчетливом различении природы зависимости–несвободы наиболее массовой группы российского крестьянства, сплошь и рядом привносит смысловую зыбкость и двусмысленность в наше понимание существа аграрного вопроса в России XIX–XX вв., а в более широком смысле – в понимание природы современного российского общества и особенностей его формирования в последние полтора столетия. Подробнее см. ниже.
[Закрыть]), выглядела таковой лишь с позиции эмансипаторов – самодержавной власти и помещичьего сословия, что отразилось в соответствующей риторике «освободительной эпохи» и в традиции формально-правовых оценок свершившегося. Реакция самих крестьян была, как известно, по меньшей мере, неоднозначной. Но если первоначальное разочарование прежде частновладельческого крестьянства сосредоточивалось в основном на систематическом и повсеместном завышении выкупной цены крестьянского надела и практике пресловутых «отрезков», то со временем стало доминировать ощущение кабальности нового (пореформенного) положения, растянувшегося на десятилетия фискального закрепощения крестьянина в общине3030
Общинно-передельная практика крестьянского землепользования вводится в качестве альтернативы подворному землевладению лишь по мере нарастания дефицита земель (роста малоземелья). Причем зачастую довольно поздно – лишь в начале, а порой и в середине XIX в., вытесняя прежний обычай наследственного пользования земельными участками. Это видно на примерах, скажем, удельных крестьян, особенно в северных и приуральских губерниях (характерно, что вводилась такая практика, как правило, по распоряжению удельного управления). Реформа 1861 г. резко усилила «земельный голод» крестьянства. Это происходило отчасти за счет практики «отрезков» и «сиротских наделов», отчасти – в результате «демографического взрыва» в пореформенной российской деревне, дополнительно иммобилизованного политикой консервации общины. В итоге реформа стимулировала усиление общинно-передельных практик, в конечном счете фактически стремясь легализовать и кодифицировать их (см. соответствующий Закон 1893 г.), но тем самым подрывая возможности развития частного (семейного) крестьянского землевладения, равно как и распространения и укоренения частной собственности и наследственного права в сфере аграрных отношений.
[Закрыть].
Некоторый пересмотр этих позиций произошел, как известно, лишь под давлением событий 1905 г. Общинный строй, который прежде, по традиции, представлялся опорой самодержавия, с этого момента стал с точки зрения русской власти не вполне благонадежным и подлежал, по мнению значительной части ее представителей, решительному преобразованию. Реформы Столыпина обозначили вынужденное согласие власти перестать опекать общину – основной инструмент фискального и полицейского закрепощения «освобожденного» крестьянства. А в судьбу самого реформатора вторглась раздраженная реакция власти на это вынужденное согласие.
Понимание неблагонадежности общины, характерное для наиболее дальновидных защитников самодержавия (таких как, например, С.Ю. Вит-те, П.А. Столыпин, А.И. Гучков, во всем прочем, как правило, расходившихся), было, безусловно, небезосновательным. Живи Архимед в начале ХХ в., он мог бы сказать: «Дайте мне доведенную до отчаяния передельную общину, и я переверну Россию!» В.И. Ленин, как известно, ничего такого не говорил, но он прекрасно осознавал уникальные возможности этого «социального рычага» и в полной мере использовал их для обретения власти и разрушения российской государственности.
Прав ли был Ильич, когда рассуждал о декабристах, «разбудивших Герцена», вопрос спорный. Но ясно, что в период революционной смуты лета-осени 1917 г. ставка большевистского лидера на радикальное решение аграрного вопроса, всемерное поощрение и разжигание общинно-передельной революции (21, с. 36–48) обеспечила большевикам решающее преимущество в борьбе с многочисленными протобуржуазными политическими движениями за политическую гегемонию в утратившем чувство самосохранения обществе. В одной из своих публикаций известный исследователь крестьянской реформы Л.Г. Захарова констатировала, что в 1861 г. не был решен земельный вопрос, но завязан «гордиев узел», который не сумели развязать две буржуазно-демократические революции (8, с. 42). Однако в полном соответствии с духом метафоры большевики, идущие своим, особым путем в политике, не стали тратить время попусту и развязывать старые узлы, щадить все еще непрочную социальную ткань. Они дали стране образец иной, радикальной практики, «разрубив» узел аграрных проблем путем национализации земли и предоставив на первых порах (в самый критический момент своей борьбы за власть, в которой их шанс на победу был обусловлен беспощадным разрушением прежнего социального порядка) именно общине «эксклюзивное право» решать вопросы землепользования на местах.
И вот что поразительно: вопреки самоотверженным усилиям и очевидным успехам самодержавных реформаторов начала ХХ в., ставка большевиков на общину в преддверии Гражданской войны оказалась чрезвычайно эффективной. Между тем с формально-правовой и либерально-демократической точек зрения община была рудиментом прошлого, причем – уже фактически преодоленным. Тем не менее потенциал «преодоленной» общины оказался достаточным не только для инициации и проведения радикальных аграрных преобразований и тотального «поравнения» в деревне с последующим введением в ней режима продразверстки (январь 1919 г.). Именно с помощью общины большевистский режим «поставил на колени» российский «город» и обеспечил себя ресурсом для проведения не только в «деревне», но и в стране в целом политики военного коммунизма (с конца 1917 по март 1921 г.). Именно используя разрушительный для страны общинный «эгоизм» краткого периода «вакханалии земельных переделов» (12, с. 132), большевики создали предпосылки для утверждения в России коммунистического самодержавного режима.
Автору представляется чрезвычайно важным попытаться найти ответ по крайней мере на три по-прежнему актуальных (пусть и не находящих, как повелось, разрешения) вопроса российской политической истории.
1. Хорошо известно, что практика аграрных преобразований, инициированных реформой 1861 г., во многом предопределила конфликтный характер пореформенной эпохи. Первые признаки усиливающегося социального неблагополучия обнаружились довольно скоро: знаменитые петербургские пожары 1862 г., последовавшие затем первые эксцессы террора, «нечаевщины», крах авантюры «хождения в народ», бесовство народовольцев, жестокое, роковое по своим последствиям убийство «царя-освободителя». И уже при новом государе Россию потряс голод 1892– 1893 гг., «подготовленный» предыдущей аграрной политикой и спровоцированный новой государственной стратегией накопления финансовых ресурсов (о чем подробнее будет сказано ниже). Сквозь полосу кризисов и социальных потрясений страна вступала в ХХ в., раскручивая маховик «Красного колеса» и культивируя фантасмагорию подполья радикальных социалистических партий в безбуржуазной России.
При этом необходимо принять во внимание тенденцию, системно взаимосвязанную с обозначенной выше. Параллельно (особенно в 1890-х годах и с новой силой в 1910–1914 гг.) наблюдался бурный рост тяжелой индустрии, казенного железнодорожного строительства, промышленного производства, пролетариата, отчетливые признаки финансовой стабилизации, укрепления рубля и грядущего экономического расцвета. В чем же разгадка (секрет) этой поразительной и в известном смысле противоестественной взаимосвязи – de facto весьма эффективного симбиоза социального неблагополучия сельских масс и расцвета городской промышленно-финансовой цивилизации в России начала ХХ в.?
2. Как произошло, что передельная община, на которую как на естественную опору государственного строя России сделали ставку самодержавные реформаторы-освободители 1861 г., по мере реализации реформы превращалась в основную революционную, более того, тотально разрушительную силу, подобно нашествию гуннов уничтожающую прежний социальный порядок? Чем объяснить тот удивительный факт, что именно неумолимо влекомая властью и обстоятельствами к своему окончательному разложению община в своем как бы «предсмертном порыве» смогла стать мощнейшим, глобального масштаба фактором социальных перемен? В чем секрет столь резко возросшей в пореформенную эпоху ресурсной мощи этого «отмирающего» института?
3. Как, наконец, объяснить то обстоятельство, что, решительно упразднив частновладельческое крепостничество, реформа, рассматриваемая в контексте ее неотвратимых и практически непреодолимых последствий, подготовила семь десятилетий спустя тотальное государственное закрепощение российского общества, которое в сфере аграрной политики приняло формы пресловутого Второго крепостного права (большевиков), ВКП(б)?
В силу того самоочевидного (во всяком случае, для автора) обстоятельства, что ответы на поставленные вопросы взаимосвязаны, структура последующего изложения будет определяться не столько самими вопросами, сколько логикой проблемных узлов эволюции аграрного кризиса в России периода ее индустриализации (хронологически охватывающего интересующий нас событийный континуум).
Общий формат реформы. Проблемы и противоречия аграрного вопроса
В середине XIX в. к крестьянскому сословию в России причислялось около 80% ее 57-миллионного населения. При этом, по данным девятой ревизии 1851 г., из проживающих в стране 29 млн. лиц мужского пола владельческие крестьяне составляли 37%, государственные (без учета Закавказья и сибирских губерний и областей) – 31, удельные – 3% (11, с. 215–216).
Основным актом реформы 19 февраля (3 марта) 1861 г. – «Общим положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» – бывшие крепостные (или, как их еще называли, частновладельческие) крестьяне переставали числиться таковыми и объявлялись «временнообязанными» и получающими права «свободных сельских обывателей»3131
Всего от личной крепостной зависимости, согласно «Общим положениям…», подписанным Александром II, было освобождено 22,5 млн. крестьян (см., например: 17).
[Закрыть]. В одной этой (вполне банальной и исчерпывающе объективной фразе) содержатся все три ключевых момента «лукавства» реформаторов, завязавших, как уже упоминалось, «гордиев узел» российского аграрного вопроса. Начну с момента самого «невинного» момента.
1. Термин «частновладельческое крестьянство» в определенном смысле даже более одиозен, нежели понятие «крепостные», поскольку в первом случае речь впрямую идет о владении людьми (т.е. о рабстве), тогда как во втором – лишь о закрепощении, т.е. ограничении прав и свобод3232
Важнейшим ограничением был запрет покидать то сельское общество, к которому принадлежал каждый член крестьянского сословия, без письменного разрешения (паспорта), получаемого от помещика (для частновладельческих крестьян) или местной администрации (для государственных или удельных крестьян). Впрочем, на протяжении всего крепостнического периода и особенно со второй половины XVIII в. это ограничение в массовом порядке преодолевалось практикой отходничества.
[Закрыть]. Этот терминологический «разнобой» примечателен, так как «частновладельческое крестьянство» – термин, соответствующий «юридической точке зрения на предмет» с позиций господствующего землевладельческого класса и фиксирующий желательную для него оценку положения вещей3333
Говорить в России о частной собственности помещиков на крепостных, как, впрочем, и об иных видах частной собственности, следует, по меньшей мере, с осторожностью. Крепостное право фактически было административным поручением самодержавия своим доверенным лицам, своему служилому классу – дворянам-помещикам. И даже после освобождения Екатериной II от обязательной службы в армии или в структурах государственного управления (Жалованная грамота дворянству от 21 апреля 1785 г.) они отнюдь не были избавлены от обязанности хозяйственно-административного управления на территории своих поместий; более того, их обязательства перед правительством лишь усиливались. «Благодаря новым обязанностям, возложенным государством на помещика, он сам входит в состав административного механизма и заслоняет своей фигурой крестьянина от государства» (2, с. 59).
[Закрыть]. Однако в общественной традиции, чувствительной к понятиям морали и справедливости, закрепился термин «крепостные»; более неопределенный и расплывчатый юридически, он соответствовал неопределенности во взаимоотношениях крепостных и их господ, а также в подходах самодержавия к разрешению противоречий во взаимоотношениях и правовом статусе этих двух важнейших сословий исторического Российского государства. Самодержавие, заботясь о своем европейском имидже, предпочло отказаться от одиозного рабства («людьмивладения»), в любом обличии и выражении неприличного в Европе середины XIX в. Но оно не могло «разом» отказаться от крепостнического порядка, намертво связавшего помещиков-землевладельцев, социальную опору режима, и обрабатывающих их земли крестьян – главную даровую рабочую силу империи3434
А.Н. Медушевский, ссылаясь на одно из положений «Наказа» Екатерины II, приводит суждение императрицы о возникновении в ходе исторического развития аграрных отношений тупиковой ситуации, скреплявшей «цепью великой» «барина» и «мужика» (18, с. 74). Возможно, внутренним посылом самодержавного реформатора было именно стремление разорвать эту «цепь великую», преодолеть тупиковость прежних попыток бесконфликтного или по крайней мере ограниченно конфликтного разрешения аграрного вопроса в стране. История знает только два гарантированно результативных средства разрыва «социальных цепей» – деньги, рынок, товарное обращение либо же власть, государственное принуждение. Надо признать, российское самодержавие не чуждалось денег, но все же, выбирая путь реформ, отвело деньгам роль вспомогательную, усиливающую принуждение к существованию в общине, что позволяло ей до высшего предела увеличивать изъятие прибавочного, а порою и необходимого продукта сельского производителя.
[Закрыть]. Собственно, решающим в понимании сути произошедшего в ходе реализации крестьянской реформы стало принуждение крестьян к принятию особого правового и владельческого статуса членов поземельной общины, связанных круговой порукой, – иначе говоря, лиц, выведенных из-под общей юрисдикции и со временем отданных под попечительное усмотрение земского начальника. Их положение С.Ю. Витте в свое время детально соотнес с «положением взрослых детей (существ особого рода)» (4, с. 515–516).
Иными словами, для частновладельческих крестьян 1861 год стал лишь моментом отмены их личной зависимости от помещика, но не крепостной зависимости, привязывающей крестьянина к его тяглу, к его земельному наделу (в абсолютном большинстве интересующих нас случаев – в рамках системы общинного землевладения, что было особо закреплено «Общим положением…» 1861 г.). По существу, в 1861 г. крепостная зависимость была не отменена, а лишь отчасти смягчена – возможность де-юре выхода из крепости упростилась (де-факто отходничество и раньше предоставляло многим крепостным такую возможность). Но это «послабление» компенсировалось усилением налогового бремени крестьянства, остающегося в общине, и увеличением принудительного изъятия (как абсолютного, так и относительного) производимого в общине продукта. Упразднялось лишь частновладельческое состояние, право помещиков на владение этим особым видом частной собственности (крестьянами), тогда как крепостное состояние крестьянства – пусть и в «мягкой» форме – сохранялось. Предметом реформы стал лишь этот частновладельческий статус крестьян. Крепостная независимость была более фундаментальным элементом «русской системы». От нее отказались лишь спустя столетие, когда окончательно завершился переход к новому, индустриальному формату существования. В качестве механизма контроля на смену архаичной «крепости» пришла «прописка», предполагающая обязательное наделение всего населения теми самыми паспортами, которые прежде требовались покидающим свое сельское общество отходникам.
2. Вторым моментом «лукавства» реформаторов стало введение «временнообязанного» состояния. «Общим положением…» 1861 г. срок временнообязанных отношений установлен не был, но их характер зафиксирован в «уставных грамотах»3535
Их в основном составили к середине 1863 г., практически и юридически закрепив «центры» противостояния в пореформенной деревне. Дело в том, что обязывающие условия «уставных грамот» оговаривались не с отдельным крестьянином, домохозяином, а с крестьянским «миром» как целым. Тем самым именно «мир» целенаправленными усилиями власти превращался в нового крупного российского землевладельца, хозяина неотчуждаемой общинной земли, становился альтернативной помещику силой российской деревни, живущей в условиях особого правового режима. Вместе с тем этот роковой выбор власти (о его мотивации см. ниже) на многие годы, вплоть до первой русской революции, задал своего рода mainstream развитию аграрных отношений в стране, когда «мир» и поземельная община (в обеих ее формах: передельной и, что встречалось реже, практикующей подворное землевладение) рассматривались как норма, основа стабильности российской деревни, а частное крестьянское землевладение, – в лучшем случае, как курьезная девиация.
[Закрыть] размерами общинных наделов и крестьянскими повинностями в рамках общинной круговой поруки. На время этого состояния помещики, остающиеся собственниками земли, были обязаны, согласно «Общему положению…», предоставить в пользование крестьянам «усадебную оседлость» (небольшой участок земли, окружающий их жилище), а полевой надел – в коллективное пользование сельскому обществу. Пользование земельным наделом (до заключения выкупной сделки) предполагало сохранение за крестьянской общиной, скрепленной круговой порукой, прежних (слегка смягченных) повинностей в пользу помещика (оброка и барщины). Причем в течение девяти лет крестьяне не могли отказаться от пользования надельной землей. Помещик становился «попечителем» сельского общества временнообязанных крестьян, наделенным в своей вотчине фактически полицейскими функциями и правом решительного вмешательства в действия новой сельской администрации. Крестьяне при этом считались лично свободными.
Предусматривались различные варианты прекращения временнообязанного состояния и перехода на выкуп. Принято считать, что общим правилом было наличие взаимного добровольного соглашения между помещиком и крестьянами. На деле это было далеко не так. Интерес помещиков заключался в получении от правительства процентных бумаг в счет оплаты земель, переходящих в собственность крестьянской общины. Крестьянская община при этом принимала на себя обязательства уплаты правительству процентов и погашения по выданным выкупным ссудам из расчета 6% в год в течение 49,5 лет. Предоставление ссуды было обусловлено приобретением крестьянской общиной усадебной оседлости вместе с полевыми землями и угодьями3636
При этом полевой надел мог в зависимости от выгод помещиков уменьшаться (посредством «отрезков», которыми стимулировались барщинные отработки), или (гораздо реже и в областях, где рыночная стоимость земли была невысока) увеличиваться в сравнении с дореформенным.
[Закрыть]. К тому же община должна была накопить ресурсы (зачастую не в денежной, а в натуральной форме так называемых отработок) для разовой выплаты помещику 20% выкупной суммы – пресловутого дополнительного платежа, являющегося условием перехода на выкуп по взаимному соглашению (подробнее см., например: 24, с. 136–137).
Если же крестьяне не хотели договариваться с помещиком, то у них была возможность выкупить лишь усадьбу; при этом выкупную сумму они должны были внести самостоятельно и сполна. Кроме того, отказываясь от права выкупа, крестьяне могли получить бесплатно так называемый дарственный надел в размере четверти от надела, подлежащего выкупу. Такая практика была распространена в черноземных губерниях, где высокая цена земли, назначаемая помещиками, часто делала выкуп полного надела разорительным для крестьян. В свою очередь, помещик также мог, не договариваясь, обязать крестьян выкупать землю без достижения согласия с ними. В этом случае выкупная сумма определялась оброком, капитализированным из 6% годовых, а дополнительный платеж крестьянами не вносился3737
К концу 1870-х годов число сделок по требованию помещиков почти вдвое превышало число сделок по обоюдному соглашению. Это особенно характерно для губерний и уездов, где было сильно развито отходничество, которое стимулировало резкое увеличение размера оброка, не связывая его с плодородием земли. Но поскольку размер выкупных платежей исчислялся, исходя из установленного оброка, в регионах массового распространения отходничества – вблизи крупных, особенно промышленных городов, торговых путей и пр. – эти платежи могли порой в разы превосходить рыночную стоимость земли. В этой ситуации для помещиков весьма заманчивой представлялась возможность «преодолеть» несогласие крестьян путем принудительного перевода их на выкуп. При этом потеря крестьянского дополнительного платежа с лихвой компенсировалась существенно завышенной ценой земли, включенной в стоимость процентных бумаг, получаемых ими от правительства.
[Закрыть].
Наконец, предусматривалась и возможность внесения в полном объеме выкупной суммы отдельным домохозяином, после чего крестьянин имел право требовать выдела ему соответствующего участка в частную собственность. Со временем власть стала рассматривать эту возможность как расшатывающую общинное землевладение и отменила ее в 1893 г. Впрочем, большинству крестьян было затруднительно ею воспользоваться. К концу 1880-х годов таким способом было выкуплено немногим более 100 тыс. душевых наделов.
Несмотря на множественность вариантов перехода на выкуп, он не был завершен до начала 1880-х годов. Потребовалось вмешательство правительства, специальным законом от 28 декабря 1881 г. установившего обязательный выкуп наделов временнообязанных крестьян с 1 января 1883 г.3838
К концу XIX в. временнообязанные крестьяне оставались лишь в Закавказье.
[Закрыть] Только с переходом на выкуп обязательства крестьян перед помещиками по поводу их полевого надела прекращались. Иными словами, выход из личной зависимости (частновладельческого состояния) de facto растянулся более чем на 20 лет. Итак, непосредственная личная зависимость крестьян от своих бывших владельцев была в конце концов упразднена, «полномочия владельцев, носившие гражданско-правовой характер, были совершенно отменены, не безвозмездно… но безостаточно. Правомочия же помещика публично-правового характера, например, его власть применять “исправные” наказания и ссылать, перешли почти полностью к органам управления, частью к общегосударственным органам, а главным образом, к “миру”, к сословному крестьянскому обществу. Последнему была дана почти безотчетная власть над личностью своих членов…» (5, с. 31– 32; цит. по: 22, с. 51).
3. Наконец, по поводу прав и статуса «свободных сельских обывателей», в просторечии – крестьян. От прочих (в том числе и податных) сословий в юридическом отношении они отличались сохранением норм обычного права в отношениях между членами «общества» и попечительства над ними местных властей (сельского старосты, волостного старшины, позднее – земского начальника) – «в целях их хозяйственного обустройства и нравственного преуспеяния», а также обязательностью приписки к определенному сельскому обществу или волости – она давала право пользования земельным наделом, выделяемым сельскому обывателю его обществом.
Более того, вслед за реформой положения частновладельческих крестьян началось реформирование удельных (26 июня 1863 г.) и государственных (24 ноября 1866 г.) крестьян, которые переводились в разряд крестьян-собственников в рамках все того же общинного землевладения и путем обязательного выкупа земли. При выкупе земли удельными крестьянами также практиковались отрезки (как и в случае с помещичьими), но в существенно меньших объемах (тем не менее сокращение земельных наделов стимулировало движение и среди этого класса крестьян к передельной общине). За государственными крестьянами в целом сохранялись все земли, находившиеся в их пользовании до реформы. В итоге с точки зрения размеров душевых земельных наделов бывшие государственные крестьяне оказались в наиболее, а бывшие частновладельческие – в наименее благоприятном положении. К тому же и выкупная цена земли для удельных, и особенно государственных, крестьян оказалась существенно ниже и гораздо более соответствовала рыночной. Это давало дополнительные аргументы тем, кто связывал выкупную цену земли для частновладельческих крестьян с «ценою» выкупа самих «крестьянских душ».
В целом же власть, приступив к реформам, затронувшим все классы крестьянского населения России, изначально и последовательно, почти на протяжении полстолетия делала ставку на крестьянскую общину как на наиболее эффективный инструмент своей политики в деревне. Община, скрепленная круговой порукой, представлялась реформаторам почти идеальным компенсаторным механизмом перехода подавляющего большинства российского населения от рабства к свободе.
Существует обширная литература, исследующая мотивы властного выбора. В основном они сводятся к острым и представлявшимся безотлагательными, но, по сути, сиюминутным, прагматическим потребностям поддержания спокойствия в деревне и преодоления острейших финансовых затруднений правительства в конце 1850-х – начале 1860-х годов. О.В. Большакова в аналитическом обзоре англоязычной историографии по отмене крепостного права в России так резюмирует выводы С. Хока (25, с. 91–98): «Реформа готовилась в условиях финансового кризиса, суть которого составляли растущий государственный долг, инфляция, отрицательный платежный баланс, неблагоприятный климат для внешних займов, невозможность восстановить обратимость рубля и, наконец, крах государственных кредитных учреждений летом 1859 г.» (3, с. 210). Необходимо было одновременно реструктурировать долги, вкладывать средства в развитие транспортной сети, подготавливать крестьянскую реформу и выкупную операцию, развивать сельскохозяйственный кредит… (там же). В результате специально созданная Финансовая комиссия, в состав которой вошли и Н.А. Милютин, и Н.Х. Бунге, и М.Х. Рейтерн, ввиду затруднительных условий банковского кризиса «сочла возможным ограничить миссию правительства ролью посредника, а не кредитора: все процентные и основные выплаты, все административные и непредвиденные расходы должны были покрываться за счет крестьянских платежей» (там же, с. 211).
Сам С. Хок резюмирует еще более саркастически: «Царское правительство не потратило ни копейки на проведение великой реформы по превращению более 20 млн. бывших крепостных крестьян в собственников» (25, с. 98)3939
На деле ситуация была еще более одиозной. Правительство сделало все возможное, чтобы максимально полно и даже с избытком компенсировать помещикам их материальные и моральные потери изъятия большей части крестьянской земли из помещичьей собственности и 20 млн. крепостных душ из помещичьего «ведения». При этом, по мнению Н.М. Дружинина, сотрудники редакционных комиссий в большинстве своем «стремились совместить юридическую свободу личности с фактическим “прикреплением” крестьян к земле, причем многие придавали этому “прикреплению” юридический титул собственности» (7; цит. по: 22, с. 167). Суть вопроса с точки зрения помещичьих интересов заключалась в том, чтобы «отвести крестьянам такой надел, который не устранил бы у них потребности в подсобном заработке. Таким образом, вопрос о выкупе сводился к следующему основному вопросу реформы: о размерах отводимого полевого надела…» (там же). В итоге, заключает на сей раз Д. Филд, «законодательные акты об освобождении крестьян представляли собой компромисс между крепостничеством и идеалами свободы…» (цит. по: 22, с. 240), а члены редакционных комиссий «заложили в законодательных актах такие преимущества для дворянства, каких едва ли могли потребовать самые горячие защитники их прав» (там же).
[Закрыть]. Реализовать такой вариант реформы можно было, сковав крестьянство круговой порукой и общинным землевладением. Только так, заперев крестьянина в общинной неволе, реформаторы могли решить все проблемы сразу: и поправить финансовое состояние государства, и обеспечить оставшихся без крепостных помещиков средствами существования, и найти решение (пусть и формальное) проблемы крестьянской собственности на землю.
Иными словами, поворачивая страну на путь модернизирующих реформ, призванных обеспечить ее органичное вхождение в число современных держав, власть сделала стратегический выбор. «Оплачивать расходы», связанные с этими преобразованиями, должно было «освобождаемое» общинное крестьянство. Чтобы гарантировать платежи по расходам, его наделили особым, кабальным правовым и социальным статусом, заложив основы фактически «внегосударственного» состояния крестьянства (повторю, подавляющего и быстро растущего большинства населения), его институциональной и правовой изоляции, «сословной обособленности» (см., например: 22, с. 214). Власть оказалась неспособной предусмотреть «завтрашние последствия сегодняшних решений» – понять, что своими действиями она формирует социальную силу, исключенную из процесса общенационального развития и потому способную перевернуть с ног на голову устоявшийся социальный порядок.
Крестьянская реформа обозначила и еще один тектонический сдвиг в обустройстве самодержавного государства. Власть попыталась отказаться от управленческих услуг помещиков, откупиться, отправить их «на заслуженный отдых». Реформа сохраняла все необходимые условия для последующей внеэкономической (принудительной, во многом по-прежнему крепостнической) эксплуатации крестьянства, но без прежней патриархальной ответственности помещика за его судьбу. Положившись на возросшую в первой половине XIX в. силу своей бюрократической машины, власть настолько уверилась в своем могуществе, что попыталась лишить дворянство одного из ключевых элементов его политического влияния в стране – права выступать попечителем (смотрителем) многомиллионного крепостного крестьянства. Политическое значение дворянско-помещичьего сословия резко пошло на убыль – синхронно с сокращением общего массива помещичьих земель, а также с заметным снижением доли дворянства (как потомственного, так и личного и служилого) в общей численности российского населения. Даже некоторая коррекция эпохи «контрреформ» Александра III и возврат к практике более пристального помещичьего надзора и попечительства над «освобожденной» общинной деревней не изменили ведущего тренда перемен.
Более того, бюрократия к тому времени уже не только становилась, но и начинала осознавать себя силой, предназначенной для реализации куда более амбициозных задач, иной стратегии развития. Удел исполнителя «аграрно-колонизационного проекта» был ей уже неинтересен. Впереди маячили задачи индустриальной колонизации России, в свете которых крестьянство выглядело лишь второстепенным и почти ничего не стоившим ресурсом.
Итак, повторю: приступив к реформе в условиях глубокого финансового кризиса, власть с ее помощью разом решала все свои проблемы (и финансовые, и управленческие, и политические) путем усиливающегося закабаления крестьянства мерами преимущественно фискального характера, причем напрямую, уже без посредничества помещика. Реформа существенно укрепила передельную общину, поскольку именно на нее в условиях растущего крестьянского малоземелья государство возложило многочисленные фискальные и надзорные функции, ранее исполнявшиеся помещиками. Мир стал сам для себя и сборщиком налогов, и полицейским…
Первые результаты и последствия реформы. Коррекция периода Александра III. Переориентация стратегических приоритетов самодержавия из аграрной в индустриальную сферу
Из трех возможных стратегий ориентированного на внешний рыночный спрос хозяйственного развития пореформенной деревни: крестьянского предпринимательства, крупного частновладельческого предпринимательства, наконец, хозяйствования с использованием традиционных полукрепостнических методов, дополненных впоследствии «государственным предпринимательством» (при земельной «закрепленности» работника, но отсутствии его формальной личной зависимости от землевладельца), – преимущество получила третья. Это определялось как приоритетами государственной политики, так и предпочтениями большей части помещичьего сословия. Привлекательность такого пути обусловливалась прежде всего расчетом на «сохранение социальной стабильности», но стратегически к началу ХХ в. этот «расчет» обернулся чудовищным просчетом российской власти и олицетворяющих российскую цивилизацию элит. Дополнительным фактором, отягчающим развитие страны, стало то, что реформа резко усиливала ответственность государства (самодержавия), одновременно снижая политический вес и участие помещичьего сословия, оставляя ему по преимуществу лишь протестную альтернативу.
Отметим некоторые предварительные (к концу 1870-х – началу 1880-х годов) итоги аграрных преобразований. С 1858 по 1880 г. государственный долг России увеличился с 1759 млн. руб. до 4698,5 млн. руб., при этом 2472,8 млн. руб. были употреблены на военные расходы и покрытие дефицитов, 796,8 млн. руб. – на железнодорожные цели, 488,8 млн. руб. – на отверждение (обслуживание) текущего долга и 496 млн. руб. – на выкупную операцию. Тяжесть выкупных платежей дополнялась усилением податного бремени, возложенного на крестьянское населении. Если в 1856 г. подушная и оброчная взимаемая с государственных крестьян подати с питейным и соляным налогами давали 142,9 млн. руб., или 40,4% всех обыкновенных доходов казны, то к 1881 г. подушная подать с акцизом (без соляного налога) давала уже 313,9 млн. руб., или 48,2% доходов казны (23, с. 192). Сравнительно небольшая доля выкупной операции в общем объеме госдолга (менее 12%)4040
Напомним, крестьянские выкупные платежи должны были с лихвой покрывать расходы правительства по обслуживанию процентных бумаг, которыми оно расплачивалось с помещиками за выкупленные у них крестьянами земли. Поэтому объем актуальной крестьянской задолженности по выкупным платежам в целом соотносится с соответствующей частью госдолга.
[Закрыть] характеризует подход правительства к проблеме: на начальном этапе реформы рост фискального давления на крестьянство не вызывал его беспокойства, решение обеспечить бюджет дополнительными поступлениями на многие десятилетия вперед представлялось весьма удачным4141
Принудив крестьянскую общину к согласию на завышенную стоимость получаемой от помещиков земли и успешно взвалив на нее de facto обслуживание правительственного долга под установленный самим правительством довольно высокий процент (в течение длительного срока погашения), власть провернула выгодную долгосрочную кредитно-финансовую операцию. Она получила с нее солидный доход и возможность десятилетиями напоминать обществу и бывшим крепостным о «недоимках», а в конечном счете – «простить» остаточные долги. Выбор в качестве формы выкупного платежа аннуитета (фиксированного по сумме ежегодного платежа) с параметрами 6% и 49,5 года был, безусловно, не случаен. Так, несложный подсчет показывает, что увеличение процента на один пункт (до 7%) снижает выкупной период до 29 лет, а совокупную сумму платежей за весь период выплат – в полтора раза.
[Закрыть]. Но усиливающийся фискальный гнет и растущее малоземелье ухудшали потенциал развития крестьянского хозяйства, изымали из его оборота не только прибавочный, но и заметную часть необходимого продукта, подрывая хозяйственные перспективы российской деревни. «Переход на выкуп форсировал обнищание основной массы крестьян», – резюмирует Б.Г. Литвак на основании исследования ситуации в Черноземной области России (16, с. 412).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































