Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 3"
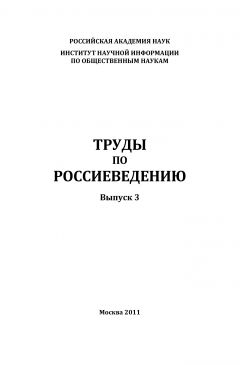
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Вообще-то подобная власть недолговечна. Даже удивительно, что она продержалась семь десятилетий.
3. Современная Россия. Пожалуй, здесь вновь складывается уникально-парадоксальная ситуация. По-своему не менее своеобычная, чем дореволюционная и советская. Власть формирует действующий президент. Ельцин – Путина. Путин – Медведева. Затем возникает тандем (Владимир Владимирович не захотел далеко уходить от власти). Правительствующий тандем, он же – электорат. Выборы следующего президента сведены к формуле: «сядем и договоримся»1313
И договорились. В конце сентября Медведев выдвинул Путина. Точнее, Путин устами Медведева выдвинул себя. Высший пилотаж!
[Закрыть]. Нам, обывателям, отводится роль одобряющих это «договоримся». То есть, по известному выражению, нас там не стояло. Конечно, ситуация тандемности в 2012 г. может закончиться. Тем не менее обычай преемничества уже сложился.
На первый взгляд, все это похоже на XVIII в., от Петра I до Павла I. Однако только на первый. Мы живем в массовом современном обществе, в котором главным регулятором функционирования социума является право (другие – историко-культурные традиции и обычаи, социопсихологические стереотипы и т.п.). Основная норма права – Конституция. Она во всех смыслах основной закон общества. И именно Конституция отброшена. Вместо равного, тайного, прямого и т.д. – «договоримся». Мне, впрочем, могут возразить: выборы никто не отменял, будут и другие кандидаты, «выбор» же внутри тандема – есть внутреннее дело этих двух. В том-то все и дело, что это не так. Система выстроена под простое преемничество («я тебя назначаю»), но может выдержать и тандемность.
При этом отброшена, растоптана не только Конституция. Весь уклад современной жизни, который – хочешь не хочешь – построен по принципу выбора. Мы в нашей жизни выбираем все: профессию, жен–мужей, еду, одежду, досуг, круг чтения, телепрограммы и т.д. Это и есть Modernity или, тоже на выбор, Postmodernity. И лишь в вопросе о власти мы лишены этой возможности. И это во властецентричной культуре, которая остается таковой несмотря ни на что! А времена-то, повторим, совсем иные, чем в XVIII в.
Теперь об ограничителях. По сути их нет. Впервые в русской истории. Ни религии, ни идеологии. Право? – См. выше. Оно отброшено. Более того, даже единственный временной ограничитель де-факто похерен. Ведь возможность президентствовать двенадцать лет подряд – совершенно невероятный подарок в сегодняшнем кипящем мире. А применительно к ВВП вообще дух захватывает! Это может стать 8+4 тандемных + 12 = 24 года.
О конституционных противоречиях
В общем волей-неволей мы пришли к вопросу о Конституции. После ее принятия в 1993 г. я постоянно (письменно и устно) утверждал, что этот продукт нашей политико-юридической мысли вполне органичен для русского исторического развития и одновременно адекватен нынешнему состоянию общества и институтов власти. Действительно, Конституция 1993 г. в значительной мере есть продолжение проекта М.М. Сперанского, «Основных государственных законов Российской империи…» 23 апреля 1906 г. и проекта российской Конституции, которые готовили юристы Временного правительства к Учредительному собранию. Адекватность же этого продукта заключалась в том, что предложенная правовая конструкция позволяла уйти от «вечного проклятия» русской политики – двоевластия. Это самое двоевластие неоднократно в русской истории, особенно в ее переломные моменты, угрожало самим основам общества. И ситуация 1992–1993 гг. наглядно это подтверждала.
Кроме того, я полагал, что сверхпрезидентская система правления (президент, поставленный над системой разделения власти) хотя и является, с европейской точки зрения, нонсенсом, у нас вполне честно и точно фиксирует реальное положение дел. И это «грубая» и «наглая» правда казалась мне честнее псевдодемократической псевдопарламентской лжи системы двоевластия, которая сложилась у нас в первые два послесоветских года.
Но вот прошло уже почти 20 лет с момента принятия Основного закона. Россия находится в тяжелейшем политическом кризисе, который, разумеется, есть «отражение» и кризиса общесоциального, и экономического, и ментального и т.д. «Отражение» в том смысле и потому в кавычках, что, собственно говоря, Россия переживает просто общий кризис, а не какой-нибудь частичный. Но наиболее ярко и отчетливо проявляется он в политико-правовой сфере. И вот почему.
Конституция Сперанского и «Основные законы» 1906 г., скроенные по лекалам Михаила Михайловича, вполне подходили для России XIX столетия. Однако уже в начале ХХ в., конструкция Сперанского отчасти устарела. В этом, кстати, одна из причин катастрофы 1917 г. Но сейчас мы не о прошлом – о настоящем. Хотя, по-видимому, анализ сегодняшней ситуации поможет нам лучше понимать и события почти столетней давности.
Итак, Конституция 1993 г. есть «римейк» в основном и в целом конституционных идей и практики дореволюционной России. В особенности это касается организации функционирования власти. Главное сходство конституций 1906 и 1993 гг. (и в то же время главное отличие от основных законов европейских стран) заключается в поставленной над системой разделения властей фигуре императора – президента. Но между двумя русскими конституционными текстами ХХ в. существует и громадное (метафорически, можно сказать, бесконечное) различие, которое, должен признать, я совершенно не принимал во внимание. Хотя все это лежит на поверхности.
В Конституции 1906 г. суверенитет принадлежит императору: он есть источник всей и всякой власти, всех и всяких законов в стране. В Конституции 1993 г. суверенитет принадлежит народу, т.е. не президент, как ранее император, а народ является источником власти и законов. Таким образом, внешне, формально схожая конструкция власти на поверку оказывается «лишь» прикрытием совершенно отличных друг от друга сущностей.
Не удержимся и все-таки скажем несколько слов о «лжи» Конституции 1906 г. В ней, как мы помним, появляется законодательное учреждение – Дума, которая, хоть и в ограниченных объемах, но управляла страной через процесс законодательствования. Ко всему прочему Дума избиралась – пусть и не на основе всеобщего и равного права, но избиралась. А это означало, что она имела современно-демократическую легитимность. Следовательно, в политико-правовую конструкцию России 1906–1917 гг. были «втиснуты» два прямо противоположных друг другу института и принципа.
Первый – императорская власть, обладавшая суверенитетом, т.е., повторим, монопольно владевшая источником всех властей и законов, иначе говоря, сама и бывшая этим источником. Имевшая также все мыслимые виды легитимностей: сакральной (от Бога), «демократической» (Романовы избраны на царство Учредительным Земским Собором 1613 г.), исторически– преемственной (правили страной более 300 лет) и формально-юридической (закон о престолонаследии Павла I). Основные законы 1906 г. закрепляют все эти типы легитимности в конституционном тексте современного образца. Тем самым придают ей еще один вид легитимности – конституционно-правовой.
Второй – Дума, имевшая демократическую легитимность, т.е. по избранию, конституционно-правовую (по Основным законам) и издающая общеобязательные для всех без исключения россиян законы. Если к этому добавить, что в рамках тогдашнего законодательства Российской империи Судебный Сенат – высшая судебная (кассационная) инстанция – обладал правом принимать решения, которые никем, включая императора, не могли быть обжалованы, то получается, что Дума плюс Сенат составляли вместе систему власти, потенциально альтернативную императорской. И хотя юридически в рамках Основных законов 1906 г. императорская власть была сильнее, чем «законодательно-судебная», социальный расклад, т.е. ситуация в обществе, менялся явно в пользу новой системы власти. Это сознавали и представители традиционной императорской власти, и сторонники новой, парламентско-судебной.
Недаром В.А. Маклаков в своих воспоминаниях (5) назовет Конституцию 1906 г. историческим компромиссом между короной и обществом. Так оно и было. Но сама Конституция явилась не только юридическим воплощением этого компромисса, но и одновременно возможным потенциальным источником нового взрыва. То есть февраль 17-го был юридически заложен в Конституции 1906 г. Другое дело, что можно было этим источником и не воспользоваться. Но для нас главное не это – не выяснение причин Февраля, а то, что Февраль был «запрограммирован» творцами Конституции 1906 г. И именно Временный комитет IV Государственной думы уничтожил императорскую власть.
Этот краткий исторический экскурс предельно важен для понимания сегодняшнего положения дел. В Конституции 1993 г. «запрограммирована» ситуации конца 2011 г. Мы должны это отчетливо представлять себе. «Мы» – это и сторонники власти, и ее оппоненты. – Но что же произошло с нашей нынешней Конституцией в течение двух десятилетий ее существования? Отвечая на этот вопрос, уместно вспомнить мысль классика политической и конституционной мысли ХХ в. М. Дюверже: в рамках всякой конституции заложены потенциальные возможности для существования различных политических режимов. Это означает, что нормальная современная конституция (российская в целом является таковой) предполагает вариативность политического развития. Вместе с тем и ограничивает его неким коридором возможностей. В силу различных, но совершенно реальных социальных и прочих причин все три российских президента (Ельцин, Путин, Медведев), – разумеется, с разной интенсивностью и последовательностью – резко ограничили, так сказать, демократические, либеральные возможности Конституции и усилили властно-авторитарные. При этом, используя свои практически неограниченные полномочия (по той же Конституции), они произвели ряд принципиально недемократических и даже отчасти антиконституционных (по духу) нововведений, естественно, закрепив их юридически.
К чему же это привело? К крайне резкому обострению конфликта между принципом суверенитета народа и почти неограниченной властью президента, к превращению законодательных, исполнительных и судебных органов власти в некие комиссии при президенте. При этом мы лично не виним никого из трех российских президентов. Это совершенно разные люди (разных биографий, возрастов и т.д.). Объединяет их лишь одно (включая даже молодого Медведева) – это советские люди. Советский же человек органически, экзистенциально воспринимает власть как насилие (в жесткой или мягкой форме – это неважно), социальное согласие (консенсус) – как то, что все согласны со мной, объективный социальный конфликт – как заговор «темных сил» против меня и олицетворяемой мною правды, наличие чужого мнения – как проявление крамолы. Надо сказать, что этими качествами отмечены в той или иной степени не только наши высшие должностные лица, но и практически все мы с вами. В этом еще одно фундаментальное противоречие современного отечественного социума – между демократической политико-правовой системой и недемократическими «акторами» (это касается и оппозиции).
Вернемся к конституции. Основой всякой демократии являются выборы. Именно в выборном процессе и реализуется народный суверенитет. Практически уничтоженные выборы не дают народу реализовать это свое главное социальное право. Следовательно, наличная политическая система, выросшая из авторитарных потенциалов конституции (и отказавшаяся от ее демократических потенциалов), не оставляет места для оппозиции. Всякое, в том числе российское, общество основано на конфликте интересов. Это признак любого живого социума. И всякое общество, чтобы не саморазрушиться, создает институты и процедуры, в рамках которых происходит конкуренция и согласование этих конфликтных интересов. В первую очередь имеются в виду, конечно, представительные учреждения. К сожалению, нынешняя российская политическая система не оставляет ни единой возможности для реализации иных, не господствующих интересов.
Еще раз об оппозиции. В современном русском политическом языке существуют два ее определения – системная и несистемная. Что касается «системной», то она олицетворяется партиями, допущенными в Думу. Именно «допущенными», поскольку их судьба зависит от Власти. Это касается и коммунистов с их довольно широкой социальной базой и хорошей организацией. Но если бы Власть по какой-либо причине решила элиминировать КПРФ из властного пространства, несомненно, это задача была бы так или иначе выполнена. Это означает, что КПРФ, СР и ЛДПР имеют по преимуществу властную легитимность. Другими словами, они «в системе» по разрешению начальства. Хотя, конечно, реальная жизнь сложнее моделей, «идеальных типов». И совокупная легитимность «допущенных» – конечно, в различных пропорциях – включает в себе и легитимность «от народа». Но определяющей, господствующей является, вне всякого сомнения, властная.
Тогда можно ли полагать «системную оппозицию» оппозицией по своей сути. Нет, нельзя. Дело в том, что оппозиция не может быть назначена. Право на этот «титул» завоевывается в борьбе за голоса избирателей, а не за «разрешение» властителя. Далее, оппозиция противостоит в парламенте не Власти, а другой партии (партиям). В последних трех Думах доминирует «Единая Россия». Это не партия, а думский псевдоним Власти, приводной ремень Власти, порученец Власти и т.п. И «системная оппозиция» допущена оппозиционировать этому властному порученцу. Все они – ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР – поют по одной партитуре, написанной в одном месте. В общем и целом наша партийно-политическая система, наш парламент суть подделки. Но – абсолютно необходимые для Власти. – Тогда почему? И зачем ей эта «паленая» политика?
Советская власть, а наша, безусловно, советская по своей природе, инстинктам, повадкам, разводкам, отбросила коммунистическое обличье, требуху, прикид, однако осталась властью-моносубъектом, властью-насилием, властью-полицейским, властью-«отцом родным», властью-«строгим учителем» и пр. Так вот, эта самая советская власть, если вспомнить ее историю, всегда имела оппозицию. Сама ее конструировала, «назначала», а затем и поедала. Оппозиция была тем, что поедается в ходе жертвоприношения. Иным языком: внутренним источником питания. – Ныне советская власть тоже нуждается в оппозиции. Но не для жертвоприношения и постоянной подпитки витальностью. Изменились «очередные задачи» советской власти. Она нашла себе иные жизнетворящие источники, отказалась от всех этих людоедских жертвоприношений. Стала более современной, «цивильной», гедонистичной. Однако без оппозиции все же не может. «Системная» призвана быть «операцией прикрытия». Ну, как миролюбивая внешняя политика бывает прикрытием наглых, авантюристичных империалистических замыслов.
Фальшак системной оппозиции в том, что она никогда не сможет стать властью. Не предусмотрено. Место занято. И в этом смысле нынешняя русская политическая система есть закрытый клуб, куда не допускают несистемных (не взращенных или прощеных властью) и где все функционирует по мановению палочки дирижера-председателя.
Что же, спрашивается, делать остальным, нам? – Тем, которые всерьез полагают, что всякая власть от народа, что народный суверенитет основа жизнедеятельности русского общества. Что Конституция (и система права) – единственный регулятор политики, экономики, всего общества. Что мы правовое государство, а не посткоммунистические расконвоированные зеки в полицейско-авторитарном поселке-поселении. Что нам нет места в наличной властно-политической системе.
Возможны два варианта развития событий. Либо общество и власть договорятся об изменении Конституции и приведении ее в соответствие с принципом народного суверенитета, либо в России в той или иной форме начнется гражданская война. Значит, остается единственный путь – изменение Конституции. При этом надо иметь в виду, что, если в поисках нового, более совершенного и адекватного политико-правового устройства хотя бы потенциально будет возрождена конструкция двоевластия, мы вновь заложим мину замедленного действия. Ревизия действующей Конституции не есть только перераспределение власти в пользу законодательных и судебных органов, не только «вписывание» института президента в систему разделения властей. Это сложная и тонкая работа по созданию очень дифференцированного, извиняюсь за тавтологию, очень сложного механизма сдержек и противовесов. Но перед нами богатейший мировой опыт, богатейший опыт наших собственных успехов и провалов.
Вместо заключения
Эпиграфы принято помещать перед авторским текстом. Мы же нарушим это правило. И дадим отрывки из русской прозы и русской поэзии aprиs. Вот что, мне кажется, подходит уходящему одиннадцатому году.
А.И. Солженицын: «Соотношение между ними («русским» и «советским». – Ю.П.) такое, как между человеком и его болезнью. Но мы же не смешиваем человека с его болезнью, не называем его именем болезни и не клянем за нее…» (9, с. 306). «Слово “Россия” для сегодняшнего дня может быть оставлено только для обозначения угнетенного народа, лишенного возможности действовать как одно целое, для его подавленного национального самосознания, религии, культуры – и для обозначения его будущего, освобожденного от коммунизма» (там же, с. 307). «Все народы Советского Союза нуждаются в долгом выздоровлении после коммунистической порчи, а русскому народу, по которому удар был самый истребительный и затяжной, нужно 150–200 лет выздоровления, мирной национальной России» (9, с. 323).
А. Галич: «Будьте ж счастливы, голосуйте, / Маршируйте к плечу плечом». «Но особо встал вопрос /Про Отца и Гения». «Вовсю дурил двадцатый век». «В двадцатый век!.. / Как в темный лес, Ушел однажды человек / И навсегда исчез». «Граждане, Отечество в опасности! / Граждане, Гражданская война!». «И все так же, не проще, / Век наш пробует нас – …»
Г. Адамович: «Россия! Что будет с Россией! / Как страшно нам жить, как темно!»
Заметим: все это было писано многие десятилетия тому назад.
Список литературы
1. Безансон А. Советское настоящее и русское прошлое: Сб. статей. – М.: МИК, 1998. – 333 с.
2. Борисов Н.С. Возвышение Москвы. – М.: Русскiй Мiръ, 2011. – 576 с.
3. Иванов Г.В. Стихотворения / Сост., вступ.ст., примеч. В. Смирнова. – М.: Эксмо, 2008. – 384 с.
4. Зимин А.А. Опричнина. – М.: Территория, 2001. – 448 с.
5. Маклаков В.А. Воспоминания: Лидер московских кадетов о русской политике 1880– 1917. – М.: Центрполиграф, 2006. – 352 с.
6. Морен Э. О природе СССР: Тоталитарный комплекс и новая империя. – М.: РГГУ, 1995. – 220 с.
7. Пайпс Р. Россия при старом режиме. – М.: Независимая газета, 1993. – 421 с.
8. Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская Система // Политическая наука: Теория и методология. Вып. 2. – М., 1997. – С. 82–194; Вып. 3. – С. 64–190.
9. Солженицын А.И. Публицистика: Статьи и речи. – Париж: YMCA-PRESS, 1981. – 365 с.
10. Струве П.Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм: Сб. статей за пять лет (1905–1910). – СПб.: Жуковский, 1911. – 619 с.
11. Тимофеев Л.М. Институциональная коррупция: Очерки теории. – М.: РГГУ, 2000. – 365 с. 12. Флоровский Г. Пути русского богословия. – Париж: YMCA-PRESS, 1983. – 600 с.
13. Хлебников П. Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История разграбления России. – М.: Детектив-Пресс, 2002. – 304 с.
14. Nye J. The Future of Power. – N.Y.: Public Affairs, 2011. – 303 p.
Россия и/или свобода
В.П. Булдаков
Чем чаще произносится у нас слово, слаще всего звучащее для человека подневольного, тем больше хочется цитировать строки поэта, «восславившего свободу»:
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя –
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды…
Концовка этого стихотворения (1823) звучит как адресное обвинение:
К чему стадам дары свободы?
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
Эти слова перекликаются со строками М. Волошина, написанными столетием позже (1919):
Вчерашний раб, усталый от свободы, –
Возропщет, требуя цепей…
Цареву радуясь бичу…
Круг замкнулся. К свободе мы не были готовы ни двести, ни сто лет назад. То же самое наблюдается вновь. «Выдавить из себя раба» никак не удается.
Разумеется, проблема не/свободы вовсе не относится к числу исключительно российских неразрешимостей. Вчитываясь в тексты родной истории, поневоле вспоминаешь дневниковые строки Ф. Кафки: «Нет, я не хотел свободы. Я хотел всего-навсего выхода – направо, налево, в любом направлении…» (6). Не менее категоричен был М. Мамардашвили, вызывающе сформулировав кардинальный вопрос человеческого бытия: «Какого диктатора я хочу?»
В круговороте не/свободы
В любом случае ясно, что в видах собственного выживания человек, изначально наделенный свободой совести и воли, всегда стремился к поиску ближайшего «диктатора», освобождающего его от «сложностей» принятия самостоятельных решений. Строго говоря, личность нуждается не в свободе как таковой, а в относительно независимом выходе творческой, а то и просто «дурной» энергии – как правило, социально «избыточной». Не случайно запреты, ограничивающие спонтанные выплески своеволия, острее всего воспринимаются в детстве и юности. Столь же закономерно, что проблема свободы редуцируется, когда общество находит баланс между практиками культурного насилия и индивидуалистическими устремлениями.
Вопрос о свободе возникает обычно в связи с острым ощущением социэтальной скованности. В традиционном обществе, в отличие от модернизирующейся социальной среды, он, я думаю, вообще не стоит. Однако в любом случае человек, в отличие от животного, – существо творческое. И по-настоящему он может реализовать себя не через обычай, привычку и тем более ритуал – этот поглотитель моральной энергии, а только через свободу самовыражения, в большей или меньшей степени выходящую за их рамки.
Кажется, не приходится доказывать, что человеческий прогресс опирается на свободную личность, ее творческий потенциал, возможности обмена инновационной информацией и ее коммуникативного освоения. Между тем в онтологическом смысле человек несвободен с момента своего рождения. Следовательно, проблема не/свободы может быть сведена к балансу между системой внутрисоциумных и общественных табу и уровнем энергетической неупорядоченности человеческой индивидуальности. Теоретически эту проблему можно решать либо на путях тотального диктата, либо методом нивелирования индивидуальностей. В том и другом случаях предполагается та или иная степень обуздания человеческого Я. Другое дело, откуда этот процесс идет: сверху, от власти, или снизу (сбоку), от общества. Во втором случае пространство свободы все же оказывается шире, а главное – появляются соответствующие иллюзии.
Европейская традиция допускает лишь такой уровень индивидуальной свободы, который не ограничивает свободу другого. Это не что иное, как поведенческий императив гражданского общества. Такая не/свобода понятна, многообещающа и потому терпима, хотя и здесь возникает потребность в дополнительных гарантиях вроде «прав человека». Но когда усекновение естественных прав личности осуществляется сверху во имя удобств государства, несвобода может стать невыносимой. В любом случае человек вынужден разменивать «избыточные» свободолюбивые порывы на безопасность существования. Если социальные гарантии отсутствуют или дают сбой, включается «чувство справедливости»: протест против навязанной несвободы оборачивается бунтом против деспотии (реальной или мнимой), а заодно и против всякого препятствия на пути пробудившегося инстинкта своеволия.
В России ощущение перманентного «зажима» настолько основательно въелось в человеческие умы, что, похоже, творческий человек не сможет прожить ни дня, не мечтая о неведомой свободе. А потому стоило бы принципиально разделить собственно свободу (то ли абсолют, то ли призрачный антипод рабству) и мечту о ней (своего рода творческий стимул и социальный релаксант). Конечно, наибольшую свободу самореализации предоставляет демократия. Но у нас забывают, что демократия возможна только в среде культурно отформатированных людей. Звучит странновато, но демократия пригодна только для демократов: предоставление внутри нее свободы для ее противников создает ситуацию, чреватую торжеством несвободы.
Процесс демократизации на Западе шел преимущественно снизу – от общества, пережившего и инквизицию, и Возрождение, и Реформацию. В результате сформировался не «свободолюбивый», а скорее конформистски-компромиссный тип личности. Это вовсе не идеал свободолюбия, но просто возможность формирования сообщества людей, независимых ровно настолько, насколько они терпят свободу других. И эта форма само-дисциплинирующего диктата в известные времена показала себя наиболее эффективной в хозяйственно-предпринимательском отношении. Впрочем, экономически состоятельным может быть и традиционное общество с высоким уровнем производственно-технологической дисциплины. Деспотическая система также может продемонстрировать известного рода народнохозяйственные достижения. Разница лишь в кратковременности ее мобилизационного «успеха», не говоря уже о человеческой цене тотальной несвободы.
Наивно думать, что всякий человек любого социума остро и ежеминутно нуждается в свободе самовыражения. Если индивидуальность растворяется в стадности (а так было многие тысячелетия), то личная – как творческая, так и агрессивная – энергия естественно вливается в коллективную устремленность, направляемую «вождем». Деспот может «приручить» человеческие порывы к свободе. И не следует относить данный феномен к примордиалистским временам – ХХ век особенно преуспел в этом отношении. В современных условиях нечто подобное осуществляется методом «слива» избыточной человеческой энергии в «параллельное» виртуальное пространство.
В России издавна свобода отождествлялась с волей – возможностью абсолютной независимости от чего и кого угодно, особенно от деспотичного государства. В масштабах большого исторического времени это выглядит «врожденной патологией», пороком асоциальности, деструктивным стремлением перекроить всю общественную ткань соответственно мнимым «первозданным» идеалам. Это образчик перверсии синкретического сознания, не разделяющего воображаемое и сущее, идеальное и реальное, символическое и практическое. Для такого сознания соблазн воли становится поистине неодолимым в связи с ощущением несправедливости «своей» (которой на деле никогда не бывало) власти.
Синкретическое сознание, спутанное узами обычного права, продуцирует бесконечные ряды бинарных оппозиций, среди которых свобода непременно противостоит необходимости. Вовсе не случайно ощущение не/свободы в России было особенно острым дважды: в процессе крушения самодержавия и развала СССР. Патерналистская система, скованная бюрократией, непременно породит чувство тотального протеста. Но историческая память вслед за тем обязательно оживит и воспоминания о «комфорте» безответственной несвободы.
На идеологическую историю советского коммунизма можно взглянуть как на парад симулякров – расхожих псевдоназваний, отделяющих слова от смыслов и переворачивающих саму реальность с ног на голову. Этот сумасшедший марш начался сразу после прихода большевиков к власти: «свобода» (точнее, суррогат воли) понималась как возможность неограниченного насилия над «эксплуататорами». В начале 1920-х годов «предрассудком» назывались представления о том, что трудовая повинность – это измена «коммунистическим принципам свободы». Символично, что большевиков искреннее благодарили члены секты… скопцов, заверявших о своем «полном подчинении Власти, которая дает свободу совести человека». Боюсь ошибиться, но, как мне кажется, публичное злоупотребление словом свобода достигло своего апогея в 1930-е годы – термины свобода и демократия превратились в заклинания, подпитывающие ничем не ограниченную репрессивность власти. Вся советская история пронизана принципом «добровольно-принудительного» истолкования свободы. Символично, что в так называемые годы застоя свобода вообще стыдливо ушла из российского лексикона.
Как известно, в современной России свобода и свободы отождествляются с демократией и демократизмом. Это далеко не одно и то же, хотя очевидно, что движение к свободе за пределами привычно обновляющегося правового поля может обернуться охлократией. Все известные виды политической демократии – всего лишь ситуационные диктатуры большинства над меньшинством. Правда, в современной западной демократии обозначилась ее либертерианская перверсия, когда права меньшинства ставятся выше прав большинства. Но эта тенденция вряд ли исторически конструктивна; сомнительно, что социальное пространство, выстроенное на таких основаниях, окажется жизнеспособным, ибо прогресс всегда достигался за счет «нормальных» креативных личностей авторитарного, увы, склада. И хотя отождествление демократии со свободой некорректно, в контексте российской исторической аксиологии оно не только символично, но и оптимистично. Россияне не находят пространства самовыражения, а государство, со своей стороны, упорно лишает их такой возможности. Отсюда элиминирование базовых ценностей и смыслов человеческого существования, прорывающихся время от времени чередой больших и малых «иррациональных» бунтов. Такое чередование «неволи-воли» бесперспективно с поступательно-эволюционистской точки зрения, но не безнадежно онтологически.
Сколько свободы нужно человеку?
Возникает вопрос: почему российская государственность столь упорно подавляет свободу творческого самовыражения? Ответ очевиден: власть требует и добивается свободы только для самой себя. Информационная революция намного увеличила ее возможности. В современных условиях государство готово предоставить людям взамен свободы выбора свободу воспроизводства прихотей и пороков – разумеется, в четко очерченных пределах. Оказывается, позывы к свободе можно направить в некую культурную резервацию, отведя ей определенный субкультурный этаж, а демократию подменить ее балаганным суррогатом. В таких условиях власть и квазиобщество привыкают вести «параллельное» сосуществование. Но это противоестественно: свобода индивидуальной и групповой порочности противостоит свободе общественной самодеятельности – особенно, если над всем этим стоит государство с его извечными претензиями на самодержавный волюнтаризм. К тому же «параллели своеволия» рано или поздно – в «неэвклидовом» пространстве человеческого бытия это неизбежно – пересекутся с известными для России «бунташными» последствиями. И не надо надеяться, что ситуация, когда одни делают вид, что работают, а другие, что управляют, а не обворовывают, может продолжаться долго.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































