Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 3"
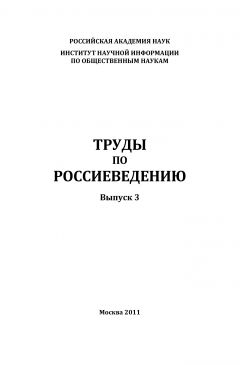
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Лишь в начале 1880-х годов правительство обратило внимание на ухудшение положения освобожденного крестьянства. В 1880–1881 гг. М.Т. Лорис-Меликовым была разработана программа действий, предусматривавшая отмену подушной подати (реализовано в 1887 г.; подать продолжала взиматься только в Сибири), прекращение временнообязанного состояния (инициировано в 1881 г. Александром III, осуществлено в 1883 г.) и отказ от дополнительного 20%-ного платежа в пользу помещиков, а также сокращение размера выкупных платежей4242
Последние «послабления» были явно ориентированы на помощь беднейшей части временнообязанного крестьянства, не способной к аккумуляции средств, требуемых для перехода на выкуп. Напротив, более состоятельное крестьянство, уже выплатившее требуемое, было тем самым «наказано» за договороспособность и законопослушное поведение.
[Закрыть]. В целом же мерами, предпринятыми в начале царствования Александра III (снижение на 12 млн. руб. выкупных платежей и отмена подушной подати), налоговое бремя крестьянства было снижено на 53 млн. руб.4343
Отмена подушной подати компенсировалась повышением платежей, взимаемых с бывших государственных крестьян (законом от 12 июня 1886 г. они переводились на выкуп; их платежи также были рассчитаны на 49,5 года и в сравнении с оброчной податью возрастали почти в полтора раза), и введением акциза на водку.
[Закрыть], т.е. на 1/6 часть (23, с. 193). Кроме того, политика министра финансов Н.Х. Бунге предполагала равномерное распределение налогового бремени путем обложения более имущих классов населения, «до тех пор изъятых от прямого обложения или недостаточно обложенных» (там же), введение налогов на наследство и дарение, на торговые и промышленные предприятия и на денежные капиталы, повышение налогов на недвижимые имущества в городах и поземельного и пр. Правительство взяло курс на введение со временем единого подоходного налога.
Тем не менее все эти, по сути, реактивные действия власти, притом что они снижали фискальный гнет для наименее адаптированных к новой ситуации страт общинного крестьянства, представляли собой инерцию старых подходов к аграрной проблеме. Во второй половине 1880-х годов происходят важные перемены в политической стратегии Российского государства. Разочаровавшись в частнопредпринимательских возможностях формирования стратегически важных для страны отраслей индустрии, самодержавная власть переходит к политике казенного предпринимательства и индустриализации «сверху». Прежнее фритредерство сменяется протекционизмом, пересматриваются приоритеты государственной внешней и внутренней политики, для повышения «инвестиционной привлекательности» проводится санация финансовой системы и уникальная по мировым меркам того времени реструктуризация внешней российской задолженности (так называемые конверсии Вышнеградского), «насаждение» крупной индустрии подкрепляется перераспределением национальных ресурсов. Начинается «индустриальная революция» Александра III (подробнее см.: 13, с. 193–194; 14, с. 46).
На фоне этой трансформации аграрный вопрос становится вопросом эффективности использования потенциала пореформенной деревни в качестве ресурса индустриального развития. Некоторое смягчение фискального давления на крестьянство (начала 1880-х годов) сменяется в конце 1880-х усилением мер прямого вмешательства правительства в крестьянские дела. В 1889 г. вводится должность земского участкового начальника, обязанного контролировать деятельность сельских обществ и волостей, ориентируясь на дополнительное укрепление общины и сдерживание процессов дифференциации в общинной деревне. Совершенствуются механизмы принудительной «товаризации» производимых деревней натуральных сельхозпродуктов, отчуждаемых в счет выкупных и налоговых платежей. Катастрофических масштабов голод 1892–1893 гг. (накануне рост хлебного импорта достиг рекордных 20% от общероссийского сбора) становится своего рода символическим «рубежным знаком», маркирующим смену стратегических ориентиров российского самодержавия. Отвергается окончательно подорванная и скомпрометированная реформой4444
Реформа сломала основной механизм аграрной колонизации, который был сращен с системой закрепощения, включающей обязанность помещиков обеспечивать своих крепостных (кроме дворовых) соответствующим полевым наделом. Реформа освободила помещиков от такой обязанности, заложив в систему сформированных ею аграрных отношений (особая юрисдикция сельского общества, неотчуждаемые общинные земли, круговая порука и пр.) «часовой механизм» растущего аграрного перенаселения в условиях дефицита капитализации, необходимой для роста производительности сельского труда, продуктивности хозяйства, агрокультуры, урожайности и пр. Все это создавало колоссальные препятствия формированию рыночной альтернативы прежней стратегии. Сельское население, являющееся основным поставщиком натурального продукта на рынок, в массе своей по-прежнему оставалось вне рыночных отношений.
[Закрыть] (а прежде фундаментальную для государства) стратегия внутренней аграрной колонизации (подробнее см.: 14, с 35–42); формируется политика внутренней индустриальной колонизации4545
Если индустриализация Великобритании опиралась на ресурсную мощь ее грандиозной колониальной империи, а индустриализация континентальных держав Европы ввела мир в эпоху империализма, то российская индустриализация ресурсно обеспечивалась преимущественно процессами внутренней колонизации, прежде всего – выведенного за рамки общегражданской юрисдикции общинного крестьянства.
[Закрыть], в интересах которой реконфигурируется вся ресурсная мощь самодержавия и в рамках которой аграрная сфера все в большей степени превращается лишь в объект фискального интереса.
Этим фундаментальным переменам предшествовал и им сопутствовал нарастающий конфликт охранительного и праволиберального подходов власти к аграрному вопросу. Сторонники первого настаивали на продолжении сосуществования крестьянского и помещичьего землевладения «в разных правовых пространствах», игнорируя задачу выработки «надсословной концепции частной земельной собственности» (6, с. 151–152). Их оппоненты (в числе которых был – в тот момент уже председатель Кабинета министров – Н.Х. Бунге) полагали, что политика, «призванная обеспечить сословную замкнутость крестьянского землевладения и неотчуждаемость крестьянских земель, нарушала “в корне установленное приведенным законом понятие о крестьянах-собственниках”, т.к. все временные ограничения права собственности крестьян на землю устанавливались авторами реформы 1861 г. лишь в интересах казны, “ввиду необходимости обеспечить лежащий на крестьянской земле выкупной долг”. Но в 1893 г. большинство членов Госсовета отвергли предложения Бунге…» (1, с. 97), а «предоставление крестьянам права распоряжения земельными наделами было признано большинством сановников неприемлемым…» (там же). В итоге Закон 1893 г., подтверждая незыблемость общины и неотчуждаемость крестьянского надела (запрет продажи и залога надельных земель), резко ограничивал (вопреки «Общему положению») право крестьян на досрочный выкуп своего надела в частную собственность. Для этого помимо внесения сполна выкупной суммы требовалось еще и получение на это разрешения сельского схода и коронной администрации в лице земского начальника. Семейные разделы разрешались теперь только с согласия схода. Очередные переделы земель можно было проводить не чаще, чем каждые 12 лет.
Ответом власти на усиливающийся аграрный кризис в тот момент, когда негативные последствия выбранной стратегии реформы проявились со всей отчетливостью, стала еще более определенная поддержка курса на упрочение и закрепление сословной сегрегации общинного крестьянства (лишенного, напомним, общегражданской правосубъектности). Эта политика оказалась эффективным тормозом процессов модернизации, а затем в дело реализации модернизационного императива история подключила революционный фактор. Впрочем, забегая вперед, отметим, что и революция смогла упразднить лишь прежний формат такой сегрегации, но не сам этот фундаментальный принцип российской политики «догоняющего развития».
Пересмотр аграрной политики по итогам первой русской революции
Новый подход к разрешению аграрного кризиса
Столыпинская аграрная реформа: тактические достижения и стратегическая неудача
Анализируя эволюцию пореформенной деревни, Б.Н. Миронов в своем капитальном и широко известном труде «Социальная история России периода империи…» подчеркивает высокий темп приобретения крестьянами земли в личную собственность за пределами общины. За 40 пореформенных лет рост составил 1,5 раза по числу продаж (в год) и 15 раз – по площади земельных участков, приобретаемых крестьянами в частную собственность (19, с. 481). Весьма характерное различие этих показателей, напротив, указывает на сравнительно небольшое и крайне медленно увеличивавшееся в пореформенное время число зажиточных крестьян, имевших желание и возможность приобретать дополнительную (помимо общинной) землю в личную собственность. Увеличение числа продаж в 1,5 раза за 40 пореформенных лет – это безусловный провал политики хозяйственной эмансипации крестьянства и стимулирования его перехода к частному землевладению, симптом глубочайшей хозяйственной стагнации пореформенной деревни. Дело в том, что за тот же период численность соответствующих категорий сельского населения увеличилась (за счет ускорявшегося в этот период демографического роста) более чем в полтора раза, по авторской оценке – в 1,6–1,7 раза. Тем самым в расчете на сельскую «душу населения» ежегодное число продаж в пореформенный период сократилось. В качестве характеристики «тяги крестьян к частной земле» Б.Н. Миронов обращается, что вполне резонно, к подсчету числа домохозяйств, воспользовавшихся правом выхода при досрочном выкупе своего общинного надела и легально вышедших из общины: по его оценке, таковых было – 140 тыс. (там же, с. 481). Если к этому присовокупить 490 тыс. крестьян, купивших землю в личную собственность за пределами общины, на стороне, то итог будет немногим более 600 тыс. из 9,5 млн. крестьянских домохозяйств (там же, с. 479–481).
Учитывая преграды, которые ставило правительство процессу хозяйственной эмансипации крестьянства (в частности, закон 1893 г.), следует признать, что реформаторы очень старались, чтобы максимально ограничить число крестьян, способных реализовать «тягу к частной земле». Подавляющее большинство крестьян в первые четыре пореформенных десятилетия (вплоть до первой русской революции и столыпинских преобразований) такой возможности не имело, и реформа им такой возможности не предоставила, несмотря на стремительно сокращавшийся размер их земельного надела в расчете на душу крестьянского населения. Вместе с тем резкое (по разным оценкам, 10–15-кратное за 40 лет) увеличение площадей приобретаемых земельных участков указывает на то, что пореформенные порядки стимулировали поляризацию крестьянства и укрепляли позиции сельских «мироедов».
При этом помещики «поколения реформы» обеспечили себе безбедное и по большей части беспроблемное, гарантированное государством существование. Проблемы, собственно, начались лишь по мере того, как крестьянство, закрепощенное реформой в общине, но на протяжении десятилетий настойчиво рвавшееся к СВОБОДЕ, на «выходе из» выкупных платежей осваивалось в новом состоянии. «Дотянув» к началу ХХ в. до вожделенной «свободы» и вкусив ее первые плоды, крестьяне перешли из состояния надежды в состояние отчаяния. Пореформенное малоземелье выбивало почву из-под ног крестьянства, расшатывало многосотлетнюю веру в незыблемость его единства с самодержавием и православием. «Отказ» от прежних верований, их «разрушение», тем более если оно «революционно» и «тотально», разлагает всяческие основы человеческого самостояния и обращает человека в тотальное рабство, «тоталитаризм». Свобода, воспринятая как разрыв прежней взаимозависимости, превращается в рабство, тотальную зависимость от чуждого и неподконтрольного личности внешнего принуждения. Воплощением этого нового рабства и стал последующий советский социальный эксперимент, в котором «граждане освобожденной России» оказались в полной зависимости от посюстороннего произвола своих вождей-властителей, а вместе с тем обрели вмененную в ходе этого эксперимента веру в «рукотворный рай на земле».
Но первый приступ крестьянского отчаяния в канун русской революции начала века принял формы массовой, спонтанной, во многом бессознательной и иррациональной ненависти к символу прежней «крепости» и нынешнего малоземелья, ложной «свободы» и новых общинных и казенных пут – к помещичьей усадьбе. С этого времени, и особенно с 1905– 1906 гг., поджоги и погромы помещичьих усадеб стали подлинным общенациональным бедствием. Неблагополучие ситуации в деревне многим российским сановникам, включая ключевые фигуры правительства (такие, например, как С.Ю. Витте), было очевидно задолго до событий 1905 г. В 1903 г. было принято решение об отмене круговой поруки (распространялось на 46 губерний Европейской России). Но именно с этого момента уступки власти, ее готовность к послаблению установленных законом правил и поборов лишь распаляли сельское общество, стимулировали крестьянские беспорядки.
Собственно, беспрецедентный характер последних в 1905 г. и побудил власть к радикальному пересмотру приоритетов аграрной политики. Община, прежде рассматриваемая в качестве гаранта стабильности в русской деревне, предстала в глазах и власти, и общественности главным «мотором» крестьянских беспорядков, притом абсолютно непонятным правительству и неконтролируемым им. Эффект крестьянского бунта был столь впечатляющ, что уже 5 ноября 1905 г., не дожидаясь завершения работы совещаний по аграрному вопросу, правительство Витте приняло решение об отмене выкупных платежей и накопившихся недоимок. Институт круговой поруки отменялся повсеместно. Власть теперь делала ставку на крепкие индивидуальные крестьянские хозяйства, и в рамках этой новой стратегии стимулировала их выход из общины. Налогообложение крестьян становилось индивидуальным (посредством государственных податных инспекторов), участие в нем волостных и сельских управлений отныне не предусматривалось. Свобода, обещанная крестьянам в 1861 г., наконец, казалось бы, пришла в российскую деревню.
В августе–ноябре 1906 г. в период между I и II Государственными думами выходит ряд указов: о продаже крестьянам государственных земель, об улучшении гражданско-правового статуса крестьян, наконец, о праве крестьян на выход из общины и закрепление в собственность своих надельных земель. Законодательное (через Думу) подтверждение положений этих указов затянулось на длительный срок (до 1910–1911 гг.), а правительственные законопроекты по реформе местного самоуправления так и не смогли пройти через законодательные учреждения вплоть до Февральской 1917 г. революции.
Столыпинские преобразования ориентировали деревню на переход от общинной к частной крестьянской собственности. Практиковалось кредитование крестьян, скупка помещичьих земель для последующей перепродажи крестьянам на льготных условиях и пр. Фактически эти преобразования разворачивали аграрную политику самодержавия на 180°, от прежнего всемерного поощрения и укрепления сельского общества к его постепенному изживанию. Многочисленные меры были направлены на поддержку кооперативного движения. После принятия в 1911 г. Закона о землеустройстве преобразования получили дополнительное ускорение и не прекращались, несмотря на очевидные трудности, даже в период Первой мировой войны.
Помещичьи хозяйства превращались во второстепенный элемент общего хозяйственного потенциала российского агропроизводства. В 1916 г. крестьяне уже засевали (на собственной и арендуемой земле) 89% земель и владели 94% сельскохозяйственных животных. Создавалось ощущение вступления страны в период устойчивого аграрного роста, интенсификации сельского хозяйства, увеличения спроса на современный сельхозинвентарь, знания и технологии.
Однако стоит более внимательно проанализировать совокупные итоги аграрных преобразований 1906–1916 гг., связанных с освобождением крестьян от принудительного пребывания в общине. С 1907 по 1916 г. официально порвали с передельной общиной 3,1 млн. из 10,9 млн. общего числа крестьянских дворов, т.е. лишь 28% (19, с. 481). Между тем это существенно меньше того, что дают расчеты по фактическому предпочтению подворного землевладения накануне 1905 г., проведенные Б.Н. Мироновым с использованием статистики Министерства внутренних дел и данных К.Р. Качоровского (10). По данным двух этих источников, к 1905 г. в общинах, числившихся передельными, но на самом деле не производивших переделов земли с 1861 г., состояло от 2,8 млн. до 3,5 млн. дворов (см.: 19, с. 479–480). Суммируя эти цифры с приведенным ранее числом домохозяйств, выкупивших свой общинный надел или прикупивших землю на стороне (в сумме немногим более 600 тыс.), Б.Н. Миронов делает вывод: «39% всех крестьян – членов передельных общин в 1905 г. разочаровались или не доверяли вполне передельной общине…» (там же, с. 481). Более того, «общинные порядки не были насильственно сломаны столыпинской реформой: как до реформы, так и после нее проходил естественный процесс разложения общины и социальных отношений общинного типа» (там же, с. 482).
Усилим вывод Миронова. В течение 1861–1905 гг. «естественный процесс разложения» последовательно сдерживался самодержавным правительством и тщательно камуфлировался насаждаемыми сверху институтами передельной общины, которые весь пореформенный период оставались чуждыми более чем трети российского крестьянства. При этом движение в сторону подворного хозяйствования в остальной части крестьянства в тот период оказалось минимальным, и нет свидетельств, что оно усилилось (либо как-то активизировалось) в период столыпинских преобразований. Иными словами, власть в течение почти полувека делала в аграрной политике то, чего не следовало бы делать (сдерживала движение крестьянства к хозяйственной самостоятельности и подворному землевладению), и занималась тем, что давало ей стратегический шанс на выживание (не способствовала преодолению общинно-передельных практик и дифференциации крестьянства, не стимулировала переход от передельного к подворному землепользованию). В целом же суммарное количество тех, кто легально вышел к 1905 г. из передельных общин путем досрочного выкупа надельной земли (1,5%), приобрел землю в собственность «на стороне» (5%) и устойчиво склонялся к подворному землевладению, формально пребывая в передельной общине (около 33%), составляет немногим менее 40% дворов. Это количество соотносится с итоговыми результатами (к 1916 г.) столыпинских преобразований в части выхода из общины, заметно перекрывая число крестьянских хозяйств, реально успевших к этому времени закрепить землю в частную собственность.
Результат преобразований заключался в том, что подавляющему большинству крестьян, желавших перейти от передельного к подворному землевладению, такая возможность была в конце концов предоставлена. Тем не менее те, кто накануне 1905 г. оставался верен передельнообщинному принципу землепользования (а это около трех пятых всех крестьянских дворов), в массе своей сохранили свои предпочтения вплоть до 1917 г. Столыпинские преобразования лишь проявили, сделав очевидным и политическим, размежевание передельной и подворно-хозяйствующей деревни и создали тем самым предпосылки будущей «гражданской войны» (закавычим, поскольку то была «гражданская война» при отсутствии граждан – точнее, при отсутствии у большинства ее участников представлений о гражданственности, гражданского самосознания как такового). Более того, они подготовили и облегчили переход этого социально-политического противостояния из «деревни» на страну в целом.
В ходе преобразований был легализован раскол деревни, а конфликт между различными социальными стратами крестьянства выведен за рамки локальной крестьянской общины. Ответственность за разрешение до той поры внутреннего, запертого в сельском мире конфликта легла теперь на плечи правительства и государства в целом. Поэтому, когда в 1917 г. правительство «пало», а государство утратило отчетливость своих прежних властных очертаний, «крестьянский вопрос» стал ключевым политическим вопросом всего российского общества, главным в повестке дня российской социальной революции. Конфликт общины и ее разрушителей превратился в силу, обрушившую всю Россию. При этом ни община, ни разрушители в конфликте не уцелели, поскольку, начавшись, конфликт не угас до тех пор, пока обе стороны не истребили друг друга, «вскормив» своей борьбой «третью» силу, которая и подчинила страну новому социальному порядку.
Характерно, что до 1861 г. именно частновладельческий компонент крепостничества выполнял ключевую функцию консолидации самодержавного строя, чутко реагируя на его проблемы. С его упразднением прежняя крепостническая система, охватывающая практически все российское крестьянство и эффективно встроенная в петровский проект самобытной модернизации России, адаптирующий ее к императивам инородного Запада, была обречена на глубокую и принципиальную трансформацию. Все совпало, вызвав взрыв того надстроенного над общиной порядка, основанного на праве, рынке, коммерции и частной собственности, защитники которого так и не смогли преодолеть пропасть между городской протобуржуазной цивилизацией, интегрированной в мировую культуру, и многомиллионным российским сельским миром. Что же до большевиков, то они лишь выступили эффективным детонатором «общинной», т.е. основанной на потенциале массовых нерыночных социальных слоев, революции, а впоследствии эффективно канализировали ее энергию в конструирование нового социального строя.
Революционное разрешение аграрного вопроса в России
Поэтапная ликвидация общинно-передельных отношений в российской деревне. «Долгое эхо» крестьянской реформы 1861 г
Актуальные аспекты проблемы
Крах самодержавного государства и олицетворяемого им порядка стал концом столыпинских преобразований и крестьянской (аграрной) реформы как политического проекта старой власти. С новой силой возобновляются поджоги и погромы помещичьих усадеб. Война лишь усилила копившиеся в стране несовместимость и взаимное отторжение. С одной стороны, современная городская цивилизация склонялась к сохранению политического status quo. Квинтэссенцией этого подхода стала позиция самодержавной власти, которая предпочла неправовой отказ от престола возможности правовой реформы самодержавного строя, его трансформации в конституционную монархию. С другой же стороны, российская деревня, стимулируемая очевидным бессилием власти в деле защиты правового порядка, отвергла путь формально-правовых решений в пользу обычного (традиционного) права распоряжения всей пригодной для сельхозэксплуатации землей России. Более того, уже с начала ХХ в. в сельской среде культивировалось подспудное состояние «гражданской войны» с ненавистным городом и теми реформами, которые он последовательно и решительно вторгал в крестьянский мир.
Два этих сердца в едином социальном организме России, не связанные уже общими верованиями и ценностями, не совместимые и отторгающие друг друга (discordia), предрекали, согласно яркой метафоре Х. Ортеги-и-Гассета (20, с. 37), борьбу сторон до полного уничтожения противника. Упразднение либеральной элитой в феврале-марте 1917 г. самодержавия было воспринято крестьянством как прецедент, символ распада прежнего общероссийского согласия, знак того, что теперь «все дозволено» – состоятельные, защищенные правом «городские классы», символизировавшие вековое угнетение крестьянства, должны быть уничтожены «до основанья»4646
Фактически об этом писал Х. Ортега-и-Гассет: «Под маркой синдикализма и фашизма впервые возникает в Европе тип человека, который не желает ни признавать, ни доказывать правоту, а намерен просто-напросто навязать свою волю. Вот что внове – право не быть правым, право на произвол. Я считаю это самым наглядным проявлением нового поведения масс, исполненных решимости управлять обществом при полной к тому неспособности…» (20, с. 83).
[Закрыть].
Но наряду с сошедшимися в смертельном противоборстве российской городской цивилизацией, возникшей как результат петровских преобразований, и общинной деревней на авансцену российской истории со всей решительностью вступила и «третья сила» – большевизм. Причем успех этой силы облегчался важным обстоятельством, которое тот же Ортега-и-Гассет сформулировал так: «Ни для кого не тайна, что если в России большевизм победил, то победил потому, что в России не было буржуазии» (20, с. 160)4747
См. свидетельство М. Волошина – его стихотворение «Буржуй» 1919 г. из цикла «Личины».
[Закрыть]. Иными словами, в России не было массовой социальной силы, способной защитить правовой социальный порядок от посягательств политических радикалов. Поэтому большевикам требовалось лишь правильно сориентировать, подчинить своим политическим целям разрушительный потенциал общинно-передельной революции.
Как известно, стихия передельно-общинного крестьянства уже с весны 1917 г. используется большевиками в качестве своего рода тарана, низвергнувшего старый социальный порядок. А декрет «О земле», принятый 8 ноября 1917 г., фактически легализовал уже свершившийся «на местах» поворот к практике уравнительного землепользования, периодических переделов и поравнений, перечеркнувший все результаты столыпинской аграрной реформы. По-прежнему преобладающее в России общинное землевладение в ходе «революционного передела» окончательно взяло верх над односельчанами, выделившимися из поземельной общины в ходе столыпинских преобразований, принудительно втягивая их в общину, практикуя уравнительный передел участковых земель, их запашку, потравы – вплоть до разгрома и поджога усадеб. По словам очевидца тех событий, община стала «главнейшим аграрно-революционным ферментом в деревне, важнейшим аппаратом земельной реформы» (цит. по: 24, с. 163).
Именно этот первоначальный успех тактического союза большевиков с общинным крестьянством обеспечил выживание большевистского режима на начальном этапе его существования, вплоть до лета 1918 г. Поглощенное переделами и поравнениями крестьянство привнесло в жизнь страны столько хаоса и беспорядка, что фактически нейтрализовало всякое сопротивление большевистской политике экспроприации промышленности, финансов и торговли со стороны имущих городских слоев. Это позволило окончательно разгромить российский внутренний рынок и вплотную подойти в рамках политики «военного коммунизма» к формированию режима единой политической и хозяйственно-распределительной монополии.
В свою очередь, комплекс мероприятий, связанных с политикой военного коммунизма, стал логическим следствием разрушения системы товарно-денежных отношений в городе и деревне, доводя процесс натурализации хозяйства до крайних пределов. Главные элементы хозяйственной политики этого периода (продразверстка и подавление товарно-денежных отношений, торговли) явились итогом глубочайшего кризиса национального хозяйства и общества в целом и вместе с тем надежнейшим инструментом утверждения нового военно-коммунистического социального порядка. Лишь сельская община, в 1917–1918 гг. – ключевой союзник новой российской власти, оставалась тогда неодолимым препятствием на пути всеобъемлющего огосударствления.
Аграрная революция, неслыханно укрепившая господствующее положение общины в деревне, сгладила для нее остроту последствий развала рынка, раскрепостив резервы натурального уклада. Этот уклад смог приспособиться и к крайне извращенному натуральному обмену времен военного коммунизма, и к «черному рынку», к спекуляции и мешочничеству, по-прежнему обеспечивая (помимо разверстки и реквизиций) значительную часть потребляемого городами продовольствия. Но натурализованное хозяйство было лишено внутренних стимулов производства отчуждаемых излишков. Новой революционной власти пришлось возрождать (во многом усилиями местных продорганов) такой, казалось бы, забытый с 1905 г. общинный институт, как круговая порука. Тем не менее окрепшая в ходе революции община оказалась крайне неудобной для реализации продразверстки. Она всеми силами сопротивлялась попыткам проникновения государственных органов в механизм ее внутреннего хозяйственного регулирования, а реквизиции подрывали процесс воспроизводства.
В период военно-коммунистического террора большевикам не удалось расколоть общину и путем селективных реквизиций уравнять в потреблении зажиточных и безлошадных, бобылей и многосемейные хозяйства. Зато увеличилось общее число безлошадных и беспосевных, усилилось обнищание деревни, сократились посевные площади и поголовье скота. Власть предпринимала отчаянные попытки вмешательства в сам процесс крестьянского труда путем его директивного регулирования – вплоть до установления «государственной повинности обсеменения земли» и провозглашенного специальным декретом проведения сельхозкампании 1921 г. «по единому плану и под единым руководством». Однако ни путем непосредственного проникновения в общину или созданием внеобщинных колхозов и совхозов, ни посредством «сельскохозяйственных трудовых армий» военно-коммунистический режим не смог овладеть ситуацией в деревне. Результатом его политики стало лишь стремительное падение общего уровня сельскохозяйственного производства.
Попытка построить новый военно-коммунистический хозяйственный порядок на основе старой сельской общины не удалась. С того момента ликвидация общины становится приоритетом аграрной стратегии большевизма. Первым шагом на этом пути явился декрет ВЦИК от 20 марта 1921 г. о введении продналога, которым отменялась коллективная порука и вводилась индивидуальная ответственность за исполнение налога. Рынок, допущенный нэпом, понадобился большевикам в том числе и затем, чтобы одолеть общину. Ведь лучшего средства ее разложения изнутри история еще не придумала.
К началу нэпа доминирование общинного землепользования в российской деревне было налицо4848
«…К 1922 г. в Советской России 85% всей земли находилось в общинной собственности, в 67% общин произошел передел земель…» (19, с. 483).
[Закрыть]. Вместе с тем к тому времени крестьянство прошло процесс национализации и социализации земли, утратило стимулы к расширению хозяйственной деятельности и, наконец, попросту разорилось, вернувшись к натуральным формам воспроизводства. В 20-е годы, как и во времена Столыпина, был запущен и постепенно стал набирать обороты механизм внутренней дифференциации деревни. С 1927 г. бедняков освободили от налогов, зажиточных буквально душили растущим налоговым бременем. В деревне нарастала социальная напряженность. В логике времен военного коммунизма производящая деревня ответила снижением поставок товарного зерна. Власть воспользовалась кризисом хлебозаготовок и под предлогом борьбы с «крестьянским бунтом» стала возрождать отдельные элементы политики продразверстки: реквизиции зерна, поиски «излишков», использование сельской бедноты как агентов власти. Казалось, страна ускоренно проходила этапы аграрного кризиса периода военного коммунизма.
Два принципиально новых момента отличали ситуацию конца 1920-х годов от первых пореволюционных лет. В ходе нэпа старая община, повторно лишенная института круговой поруки, подверглась глубокому разложению. Реквизиции и разверстка носили теперь сугубо адресный характер и целенаправленно били по «кулаку», который уже не мог, как в 1918 г., рассчитывать на то, что сельский мир разделит с ним бремя новых поборов. С нарастанием аграрного кризиса, ростом цен, снижением покупательной способности населения, усилением дефицита продуктов питания, появлением в городах в феврале 1929 г. хлебных карточек – все условия для осуществления «великого перелома» оказались налицо.
Последующее хорошо известно. На смену беспощадно уничтожаемой общине пришла новая форма сельского «коллектива» – колхозы образца 1930-х годов, отличающаяся от прежней тем, что воспроизводила общинное землепользование, лишив его всяких признаков индивидуального хозяйствования. Это позволило до немыслимых размеров увеличивать долю отчуждаемого продукта. Ранее «естественным» пределом нормы отчуждения служила квота, изнурительная для беднейших, но вполне сносная для «справных» хозяйств. Само сохранение индивидуальных крестьянских хозяйств в рамках общинного землепользования обеспечивало предпосылки дифференциации доходов и тем самым ставило предел норме отчуждения. В колхозах этот принцип отчуждения был решительно преобразован: кто больше производил, у того больше и отнималось. Рыночные механизмы хозяйствования были окончательно подорваны, всецело возобладал тотальный государственный контроль над производством, потреблением и распределением рабочей силы между аграрной сферой и промышленностью. Со становлением нового аграрного порядка эпоха российской истории, связанная с развитием товарно-денежных отношений, фактически завершалась. «Великий перелом» положил начало процессу формирования «нового человека», утратившего способность жить частным образом и саму потребность в этом. Человеческое «Я» все более последовательно отрицалось и растворялось во всеобъемлющем «Мы».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































