Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 3"
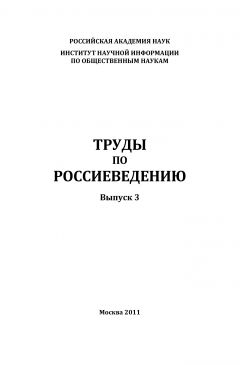
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Человек изначально несвободен. Но его отличие от животного заключается в том, что он постоянно стремится расширить границы своей свободы внутри существующих общественных отношений. Это дает, по меньшей мере, иллюзию свободы. Когда-то марксисты взяли на вооружение формулу: «Свобода есть осознанная необходимость». Увы, она подходит только для гражданского общества. За его пределами она непременно выродится в нечто противоположное – примерно в то, что описал Чехов в «Палате № 6». Большевики почти материализовали художественный вымысел: всякий человек, стремящийся к свободе, едва ли не автоматически воспринимался как сумасшедший. Это было не чем иным, как легитимизацией свободы принуждения со стороны государства. Удивительно, но сегодняшние «демократически избираемые» правители считают это нормой. Электорат, со своей стороны, готов им поддакивать в той мере, в какой несвобода политическая сочетается со свободой потребления.
Вопрос о том, какой свободы мы хотим и чем готовы заплатить за свое желание, остается открытым. В современной России от свободы в ее естественном либеральном понимании отвернулись почти все, что без труда можно подтвердить данными социологических опросов и результатами избирательных кампаний. Однако люди вновь требуют свободы от надоевшего «порядка» и лживых физиономий – в условиях информационной революции они слишком быстро устают от идолов и фетишей. Положение усугубляется привычной российской потребностью в социальных гарантиях. «Классическая» демократия их не предоставляет, а «демократия деспотов» способна только имитировать (например, сказками о «суверенной» демократии). Но если нынешний псевдолиберальный порядок в России не обеспечивает ни социальной защищенности, ни ощущения справедливости, его можно считать обреченным.
Мне многократно приходилось писать о кризисной цикличности русской истории. Ее можно трактовать в известной, описанной Достоевским, парадигме – «от абсолютной свободы к абсолютному принуждению». 400 лет назад в процессе преодоления последствий грандиозной Смуты, где-то к середине XVII в., россияне признали единственным гарантом общественного порядка царя. Соборное уложение 1649 г. – это памятник тотальной несвободы человека. С другой стороны, его можно рассматривать как форму сакральной защиты личности от посягательств «врагов» – даже тело человека представлялось неприкосновенной собственностью Великого государя. «Порядок несвободы» закреплялся церковью. Сына избранного монарха поставили на один уровень с Господом, объявив своего рода «земным богом». Человека заставили верить во всемогущество власти, отказав ему в свободе совести. Какими крепостническими последствиями, а затем и Расколом это обернулось, хорошо известно.
Почти 100 лет назад Россия пережила «красную смуту». Ее последствия переросли рамки даже худших форм исторического крепостничества. Для «самого свободного в мире» homo rossicus'а была создана, причем при его непосредственном участии, своего рода псевдодинастическая идеократия, внушающая человеку, что «царев бич» – главное орудие свободы. В этих условиях ощущение собственной несвободы люди пытались компенсировать злорадной иллюзией обуздания своеволия других. Именно в силу «шкурнического» психологического закона этот «монолитный» режим никто не свергал. Однако, как и 100 лет назад, система, выстроенная на бюрократических основаниях, развалилась сама, ибо противоречила природе человеческого творческого естества. Ирония судьбы, однако, в том, что сегодня многие убеждены: имел место некий заговор – слабые умы не могут жить без конспирологии. Такие представления – симптом врожденной несвободы и несамостоятельности российского «политического класса». Но это не только наша проблема. Как отмечал Ф. фон Хайек, «распространенная иллюзия, что свобода может быть предоставлена сверху, представляет действительную проблему. Необходимо понимание, что должны быть созданы условия, которые позволяли бы людям творить собственную судьбу» (11). В России снизу это невозможно sui generis. Сверху движение в таком направлении также всякий раз блокировалось. В подобных обстоятельствах приходится мечтать скорее о воле, нежели о свободе.
Ситуация парадоксальна. При взгляде со стороны можно подумать, что демократия в России победила. Либеральные реформы в экономике вроде бы удались. Политический режим – по крайней мере внешне – заметно изменился. Существует Конституция, гарантирующая свободы и права человека. Легализована частная собственность. На деле же все это существует с характерными, типично российскими «оговорками». Демократия в России «суверенна» от любых попыток трактовать ее иначе, чем это делает государство. Экономический либерализм превратился в «свободу предпринимательства» коррумпированных госчиновников и/или госолигархов. Конституция никем не воспринимается всерьез, зафиксированные в ней права человека нарушаются на каждом шагу. Но это не частный случай извращения идеи демократии и идеалов свободы – налицо очередной сюрреалистический пик российского исторического бытия.
Ситуация тем более парадоксальна, что, согласно социологическим опросам, никакого отказа и отката россиян от либеральных ценностей за истекшее десятилетие не произошло: подавляющее большинство из них по-прежнему выше всего ставит индивидуальные свободы и интересы личности, отводя государству роль гаранта их соблюдения. Но сходные данные можно было получить и во времена Брежнева. Очевидно, дело не в «демократических» или «авторитаристских» приоритетах россиян, а в отсутствии у них навыков к самоорганизации и взаимодействию. Они попросту не знают, что делать с нежданно свалившейся на них свободой – тащить тяжело, но и выбросить жалко.
Провал демократизации России – дело не новое. На протяжении только ХХ столетия это произошло дважды: в течение нескольких месяцев 1917 г., после чего к власти пришли большевики, и в 2000-е годы, когда политическое пространство стала неуклонно заслонять фигура Путина. В чем причины столь странных, на первый взгляд, переворотов в истории громадной страны? Почему свобода всякий раз проигрывает? Без ответа на этот вопрос вряд ли можно всерьез говорить о перспективах демократии в России.
Думается, не стоит сводить проблему к просчетам вождей российской демократии, в чем нас часто уверяют так называемые политологи. В 1917 г. либеральные и правосоциалистические политики были поражены удивительным политическим недугом – властебоязнью. В 1990-е годы демократы, в свою очередь, думали главным образом о возможности реализовать свои проекты под крылом Ельцина или хотя бы засесть в парламенте. Как бы то ни было, российский «политический класс» не смог распорядиться доставшейся свободой, ибо заранее готов был разменять ее на парламентские кресла. Но не стоит, однако, кивать и на хронические болячки российских элит, поглощенных бесконечными словопрениями. Действительные причины того, почему традиционная Россия поглотила демократию, лежат глубже.
Лично я не вижу особых секретов – следует лишь вглядеться в череду взаимозависимостей, уходящих в далекое российское прошлое. Но прежде всего необходимо уточнить: что понимается под демократией в России, если отказаться от наивных попыток буквального перевода термина? Представляется, что ответ может быть только один: освобождение человека от удушающих объятий государственности. И это притом, что в России все делалось и делается через власть; демократию также пытались и пытаются внедрить сверху.
Между свободой и необходимостью
Историческая российская власть, каким бы освободительным иллюзиям ни предавались ее верховные носители, всегда была по-настоящему озабочена только одним – самосохранением. События 2000-х годов в очередной раз это подтвердили. Поэтому перечисленные ниже культурно-исторические факторы российского сдерживания свобод граждан латентно действуют и поныне.
Территориально-хозяйственный. Демократию можно рассматривать как технологию: возникнув в одной сфере человеческой жизнедеятельности, она требуют соответствующей технологизации других ее областей. Технологии обычно рождаются в ограниченном (безальтернативном) пространстве из природной недостаточности, нужды, нехватки, необходимости. Но российское пространство, в отличие от Европы и Азии, заведомо нетехнологично в силу его «безграничности»; во всяком случае, оно порождает экстенсивные, а не интенсивные технологии хозяйствования. Способ технологизации человеческого общежития, в свою очередь, связан с типом аграрного хозяйствования. Не случайно родиной современной демократии стала Британия, бывшая в свое время житницей Римской империи: в данном случае аграрно-управленческий технологизм был направлен на интенсивное производство и эффективное изъятие прибавочного продукта. Нынешние высокотехнологичные «азиатские тигры» – порождение качественно иного, «азиатского способа производства», связанного с интенсивными «рисопроизводящими» технологиями, невозможными без жесткого управленческого диктата. Отсюда феномен «восточной деспотии».
В России, напротив, так называемое мигрирующее земледелие изначально являлось преградой для развития технологий управления, зато стимулировало укоренение примитивных форм аграрного самоуправления. Изолированные сельские общины основывались на производственно-потребительском балансе. Строго говоря, они не нуждались ни в развитых рыночных отношениях, ни в городских формах технологизации вообще. В известном смысле на российских просторах длительное время отсутствовала потребность в государстве как таковом. Если некая нужда и возникала, то, скорее, имелось в виду государство как величина метафизическая, существующая рядом с Богом, а не с человеком. Российская власть была оторвана от производства и технологий – за исключением «технологии» изъятия практически отсутствующего прибавочного продукта. В итоге законсервировался вотчинно-общинный тип хозяйствования и управления (советская система была его гипертрофированным продолжением), над которым возвысилась сакрализованная государственность.
Так или иначе, российские пространства потребовалось упорядочить. Что же из этого получалось? Если попытаться отбросить известного рода идейные табу, то можно сказать, что и призвание варягов, и монгольское иго, и последующие наплывы иностранщины во власть составили феномен так называемого внутреннего колониализма – бесконечных попыток унификации чрезвычайно подвижного, разреженного, пластичного и даже «непредсказуемого» географического и социально-ресурсного пространства силами государства в его собственных интересах. Последние, разумеется, выдавались за всеобщую потребность и «общественное благо». Правами человека и ростками демократии здесь и не пахло. То же самое происходило в азиатских деспотиях с той лишь принципиальной разницей, что в них государство зависело от интенсивности производства, а не только от собственной фискальной эффективности. Неудивительно, что со временем даже права человека в России стали понимать в контексте своего рода просвещенного государственного крепостничества. Вопреки этому, говоря словами героя романа Б. Пильняка «Голый год», русский народ только и делал, что «бегал от государственности, как от чумы», на Дон и Яик, ибо та несла в себе «татарщину татарскую, а потом немецкую татарщину» (7). Европейское понятие свободы и порядка в российских пространствах казалось чужеземным игом. Здесь не могло естественным путем сложиться «разумного» баланса между свободой и необходимостью.
Государственный. В основе мифа о происхождении российской государственности, как известно, лежит легенда о «призвании варягов» – проблема управления решалась как «согласие» на привнесение в бесконечное пространство мощного силового начала извне. Разумеется, варягов не призывали – просто подчинились незваным захватчикам, что, в общем, в истории случалось постоянно. Эту легенду можно трактовать и как согласие народа на внешнее управление – феномен исторически также ничуть не уникальный. Другое дело – почему он законсервировался. Между прочим, варяги так и не смогли решить проблему регулярного сбора налогов – пространство оказалось слишком велико для их малочисленных отрядов. Зато эту задачу помогли решить сменившие их кочевники-монголы, словно специально предназначенные историей для покорения географических пространств. Но они несли с собой порядок, полностью исключающий понятие свободы. Характерно, что они решили не только фискальную задачу, но и проблему общегосударственных коммуникаций.
Ордынское (силовое) начало пронизывает всю российскую историю (хотя многие западники уверяют, что традиции конституционализма были не менее сильны). Не случайно московская власть, перехватив эстафету у монголов, успешно осуществила так называемое собирание (на деле это была этатизация территорий) так называемых русских (в действительности это были этнически не самоопределившиеся популяции) земель, пришедшее на смену былой «раздробленности» (в реальности имевшей мало общего с феодальными уделами). Возникшую систему Г. Федотов именовал «православным ханством» (10, с. 283). Однако со временем «кочевническая» форма господства вызвала отчуждение от нее массы автохтонного аграрного населения. Внешнее (кризисное) управление не может быть постоянной величиной – ему противится само человеческое естество, несмотря на иллюзии патернализма. Этот феномен дает знать о себе и поныне: государство умеет властвовать над холопами, но не умеет управлять свободными людьми. Оторванность государства от непосредственного производства, а производства – от прогрессивных технологий со временем обернулась всевозможными формами крепостничества: стремлением власти связать работника с контролируемым и насаждаемым ею производством.
Стоит обратить внимание и на то, что управленческие верхи Российской империи длительное время оказывались иноэтничными (частично это прослеживается и сегодня, что открывает простор шовинистической демагогии). Варягов и монголов сменили британцы, немцы, французы, евреи – более технологичные и законопослушные «чужие» этносы. Но, с другой стороны, российские подданные искренне гордились военными успехами «своей-чужой» государственности. Именно эти сомнительные достижения не только порождали иллюзию защищенности, но и возводили ее на некую онтологическую высоту. Однако метафизика российского патернализма вызывала и другое – способность к перемещению народного недовольства с врага внешнего на «врага внутреннего», включая государство с его «чужим» наполнением.
Разумеется, проблема сдерживания свободы граждан государством не является чисто российской. «Государство допускает, чтобы граждане играли в свободу, но серьезно помышлять о свободе не стоит: нельзя забывать о государстве», – писал М. Штирнер (12). Современный западный человек чувствует себя в обществе, как палец в перчатке: ему комфортно, он может даже независимо двигаться – создается иллюзия свободы (которая на деле существует внутри навязанной несвободы). При этом он оказывается лишенным непосредственности мироощущения, что парализует его креативный потенциал. Он не может снять «перчатку», а потому вынужден приноровиться к ней, убеждая себя, что это и есть норма человеческого существования. Именно по этой причине ему становятся ненавистны все иные («недемократические») формы исторического существования. В его сознании они превращаются не просто в продукт «другой» истории, а в угрожающие всему роду человеческому злые выдумки. Аналогичным образом россиянин реагирует на «русофобское» окружение. Стоит нашему соотечественнику напомнить о «врагах», как он тут же начнет мысленно отыскивать «свое» государство. Всякое покушение на собственные иллюзии человек парадоксальным образом воспринимает как угрозу порабощения.
Геополитический. Как ни странно, в России геополитический фактор также непосредственно влиял на систему взаимоотношений государства и его подданных. Причем дело не ограничивалась страхами внешней угрозы со стороны «чужих». Для государства геополитика – это проблема превращения «необъятных» пространств в управляемое (причем закрытое) пространство власти. Российский «колониализм» – это вовсе не агрессивная экспансия и не культуртрегерский мессионизм. Для русского государства это проблема овладения контролируемым (безопасным извне и изнутри) пространством. Не случайно Иван Грозный был поначалу против колонизации Сибири; она была ему навязана не вполне контролируемым казачеством. Алексей Михайлович отнюдь не стремился к войне с Польшей ради Украины. По этой же причине была продана Аляска Америке, Россия отказалась и от Гавайев. Все это продиктовано стремлением сузить пространство территориальной свободы, столь мешающей управлению, что, однако, не помешало российской власти в конце XIX в. начать копировать худшие образцы тогдашней мировой империалистической политики. Это произошло в крайне невыгодной ситуации: резкий рост народонаселения внутри страны, с одной стороны, крайняя международная нестабильность – с другой. Совершенно не случайно внешний фактор (русско-японская и мировая войны) вызвал грандиозные выплески внутренних противоречий империи. Со стороны это могло показаться подвижками в сторону демократии. На деле всякое разочарование в государственности в экстремальных обстоятельствах активировало в России стадный (квазиобщинный), а не гражданский тип социального поведения; оборачивалось деструкцией и хаосом, а не консолидацией общественного целого. А потому российские правители, как бы они ни назывались, в очередной раз смогли использовать охлократию и страхи перед внешней угрозой для укрепления вертикали власти.
В связи с этим не следует связывать возможности и перспективы российской свободы с федерализмом. Советский федерализм родился из вынужденных уступок этнической нестабильности, вызванной развалом империи. Нынешний федерализм – своего рода постимперская форма поддержания стабильности в интересах государства, вполне сравнимая со «свободами» квазифеодального существования. Он создает иллюзию племенной (противоположной индивидуальной) свободы, да и то лишь до тех пор, пока власть не утратит своего сакрального ореола.
Поскольку всякий социальный катаклизм влечет за собой архаизацию общественного сознания, «гарантом порядка» всегда выступает наиболее близкий и сильный, но непременно «свой» вождь (от «отца народа» до авторитета иного рода). При этом любые его авторитарные действия будут терпеть – в них даже увидят «конструктивную» альтернативу недавней вакханалии свободы. Человек страшится хаоса, хотя постоянно порождает его своим своеволием. Хаос российских пространств могла усмирить только империя; ее призрак постоянно присутствует в подсознании россиянина как невидимая преграда демократии.
При этом россиянин убежден, что империя – едва ли не крайний антипод демократии. До такой нелепости мог додуматься только запуганный и несвободный человек. На деле империя, как порядок управления сложноорганизованной системой, способна расширить пространство свободы. Во времена Полибия принято было считать, что только имперское устройство государства способно спасти монархию от вырождения в тиранию, аристократию – в олигархию, демократию – в охлократию. Нечто подобное наблюдалось в Британской империи. Увы, эпоха всесилия бюрократии требует – по крайней мере в России – расставания с подобными иллюзиями. Империя – всего лишь внешняя форма, в которую облекает себя культурная экспансия. Она выстраивает своего рода цивилизационные «этажи» демократии и свободы: один уровень – для аристократии, другой – для плебеев; один – для метрополии, другой – для колонии или периферии. В процессе эволюции империи культурные «верхи» «освобождают» «низы», подтягивая их до своего уровня овладения имперскими дарами «свободы». Напротив, в свое время большевики под завесой «освободительных» лозунгов сначала разрушали, а потом воссоздавали подобие имперской иерархии – именно это и породило геополитический симулякр в виде СССР. И надо быть по-советски наивным человеком, чтобы удивляться произошедшему и мечтать о воссоздании разбитого вдребезги.
В любом случае следует иметь в виду, что истощение витальности имперского ядра порождает «эллинизацию» бывшего территориального целого на охлократически-вождистской основе. Вместе с тем постимперские страхи при всей их кажущейся социэтальной деструктивности открывают для власти дополнительный канал манипулирования массовым сознанием, «задержавшемся» в имперском прошлом. Характерный тому пример ноябрьская (2011) угроза президента Медведева выйти из стратегических договоренностей с Америкой; одних это изумило, других – подбодрило. Остается только гадать, до какой степени этот предвыборный «геополитический» трюк сказался на российском электорате.
Институционный. Государственность – это не просто порядок, дарованный сверху на вечные времена, а система институтов, так или иначе связанных с самоорганизационными потенциями и интенциями основной массы населения. Самоуправленческие возможности русского крестьянина sui generis не простирались далее сферы общинного хозяйствования. Но со временем община, с одной стороны, была превращена в «государственно-общественный» институт сбора налогов, с другой – выродилась в архаичное сообщество, противостоящее, пусть пассивно, бюрократической государственности (вплоть до сталинской коллективизации). При этом нельзя забывать, что урбанизация в России происходила в условиях отсутствия опыта городской самоорганизации. Правители использовали западные образцы самоуправления для того, чтобы превратить их в приводные ремни управления населением и/или контроля над его поведением. Более того, российская власть в процессе совершенствования процедур самообслуживания перекраивала социальное пространство, превращая его в систему управляемых закрепощенных псевдосословий. Эти этатизированные социумы делились на служилые (армия и бюрократия) и тягловые (крестьянские). Последние несли основную массу налоговых повинностей.
Государство стремилось к тотальному контролю над сословиями, неуклонно их форматируя. Даже «феодалы» кормились главным образом от короны. Отсюда же столь упорная борьба с беглыми крепостными. Городское самоуправление, введенное Петром I, нельзя назвать самоуправленческим в полном смысле слова – оно было подотчетно государству в лице губернаторов, генерал-губернаторов и наместников. С того времени Российская империя встала на путь декоративной вестернизации. Последняя – еще один источник «демократического» самообмана, которым поражена историческая память россиян. Символично, что демократы начала 1990-х годов избрали своим символом фигуру «медного всадника» – конную скульптуру первого российского императора, на двусмысленную знаковость которого указал еще Пушкин.
Российский «административный федерализм» многолик и асимметричен – он напоминает старую приказную систему. А она, в свою очередь, вынуждена была учитывать и территориально-управленческий, и международный, и ресурсный, и военный, и конфессиональный, и этнофискальный факторы существования государственности на бесконечных и разноплеменных российских пространствах. Интересы населения рассматривались как часть этой государственной задачи.
На Западе развитие государства шло по схеме сила-власть-порядок, в которую был естественно вписан фактор интенсивно-инновационного саморазвития. Предпочтение отдавалось эволюционному типу сосуществования государства и граждан (что, разумеется, не стало панацеей от революций и Реформации). В России фактор саморазвития (как и самоуправления) до сих пор существует в зачаточной форме. Отсюда, как говорил М. Волошин, «взрывы революции в царях» (2). Напротив, западный эволюционизм базируется на принципе поэтапного вовлечения граждан в «свободный» производственно-инновационный процесс: высшие сословия помогают освобождению низших. У нас это оказывается невозможным; бюрократия, со своей стороны, всякий раз добивается укрепления «вертикали власти», к которой «прикрепляются» различного рода суррогаты самоуправления и свободы – от федерации до прав человека.
Примечательно, что наследники престола иной раз опасливо взирали на перспективу обладания самодержавной властью. Зато в моменты шаткости государственности сверху особенно часто звучали заклинания типа «все для человека, все для его блага». Такова генетическая особенность «бюрократически-патерналистской» демагогии, призванной ублажить холуя. Российский Левиафан готов воспользоваться любой идеологической «вывеской» ради самосохранения.
Большевики упростили социальную стратификацию под «классовыми» знаменами. Фактически государство оставило только тягловые сословия в виде «рабочего класса» (объявленного «гегемоном» общественного развития) и «колхозного крестьянства» (фактически прикрепленного к земле). Труднее было с интеллигенцией, но и ее в конце концов статусно уравняли со служащими, – и они «служили» единственному суверену в лице государства. Чем это закончилось, известно. Однако признаться в том, что попытки обуздать тех, кто в силу профессиональных обязанностей нуждается в свободе самовыражения, самоубийственны, тупая бюрократическая машина никак не может.
Культурно-антропологический. Особенности российской политической культуры чаще связывают с византийским православием. Сомнительно, чтобы это воздействие было особенно сильным – российская власть нуждалась в государственной вере и послушной церкви. Г. Федотов, идеализируя потенции свободы в Киевской Руси, игнорирует укорененность традиций язычества в массе населения (10, с. 247–249). Восточнохристианское религиозное начало повлияло главным образом на культурные верхи, особенно на летописцев, стремившихся к библейской (моральной) интерпретации исторических событий. Именно они сочинили легенды о призвании варягов, а затем и о крещении Руси, якобы ставшей тотально «святой». В действительности основная масса населения вплоть до ХХ в. пребывала в состоянии «двоеверия» (православие и язычество) или, что точнее, обрядоверия, довольствовавшегося ритуальной частью христианства. В деревне господствовал примитивный тип мировосприятия, в котором реальное, воображаемое, символичное слились в неразрывное целое. Этот тип ментальности напоминает о себе до сих пор.
Средневековая Россия не знала ни римского права, ни борьбы императоров и пап, ни независимого университетского знания, ни Возрождения – фактически она не пережила Средневековья, так и не обретя в результате европейского гена саморазвития. Это тоже препятствовало формированию общества в европейском смысле слова. Значительного слоя самостоятельных граждан (дословно по-русски – горожан) также сложиться не могло. Гражданами официально считались подданные государства, втиснутые им в служилые сословия. Именно поэтому интеллигенции – людям относительно независимым от государственной службы – и пришлось сыграть столь значительную роль в «непредумышленном» противостоянии государственности. Этот процесс продолжается до сих пор – не стоит обольщаться относительно вроде бы автономных научных и общественных организаций, партий. Вместе с тем следует иметь в виду, что интеллигенция, как и народ, не любит слабую власть и презирает недееспособных правителей. Современная российская интеллигенции – это вовсе не известный на Западе креативный класс (creative class), как сегодня многим нравится думать. К сожалению, российская интеллигенция в большей или меньшей степени соответствует худшим сторонам менталитета современного информационного общества, воспроизводящего с помощью «передовых» технологий слабости и пороки синкретического сознания.
На человеческом уровне история столь же «прогрессивна», сколь и «регрессивна». Привычка замечать только ту историю, импульсы которой задаются либо «сверху» (вождями и правителями), либо «снизу» (заговорщиками и революционерами), – признак недостатка в обществе демократических потенций или веры в собственные силы. По-настоящему свободный человек не склонен считать правителей демиургами собственного бытия; рожденный среди свободных людей писатель находит главных персонажей истории не среди «спасителей» или «злодеев», а среди простых людей, составляющих народ. К россиянину с его предельно этатизированным сознанием это не относится.
Стало общим местом говорить, что верхи и низы Российской империи существовали в разных культурных измерениях. При этом низы представляли именно тот тип политической культуры, который вызывал столь горестные реакции Пушкина. Вскоре после большевистского переворота З. Гиппиус недоумевала: «Какому дьяволу, какому псу в угоду / Каким кошмарным обуянный сном, / Народ, безмолвствуя, убил свою свободу, / И даже не убил – засек кнутом!» (см.: 5). Удивляться не стоило: регламентированная «буржуазная» свобода народу была не нужна. Как результат, европеизированные верхи были «срезаны», «демократизация» культурного пространства развернулась по линии подавления низами «высокой культуры». Правда, не следует недооценивать эвристического потенциала низов: не подлежит сомнению, что русский человек в лице немалых своих представителей «избыточно талантлив», ибо не подвергался унифицирующему диктату городской культуры. Как бы то ни было, кризис конца ХХ в. вызвал очередное «проседание» российского культурного пространства. Сомнительно, что в условиях современной информационной революции удастся восстановить культурно-эвристический потенциал России. То же самое можно сказать о перспективах отечественной свободы.
Мне порой кажется, что «генотип» русской не/свободы заложен в легенде о «призвании» варягов. Норманнские завоевания – дело для былых времен обычное, однако никто добровольно не призывает разбойников и тем более не возводит на этой основе культа «1500-летней» государственности. «Долгое рабство – не случайный факт, оно, конечно, отвечает какой-то особенности национального характера, – писал в свое время А.И. Герцен. – Эта особенность может быть поглощена, побеждена другими, но может победить и она» (4). Так не напоминает ли русская история сплошную цепь поклонений покладистых холуев всевозможным «разбойникам», сменяющим друг друга на троне?
Ментальный. Хотя собственно ментальную составляющую российского культурного пространства практически невозможно отделить от эмоциональной сферы, формально она так или иначе должна обнаружить себя в государственно-правовых представлениях и практиках. При этом надо учитывать, что эти практики имеют мало общего с политикой в европейском смысле слова. Дело в том, что вера в государство превратилась в России в своего рода имперскую религию, определяющую весь спектр бытийственных представлений. Россиянин не верил в индивидуальное творческое начало, ему претили навязанные сверху коллективистские усилия. Русский крестьянин «бегал» от плохого помещика, но готов был пойти на поклон к государству, особенно возглавляемому «сильным» лидером. Но такого рода вера не только не исключала, но и предполагала склонность к ситуационному бунтарству под влиянием сиюминутных эмоций, вызванных «слабостью» патерналистской власти (сегодня такая ситуация ощущается довольно остро).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































