Текст книги "История России в современной зарубежной науке, часть 3"
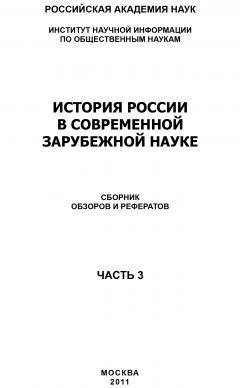
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Бандиты и партизаны: Антоновское восстание в период Гражданской войны в России
(Реферат)
Лэндис Э.
Landis E.C
Bandits and partisans: The Antonov movement in the Russian civil war. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2008. – XVIII, 381 p
В книге Э. Лэндиса, состоящей из девяти глав, освещается история выступления крестьянства Тамбовской губернии против советской власти в 1920–1921 гг., известного в историографии как «антоновщина», которое автор считает одним из самых значительных и символических событий Гражданской войны в России, не оставившим, однако, почти никаких следов в памяти народа. Особо подчеркивается в книге та роль, которую сыграло восстание Антонова в определении дальнейшей политики большевиков в отношении крестьянства, что, прежде всего, проявилось в отмене продразверстки и введении нэпа. В монографии, основанной на источниках из центральных и местных архивов, исследуется роль всех участников конфликта с особым вниманием к следующим вопросам: источники и сущность враждебного отношения крестьян к политике большевиков; организационная структура антибольшевистской партизанской армии и ее попытки сформировать движение; реакция партийцев и чиновников разных уровней на «бандитскую» угрозу.
Лэндис подробно рассматривает предысторию восстания, которое ни в коем случае не было спонтанным. Он показывает, как Гражданская война и политика военного коммунизма повлияли на изменение отношения крестьянства к власти большевиков, на ментальность, уровень жизни широких крестьянских масс в Тамбовской губернии. Крайне жесткие требования по мобилизации в Красную армию и выполнению «норм» продразверстки все более отчуждали крестьян от партии большевиков, которая только на словах защищала их интересы, но никогда не понимала их. Прослеживая историю организации институтов новой власти в Тамбовской губернии, автор характеризует комбеды как искусственную силу, которую большевики создали для того, чтобы перенести акцент «классовой войны» в деревне, разворачивавшейся сначала между крестьянами и бывшими помещиками, в гущу крестьянства (с. 10–11). Однако комбеды не имели никакой реальной опоры в деревне. Недовольство крестьян политикой военного коммунизма накапливалось не только по мере усиления давления на них местных властей, но и по мере того, как росло ощущение, что к 1920 г. за продотрядами и комбедами уже не было серьезной военной силы.
В книге отмечается, что тамбовские крестьяне с готовностью пользовались первым же случаем, чтобы сбросить власть большевиков, и показано, какую роль играли в этом демобилизованные красноармейцы и дезертиры, число которых в регионе, где власть в 1918–1919 гг. переходила из рук в руки, постоянно росло. Анализируя динамику развития событий, социальный состав участников, причины, побудившие их принять участие в вооруженном сопротивлении политике большевиков, автор стремится отделить «слухи от фактов» и в значительной мере по-новому интерпретирует политические, военные и социальные аспекты повстанческого движения и специфику его подавления.
В отдельной главе прослеживаются «этапы пути» Антонова от участника эсеровских «экспроприаций» 1905–1907 гг., политкаторжанина, освобожденного Временным правительством, сотрудника, а затем и главы местного (Кирсановского) отделения милиции в течение лета 1917 г. до одного из руководителей восстания (с. 43–57). Хотя, как отмечается в книге, Антонов всегда бравировал своим эсеровским революционным опытом, однако, по мнению автора, «очевидная» для советских историков связь Антонова и других лидеров повстанцев с эсерами не означает, что эта партия была причастна к организации восстания и играла в нем какую-то значимую роль. Связь руководителей восстания с эсерами не свидетельствует о каких-либо серьезных идеологических пристрастиях руководителей восставших. Автор считает, что они руководствовались чисто прагматическими соображениями – тем, что и до революции 1917 г. эсеры были фактически единственной партией, лозунги и программа которой были наиболее понятны крестьянам и поддерживались ими. Несомненно для Лэндиса и то, что в самой крестьянской среде были в ходу эсеровские лозунги, однако в массе своей крестьянство было лишено всяких партийных пристрастий и руководствовалось только соображениями «практической целесообразности». Для крестьян гораздо более прочными, чем связи с эсерами, являлись родственные связи и товарищеские отношения с сослуживцами по царской или Красной армии. Именно они, а не какие-либо идеологические предпочтения позволили повстанцам расширить свое влияние в регионе, сплотить силы и выступить против большевиков достаточно мощно и на первых порах эффективно.
Сам же Антонов был «идеологически беспринципен», и только неудовлетворенные амбиции, недостаточно быстрый карьерный рост в силовых структурах новой власти, а также ощущение скорого краха большевизма побудили его к радикальному повороту в своей судьбе (с. 50). Автор убежден, что слишком много фактов неумелости, авантюрности «политической линии» малочисленной местной большевистской администрации, и очевидное отторжение крестьянами проводимой новой властью политики разграбления деревни поддерживали уверенность не только братьев Антоновых, но и других руководителей восставших в целесообразности выступления против большевиков.
В книге анализируются сведения об армии партизан, данные по составу участников, их активности, вовлеченности разных слоев деревни в конфликт с новой администрацией, вылившийся в вооруженное противостояние. Рассматривая тактику и действия восставших, в частности то, насколько она соответствует представлениям о «партизанской» борьбе или «бандитизме», автор проводит сравнение с выступлениями крестьянства против большевиков в других частях страны, в том числе с махновщиной, где «элемент бандитизма» был выражен более явственно. Лэндис отмечает также, что в отличие от восстания белочехов, не имевшего реальной связи с интересами русского народа, антоновщина выражала эти интересы непосредственно и отражала самую суть недовольства крестьян.
Фактически спонтанно выступив со своей милицейской дружиной 24 августа 1920 г. против продотряда, Антонов убедился в беспомощности власти большевиков на юго-востоке области. Очень скоро повстанцы установили полный контроль фактически над третью Тамбовской губернии. Опираясь на сформированные там ячейки Советов трудового крестьянства (СТК), восставшие сумели сформировать вооруженные отряды и наладить их снабжение продовольствием. В отличие от комбедов СТК оказались более способными, по крайней мере на первых порах, наладить взаимопонимание с крестьянами и организовать снабжение повстанцев продовольствием.
Успеху восстания, считает автор, способствовала и агитационная кампания, развернутая Антоновым. По всей Тамбовщине читались прокламации, в которых утверждалось, что восставшие борются во имя «свободы» за интересы не только крестьянства, но и рабочих, и всех «трудящихся масс». В обращениях Антонова к крестьянству основной целью восстания провозглашалось свержение большевиков и установление «подлинно народной власти». Автор убежден, что Антонов строил далеко идущие планы, рассчитывая на поддержку соседних Саратовской, Воронежской и Пензенской губерний, откуда приходили ободряющие заявления. Были попытки наладить контакты с Махно. Однако, считает Лэндис, успех мятежников зависел в большой мере от слабости и замешательства партийного и советского аппарата, где господствовали некомпетентность, склоки партийных функционеров, многочисленные внутрипартийные конфликты и разногласия практически по любым вопросам, недоверие местных должностных лиц к «посторонним», присланным Москвой. Осложняла ситуацию нехватка кадров и вооружения (с. 102, 162).
Тамбовская власть пыталась внушать центральному руководству, что положение под контролем, успехи восставших временны и даже что «бандиты разгромлены». Изображая восставших как заурядных «бандитов» – скопление убийц и воров, используемых эсерами, местная власть уделяла «разоблачению происков» эсеров, кулаков и прочих «враждебных» элементов больше внимания, нежели фактическим военным действиям. В то же время руководители восстания, используя популярные среди крестьянства эсеровские программные установки и лозунги, старались создать впечатление серьезного политического движения, способного к свержению большевиков.
Однако вплоть до появления во главе местного ЧК Антонова-Овсеенко с его установкой на «суровую и беспощадную» расправу с инакомыслием и контрреволюцией местные партийные и советские руководители находились в условиях фактического террора по отношению к ним со стороны восставших. Лэндис описывает отчаянное положение красноармейцев маленьких гарнизонов, продотрядов, оказавшихся блокированными в уездных городах, их беспомощные попытки организовать сопротивление или развить какие-либо активные действия против восставших. Но как только центральная власть по-настоящему осознала угрозу и послала на подавление «бандитского мятежа» целую армию во главе с Тухачевским, судьба восстания была решена. В начале июня 1921 г. повстанцы были рассеяны, а 24 июня 1922 г. были убиты и долго скрывавшиеся братья Антоновы.
Достаточно быстрое подавление восстания, полагает автор, было вызвано многими факторами. Одним из них он считает прагматический характер крестьянского сопротивления, а также тот факт, что ни примкнувшие к восставшим дезертиры, ни помогавшие им местные крестьяне не были настроены принципиально антисоветски и проявляли к «бандитским» группировкам лишь обусловленные обстоятельствами симпатии (с. 41). Когда центральное правительство, наконец, применило военную силу, крестьяне, вполне практично рассудив, что к чему, оставляли ряды мятежников.
Однако это не исключает, по мнению автора, того, что непосредственно военное решение проблемы в огромной степени способствовало прекращению мятежа. Хотя тактика взятия заложников и их расстрелы были распространенным явлением и до восстания (с. 234), «умиротворение» тамбовского крестьянства Тухачевским стало беспримерной по масштабам акцией «устрашения» для всего российского крестьянства. Применение военной силы было столь мощным, что речь, по мнению автора, может идти фактически о полномасштабной войне с собственным народом, а распоряжения Тухачевского и Антонова-Овсеенко он считает беспримерными по своей жестокости (с. 233, 242).
Как подчеркивает Лэндис, насилие имело место не только со стороны большевиков, и реквизиции продовольствия повстанцами были, в сущности, для местного населения столь же обременительны, как и продразверстка, и далеко не всегда «помощь» крестьян была добровольной (с. 93). Однако для него очевидно, что с одобрения центра Тухачевский использовал все имеющиеся виды вооружения не просто для демонстрации силы и решал не только тактические вопросы быстрейшего подавления очагов восстания, но и рассматривал «акцию возмездия» с точки зрения «стратегической перспективы». Для него тамбовская операция была своеобразным полигоном для отработки тактических мероприятий и методов ведения боевых действий. Применение Тухачевским ядовитых газов, полагает Лэндис, носило также скорее «экспериментальный характер» и не имело военной целесообразности (с. 265).
Безусловно, масштабы восстания, считает Лэндис, стали одной из важнейших причин, заставивших центральное руководство радикально изменить свое отношение к крестьянской политике. Это выразилось и в признании «перегибов на местах» при проведении продразверстки, а затем и решении перейти к нэпу. Последнее обстоятельство и стало самым эффективным средством в «борьбе с контрреволюцией» (с. 285).
Анализируя политику «советизации деревни» с помощью ревкомов, Лэндис отмечает, что после «мероприятий» Тухачевского, которые включали в себя взятие заложников, массовые расстрелы, заключение тысяч мужчин, женщин и детей в концентрационные лагеря, пресечение даже элементарного недовольства, нет ничего удивительного в том, что крестьяне предпочли возвращение к «нормальному состоянию». В этом, считает автор, в очередной раз проявилась способность крестьян приспосабливаться к обстоятельствам, легко менять политические пристрастия сообразно «текущему моменту».
Страшные уроки восстания были усвоены не только крестьянами. Утвердившиеся во времена военного коммунизма для всех партийных функционеров любого уровня методы обращения с населением стали «нормой партийной жизни» после прихода Сталина к власти (с. 263). «Сталинская школа воспитания трудящихся» утверждала свои «принципы» именно во время расправы над крестьянством.
В.С. Коновалов
Административные практики в Советской России: Современная французская историография
(Реферативный обзор)
Т.К. Сазонова
В современной франкоязычной литературе, посвященной истории русской революции и СССР, большое внимание уделяется вопросу об административных практиках. При этом предметом анализа становятся методы их изучения, преемственность в административных практиках Российской империи и СССР, перемены, привнесенные в эту область в 1930-е годы в сравнении с предшествующим десятилетием, материальное измерение административных практик, история отдельных учреждений и персоналий.
Специфике функционирования административных учреждений в коммунистических обществах посвящен отдельный номер журнала «Sociétés Contemporaines», который называется «Бюрократические игры при коммунистическом режиме» (5). Во введении к номеру социологи Страсбургского университета В. Дюбуа, В. Лозак и Дж. Роуэлл подробно анализируют термины «бюрократизм» и «бюрократический», используемые обычно для характеристики коммунистических режимов, и отмечают, что их употребление часто является политически нагруженным и служит разоблачительским целям. Так, в послевоенный период определение «бюрократический» применялось, с одной стороны, для установления сходства между Советским Союзом и нацистской Германией в рамках «тоталитарной парадигмы», с другой – и в этом отношении эстафетная палочка была подхвачена Соединенными Штатами Америки – с целью разоблачить «советскую модель» и оправдать «западный мир» (5, с. 7). Употребление «бюрократической тематики» в контексте разоблачения тоталитаризма прослеживалось на страницах журналов «Socialisme ou Barbarie» и «Esprit». Таким образом, пишут авторы введения, использование термина «бюрократический» для характеристики режимов в СССР и странах Восточного блока служило доказательством превосходства западной модели – более современной и эффективной (5, с. 8).
Термин «бюрократический» используется в научном обиходе в различных смыслах, обозначая то способ политического господства, то модель организации экономики, то тип функционирования (или же дисфункции) административного аппарата. Оценивая вклад, внесенный в исследование проблемы бюрократизма М. Вебером, Б. Рицци, Д. Бернхемом, М. Крозье и др., авторы предлагают использовать другой подход: рассмотреть взаимодействие терминов «бюрократия» и «коммунизм» в связи с вопросом о способах административного функционирования, свойственных коммунистическим режимам. В центре анализа, таким образом, оказываются «управленческие практики» и «конкретные отношения» (5, с. 11). По мнению авторов, только такой подход позволяет поместить административные учреждения в контекст социальных отношений и отношений власти, а в более широкой перспективе – способствовать «лучшему пониманию социополитических характеристик коммунистических режимов и их особенностей» (5, с. 11).
Документы Политбюро и политической полиции, как отмечают авторы введения, позволяют проследить тоталитарные интенции, но не дают понимания того, каким образом они «вписываются в социальную реальность» (5, с. 11). Вместе с тем знакомство западных исследователей с ранее «запрещенными» архивами принесло им разочарование: воспитанные на западных традициях прочтения архивных материалов, исследователи не обладали «непосредственным опытом» жизни в социалистических обществах, «знанием их шифров и их языка» (5, с. 12).
Авторы утверждают, что для открытия новых перспектив исследования при анализе источников ученый должен интегрировать такие факторы, как «взыскательная критика источников», «изменение и сопоставление масштабов анализа и позиций наблюдения», равный интерес как к «индивидуальным траекториям и социальному составу организаций», так и к «взаимодействию между акторами и учреждениями» (5, с. 12).
В ряде работ, продолжающих традиции «ревизионистской» исторической школы и социальной истории, делается акцент на профессиональных группах, являвшихся хранителями специализированного знания в рамках своих учреждений, которые находились в сложных взаимоотношениях с коммунистической партией (см.: 1; 2; 3; 6). Вместе с тем, пытаясь отыскать пределы властного господства в сфере социального, исследователи зачастую воспринимают политику как «внешний» фактор, который воздействует на социальную группу с целью сломить ее независимость и сопротивление.
Авторы введения ставят вопрос о методах исследования «социологии коммунистических административных учреждений», предлагая сосредоточить внимание на практиках управления и «бюрократических играх» (5, с. 13). Поэтому административный аппарат следует рассматривать не просто как инструмент господства, но и с точки зрения его влияния на властные отношения. В этом смысле «социоистория бюрократических игр точно вписывается в анализ отношений политического господства во всей их сложности» (5, с. 14).
По мнению В. Дюбуа, В. Лозак и Дж. Роуэлла, при изучении коммунистических административных учреждений необходимо учитывать урок политической социологии: взаимодействие между «государством» и «обществом» не заключается в установлении отношений между двумя изначально разобщенными институтами. Они подчеркивают, что не только административные закономерности проникают в сферу социального, но и логика социального вторгается в обычное функционирование государства. Границы между политическим и социальным размываются.
В своем совместном исследовании французские историки, специалисты в области демографии Ален Блюм и Мартина Меспуле предлагают новый подход к изучению истории Советского Союза, и в частности сталинизма (1; 2). Нацеленный на примирение двух оппозиционных точек зрения – тоталитаристской и ревизионистской, – он, в сущности, является их синтезом. Получив доступ к советским архивам после 1991 г., ученые стали разрабатывать комплексный подход, ориентированный на исследование «не только социальной истории политики, но и политической истории социума» (1, с. 6–7).
Авторы книги предлагают новое прочтение истории Центрального статистического управления (ЦСУ) как истории «двойного конфликта»: с одной стороны, между политическими руководителями, в основе которого лежали различные концепции государства, с другой – между ЦСУ и другими органами управления, в том числе милицией и контрольными органами. «Анализ всех этих трений и противоречий», по мысли Блюма и Меспуле, «позволяет по-новому осветить не только процесс строительства репрессивного сталинского государства», но и утверждать, что даже в его рамках существовали «зоны автономии» (1, с. 10).
Центральное место в исследованиях французских ученых, посвященных истории ЦСУ (1; 2; 3; 6), занимает идея преемственности с дореволюционной Россией. Преемственность обеспечивалась прежде всего феноменом «институциональных скольжений». Российские земские статистики во время Первой мировой войны стали работать в учреждениях, созданных для преодоления экономико-социальных последствий войны (Бюро переписи 1916 г.) и занимавшихся вопросами снабжения (Союз Земств). ЦСУ, образованное в 1918 г. на базе этих организаций, автоматически превратило бывших имперских специалистов в сотрудников первой объединенной статистической службы большевистского государства. Таким образом, происходило «скольжение» или «перемещение» одного учреждения в другое. То же происходило и с людьми, причем не последнюю роль здесь сыграла фигура П.И. Попова, который одно за другим возглавлял статистические ведомства в переходный период. Так, в частности, пять из шести статистиков, занимавших ответственные посты в Бюро переписи, переведенном впоследствии под эгиду ВСНХ, в июле 1918 г. вместе с Поповым поступили в ЦСУ, став руководителями отделов.
М. Меспуле особое внимание обращает на внутреннюю структуру ЦСУ, выделяя в ней такие важные составляющие, как коллегия, а также «три научных инстанции» – Совет статистики, съезд статистиков и статистическое совещание. По всей стране была также создана «разветвленная сеть региональных статистических бюро», напрямую подчиненных ЦСУ (6, с. 127, 129). Мес-пуле, в целом, оценивает создание ЦСУ как пример «реализации институционального проекта» представителей определенной профессии.
Важной составляющей преемственности была опора сотрудников ЦСУ на методы работы, сформированные до революции. Еще в 1880-е годы земские статистики разработали единый научный проект, нацеленный на социально-экономическое развитие всей территории России. В основе его лежало признание необходимости гомогенизации и унификации объектов изучения, методов сбора данных и их обработки. До середины 1920-х годов в этом отношении сохранялась преемственность с дореволюционной практикой, в частности при установлении границ районов сбора данных.
Статистики являлись носителями проекта социальных преобразований, концепции государственной модернизации, уходящей корнями в XIX в. ЦСУ и создается как учреждение по своей форме «централизованное, иерархическое, структурированное вокруг ряда департаментов, соответствующих крупным отделам статистики XIX века» (3, с. 353). С западноевропейской традицией русских статистиков сближали также понимание «научной рациональности» как орудия «политической эффективности» и приверженность принципу независимости статистического управления от политической власти, закрепленному резолюциями Флорентийского конгресса 1867 г. (3, с. 354).
Назвав статистику областью «аполитической», статистики на совещании, состоявшемся в октябре 1918 г., «подтвердили необходимость сохранить независимость» своего ведомства, рассматривавшуюся ими как прямое условие сохранения его научного характера (6, с. 122). Статистики хотели видеть независимым само ЦСУ, а организации его разветвленной региональной сети – подчиненными непосредственно Центральному ведомству.
Первоначально ЦСУ было независимым учреждением, подчиненным напрямую Совету Народных Комиссаров (СНК). Создание объединенной статистической службы, как отмечают авторы, «соответствовало давнишнему стремлению сообщества статистиков бывших земств», воспринявших большевистский проект как возможность реализации собственной концепции государственной модернизации (6, с. 120).
Преемственность с земскими службами прослеживается и в практиках найма персонала: набор сотрудников и распределение обязанностей в управлении между 1918 и 1924 гг. основывались на компетенции и профессиональном опыте. Интересно, что источники (досье и личные карточки сотрудников ЦСУ) не содержат материала для анализа социального происхождения работников. Однако ситуация кардинально изменится к 1924 г., когда в ходе проводимой чистки классовая принадлежность будет являться «клеймом» и причиной для увольнения. Значение классовой идентичности будет возрастать начиная с середины 1920-х годов. В ходе чистки 1924 г. ЦСУ будут также предъявлены обвинения в «кумовстве»: побуждаемые как нравственными, так и практическими соображениями (связанными с потребностью в образованных сотрудниках), руководители ведомства после революции давали работу своим родственникам (в том числе женщинам), товарищам по университету, бывшим коллегам.
В большинстве своем статистики происходили из дворян, буржуазии, работников умственного труда, иногда – крестьян и очень редко – рабочих. Получив образование в ведущих университетах России и Европы, многие из них отличались антимонархическими настроениями, побывали в политической ссылке. Но именно ссылка стала своеобразным рычагом для построения карьеры в сфере статистики: начиная с 1870-х годов среди ссыльных завязывались дружественные и профессиональные связи. Сам Попов не избежал ссылки, а в будущем активно использовал наработанные в провинции контакты при формировании управления, команда которого в первые годы отличалась однородностью и сплоченностью.
Вместе с тем сразу же произошло расширение штата Статистического управления в связи с созданием ряда отделов. С приходом новых сотрудников, представителей более молодого поколения, рожденного уже в 1880-е годы (в отличие от земских статистиков, большинство из которых родилось в 1860-е и 1870-е годы), в управлении стали возникать конфликты, начались опоздания, прогулы и даже отмечались случаи доносительства (6, с. 143). В этих условиях центральным принципом статистиков стало внимание к квалификации нанимаемых сотрудников. В управлении применялась «квалификационная сетка», в которой было четко обозначено соотношение квалификации и должностей (6, с. 145). Стремление ЦСУ к утверждению своей независимости и найму персонала воплотилось в учреждении им собственного аппарата по формированию кадров (6, с. 194).
Обстановка в ведомстве была с первых же лет крайне напряженной из-за отрицательного отношения статистиков к коммунистам и восприятия последних как навязанного им зла (1, с. 51). Однако резкое обострение отношений между партией и ЦСУ произошло только в середине 1920-х годов из-за давших о себе знать расхождений в понимании смысла «управления государством при помощи цифровых данных» (1, с. 30). В то время как статистики стремились к «эффективности научной работы», властные структуры были нацелены на «эффективность политического действия» (6, с. 125).
Поворотным моментом для истории ЦСУ стал XIII съезд партии в 1924 г., на котором И.В. Сталин подчеркнул решающее значение коммунистической партии в управлении государством и выразил «неодобрение по поводу функционирования государственной статистики» (1, с. 41). Этот съезд ознаменовал переход от административного контроля над статистическим ведомством к контролю политическому (6, с. 246). После прибытия в ЦСУ в июле 1924 г. коммуниста Н.Г. Оганесова П.И. Попов фактически потерял рычаги контроля над созданным им ведомством. Итогом присутствия Оганесова стало начало чистки 1924 г., основанной на выдвинутых им в адрес ЦСУ обвинений в кумовстве, предоставлении убежища ряду антиреволюционных элементов и сопротивлении сотрудничеству с коммунистами (1, с. 43). Тем не менее благодаря усилиям П.И. Попова чистка 1924 г. затронула главным образом административный и управленческий персонал. Верный идеалу научной рациональности, директор ЦСУ отстоял специалистов-статистиков как основу научной значимости своего ведомства.
Еще одним инструментом борьбы против независимости ЦСУ было поощрение доносительства: доносы в основном практиковались сотрудниками низшего звена, недовольными своим положением. Таким образом, анализ ситуации внутри отдельно взятого ведомства в определенный период времени позволяет французским исследователям проследить становление системы контроля (1, с. 56). Ее важным элементом являлся непосредственный контроль со стороны Главного политического управления (ГПУ). ГПУ использовало в этих целях анкеты, которые заполнялись людьми при приеме на работу, и сообщения партийных ячеек по месту жительства сотрудников.
«Напряжение» между «статистическим разумом» и «политическим разумом» не раз сказывалось в процессе подготовки и проведения переписей в 1920-е годы (6, с. 207, 214). В частности, партия приняла активное участие в подготовке первой всесоюзной переписи 1926 г., оттеснив ЦСУ на задний план. Более того, проведенная государством в 1923–1928 гг. территориальная реформа, следствием которой стало усиление административной централизации, навязывала статистикам новый исследовательский инструментарий, подрывавший методологическую преемственность с дореволюционным периодом и вынуждавший адаптироваться к требованиям планового хозяйства (6, с. 285). В то же время учреждение в 1924 г. Института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова поставило точку в самостоятельности ведомства в сфере подготовки кадров: партия стала контролировать разработку учебных курсов, программ и отбор кандидатов (6, с. 249).
Еще одним следствием XIII съезда стала утрата ЦСУ своей институциональной и фактически профессиональной идентичности: в рамках «новой концепции производства данных» статистики были обязаны отчитываться перед новообразованным Госпланом (6, с. 237–238). Расхождения в статистических вопросах, которыми были отмечены дебаты представителей ЦСУ и Госплана, в сущности, по мысли Меспуле, свидетельствовали о переходе от «формы статистики, унаследованной от земств и европейской статистики» к советской форме, которая будет развиваться в 1930-е годы. Характерными чертами последней станут бόльшая концентрация на отчетности, бухгалтерии, а также и новые методы – «синтетические балансы и квантификационные показатели» (6, с. 260).
А. Блюм и М. Меспуле анализируют профессиональные биографии П.И. Попова и О.А. Квиткина, руководивших ЦСУ соответственно в 1920–1930-х годах. Их судьбы (Попов был отстранен от руководства ведомством, а Квиткин расстрелян) отразили степень остроты конфликта между статистиками и коммунистической партией на рубеже 1920-х и 1930-х годов. Рассмотрение траекторий профессионального пути Попова и Квиткина позволяет сделать важные заключения, поставить новые исследовательские задачи и найти новые способы их решения. Биографии двух руководителей ЦСУ демонстрируют, прежде всего, ужесточение методов контроля государства, достигших прямого насилия и посягательства на человеческую жизнь в 1930-е годы. В 1926 г. дело ограничилось увольнением Попова, который, однако, превратился из авторитетного руководителя и независимого специалиста в простого исполнителя властных распоряжений. В то же время именно отстранение Попова и замена его партийным управленцем В.В. Осинским расцениваются М. Меспуле как первый признак «поражения» статистиков и превращения их ведомства в конце 1920-х годов в плацдарм борьбы с «буржуазными специалистами» (6, с. 285).
В начале 1930 г. декретом ЦИК и СНК ЦСУ было лишено статуса комиссариата и отдано под контроль Госплана СССР, став одним из его секторов – «Сектором учета народного хозяйства». Понимаемая как инструмент учета и управления, статистика была подчинена плану, поставлена ему на службу (6, с. 298).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































