Текст книги "История России в современной зарубежной науке, часть 3"
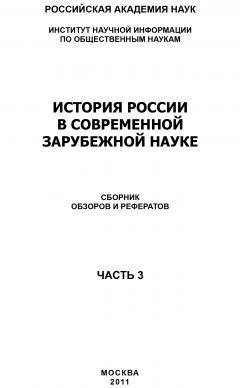
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Перепись 1939 г. готовилась в чрезвычайно напряженной обстановке. Основное внимание вновь сосредоточилось на проблеме подсчета населения. Демографические катастрофы 1930-х годов по-прежнему накладывали отпечаток на численность населения некоторых республик. В 1939 г. сокращение числа украинцев и казахов было объяснено тем, что в 1926 г. регистрировалась народность, понимаемая как племенное происхождение, а в 1939 г. респондент должен был назвать национальность, к которой он сам себя причислял.
Перечень национальностей для новой переписи стал поводом для конфликтов и споров среди ученых. Сталкиваясь с нажимом со стороны государства в лице ЦУНХУ, настаивавшего на сокращении числа национальностей и сведении их к простому слепку с территориального устройства страны, ряд этнографов и лингвистов демонстрировали верность своим методам анализа и репрезентации этнических феноменов.
«Перепись 1939 г. привела к выработке новой классификации национальностей, в которой отразилось появление новой системы категорий и иерархий национального в СССР, напрямую восходившей к его институционализации» (с. 50). Речь шла о том, чтобы, следуя распоряжению В. Молотова, не только составить перечень национальностей, но и разработать их классификацию, выделив несколько уровней. Эти уровни должны были соответствовать положению доклада Сталина о проекте Конституции 1936 г., согласно которому в СССР жили «около 60 наций, национальных групп и народностей».
Готовясь к переписи 1939 г., такой список разрабатывал и Институт этнографии АН СССР. Статус нации имели народы, составлявшие большинство в союзных и автономных республиках. К народностям были отнесены народы, населявшие автономные области и национальные округа, а также некоторые народы, жившие компактно и имевшие собственную письменность. Так называемые национальные группы образовывали те народы, которые сегодня называют диаспорой. Наконец, к четвертой категории, именуемой «этнографической группой», были отнесены оставшиеся национальности, большинство среди которых составляли «остатки различных племен»; число этих народов должно было подвергнуться сокращению.
После долгих дебатов Президиум АН СССР одобрил два перечня: алфавитный, включавший свыше 155 национальностей, и список, состоявший из трех групп. В сопроводительном письме Президиуму Совета национальностей говорилось, что деление на три группы было сложной проблемой и требовало официального согласования. «Эта новая классификация, использовавшаяся затем вплоть до распада СССР при любом упоминании национальностей, порывала с “классической” лингвоэтнографической наукой. Ее смысл заключался в том, чтобы воплотить видение государства, основанного на идее признанных национальностей, осужденных национальностей и опасных национальностей» (с. 62). Эта политика, по оценке автора, не может не заставить вспомнить действия царского режима, стремившегося управлять страной, опираясь на этническую иерархизацию. Вторая мировая война принесет с собой усиление этой тенденции, что выразится, в частности, в коллективном «наказании» целых народов за сотрудничество с врагом и поощрении русского патриотизма.
Т.Б. Уварова
Гендер на окраинах советской империи
(Сводный реферат)
1. Нортроп Д. Империя в парандже: Гендер и власть в сталинской Средней Азии
Northrop D. Veiled empire: Gender and power in Stalinist Central Asia. – Ithaca: Cornell univ. press, 2004. – XVIII, 392 p
2. Шульман Е. Сталинизм на окраине империи: Женщины и государственное строительство на советском Дальнем Востоке
Shulman E. Stalinism on the frontier of empire: Women and the state formation in the Soviet Far East. – Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2008. – XIV, 260 p
Активно развивающиеся области современной русистики – гендерные исследования и изучение окраин империи – представлены в работах американских историков.
Монография Дугласа Нортропа, основанная на материалах из архивов России и Узбекистана, посвящена изучению истории формирования «сложного гибрида социальных и культурных идентичностей» в советской Средней Азии. Свое исследование он помещает в широкий контекст столкновения исламского и европейского миров, подчеркивая колониальный характер власти сначала России, а затем СССР над этим регионом. Как отмечается в книге, с конца XIX в. притязания на «европейскую» идентичность России и ее место среди «цивилизованных» наций все больше связывались с практикой современного, в европейском стиле, колониального строительства империи, с характерной миссией «возвысить» и модернизировать самые отсталые окраины, в особенности Среднюю Азию. При этом, пишет автор, колониальное пространство Туркестана служило своего рода «лабораторией цивилизации», в которой происходила «шлифовка» идентичности самих колонизаторов, на имперской периферии чаще относивших себя к европейцам, а не к русским (1, с. 7–8).
В книге убедительно доказывается, что Советский Союз являлся империей, хотя большевики и настаивали на антиколониальном характере своего государства. Отправление властных полномочий осуществлялось в нем по линиям иерархии и отличий – географическим, этническим, политическим, экономическим и культурным, которые как минимум теоретически предполагали наличие центра и периферии. Когда речь шла о периферии, по своей политической, экономической и военной структуре, по «цивилизаторской» культурной программе, наконец, по наличию местных элит СССР во многих отношениях напоминал классические «заморские» империи, в первую очередь Британскую, и уже отошедшие в прошлое Османскую и Габсбургскую империи. Однако больше всего в данном случае подходит другой, как пишет автор, «атипичный» пример – Соединенные Штаты. Особенно это касалось представления о гражданстве, которое в США было также скорее идеологическим и индивидуальным, нежели этническим или корпоративным и предполагало, что практически любой человек может стать американцем. СССР и в центре, и на периферии намеревался создать единое политическое пространство, населенное равными гражданами – и в этом отношении советский антиколониализм следует воспринимать со всей серьезностью, замечает Д. Нортроп (1, с. 23–24).
В отличие от своих дореволюционных предшественников, советские чиновники и партийные активисты занимались не только управлением мусульманским Туркестаном, но поставили своей целью радикальную его трансформацию. Причем именно «культурное столкновение между Западом и Востоком», которое всегда носило преобразующий характер для обеих сторон, в конечном итоге определило, что означало быть одновременно «большевиком» и «узбеком», пишет автор (1, с. 7). После 1917 г., продолжает он, Средняя Азия не только помогала русским почувствовать себя европейцами, но и способствовала выработке дефиниции большевизма для всего колониального мира, где понятие современности и цивилизации имело свои особенности.
В «особых обстоятельствах» Средней Азии на первый план в большевистском переустройстве мира были выдвинуты семья и положение женщины. Поэтому центральной темой книги является кампания 1927 г. за снятие паранджи («худжум» – наступление), имевшая своей целью привить достижения пролетарской революции в «отсталой и примитивной» Средней Азии. Автор рассматривает эту кампанию в контексте полувековой колонизации, которая проводилась царской Россией и имела своим результатом крайне подозрительное отношение мусульман, и крестьян в особенности, к цивилизующим мерам государства.
Большевики, пишет Д. Нортроп, далеко не сразу пришли к этому решению. Сначала они пытались трансформировать Среднюю Азию теми же методами, что и Европейскую Россию – при помощи антирелигиозной кампании, земельной (и водной) реформы 1925–1926 гг., что не привело к росту симпатий населения к большевикам. Шло и национальное строительство: в 1924 г. были проведены границы, создавшие новые республики, Узбекистан и Туркмению, которые однако же не могли вобрать в себя все разнообразие, сложность и изменчивость местных идентичностей. И потому в русле проводимой тогда политики коренизации государство даровало каждой республике официально санкционированную национальную принадлежность, дополненную собственной политической иерархией, языком и даже алфавитом (1, с. 51– 52). Известно, какой большой труд в определение этих идентичностей вложили этнографы и лингвисты. Ведь вопрос «кто ты» подразумевал в Средней Азии множество вариантов ответов и был контекстуально обусловлен, как и идентичность человека: мужчина, мусульманин, узбек, сарт, крестьянин, отец, из Ташкента и т.д. (1, с. 17). В результате всех этих усилий, пишет автор, к 1930 г. начинает укореняться национальное самосознание узбеков, что имело как немедленные, так и отдаленные последствия. Во всяком случае, считает Д. Нортроп, национальность – основное наследство, которое Узбекистан получил от советской власти. Важнейшими особенностями новой идентичности являлись гендерные нормы – и традиционные нормы в том числе ношение паранджи, характерное именно для Узбекистана, – стали активно порицать как «дикие» и «отсталые» (1, с. 56).
Именно поэтому борьба за освобождение узбекских женщин, к которой перешли в 1927 г. после неудачных попыток найти социальную поддержку советской власти республике, где отсутствовал промышленный пролетариат, стала основным инструментом советизации Узбекистана. Причем центральное место в политике заняло снятие паранджи как первое условие перехода к новому быту, за который боролись и сотрудники Женотдела, и врачи, и партийцы. Решение пойти к «освобождению Востока» именно таким путем имело серьезные последствия, которые ощущаются и по сей день, пишет автор.
В книге показано, как в Узбекистане развернулось сопротивление снятию паранджи, вылившееся в антисоветское движение, которое поддерживали узбеки обоего пола. Во многом благодаря усилиям большевиков паранджа стала «национальным» символом «традиции», которая, как замечает автор, на самом деле не была такой уж древней. Тяжелую накидку из хлопка, паранджу, и закрывающую лицо густую сетку из конского волоса, чачван, узбекские женщины стали носить начиная с 1870-х годов, уже во времена русского владычества. Причем даже к 1917 г. паранджа не получила всеобщего распространения: первыми ее начали носить молодые горожанки, затем к ним присоединились и в сельской местности – преимущественно женщины из богатых семей (1, с. 44).
Подробно рассматривая культурную и семейную политику в Средней Азии и ее реализацию на микроуровне повседневной жизни, автор демонстрирует гибкость и подвижность культурных практик в регионе, а также реальные пределы сталинской власти, которая даже в 1930-е годы не была ни полной, ни абсолютной. Нормы европейской моногамной семьи так и не были до конца интернализированы, а паранджа постепенно ушла из быта только в 1960-е, однако под влиянием совсем иных условий, пишет Д. Норторп (1, с. 349–350).
В книге Е. Шульман исследуется история движения «хетагуровок» – женщин, откликнувшихся на прозвучавший в 1937 г. призыв Валентины Хетагуровой приехать на Дальний Восток. Движение это, замечает автор, скоро превратилось в настоящую «переселенческую программу», поскольку для участия в нем в 1937–1939 гг. было отобрано примерно 25 тыс. человек. Предполагалось, что в результате будет исправлен серьезнейший демографический дисбаланс в крае, населенном почти исключительно мужчинами. Кроме того, приезд квалифицированных специалистов должен был решить проблему острой нехватки кадров в стремительно развивавшемся регионе.
История хетагуровок, в которой трагически переплелись энтузиазм 1930-х годов и сталинские репрессии, проливает свет на почти не исследованную в зарубежной русистике тему – освоение окраин советской империи и роль женщин в колонизации периферии. Рассмотренный в книге гендерный аспект имперского строительства в СССР, значительно отличавшегося от моделей, которые традиционно практиковались колониальными империями, позволяет глубже понять сущность сталинизма в его «периферийном» варианте.
По словам автора, сталинизм на периферии был «гиперболизированной версией практик и политики, ассоциирующихся со сталинским правлением: террором, властью тайной полиции, плановой экономикой, коррупцией, хроническим дефицитом, монополизацией общественной и политической жизни коммунистической партией и сталинской версией марксизма». В интерпретации Е. Шульман Дальневосточный регион представлял собой «особый мир, который плохо вязался с тоталитарным контролем не только из-за своей удаленности от Москвы, но и благодаря своей исторической роли “свалки”, а иногда и убежища для преступников, политических ссыльных и просто нонконформистов» (2, с. 4–5). Демонстрируя, какую важную роль сыграли хетагуровки и другие переселенцы в распространении власти советского государства и социалистической культуры в регионе, исследование Е. Шульман не только по-новому освещает сущность советского общества и системы сталинизма, но и показывает пределы власти Москвы на периферии, в том числе и над ГУЛАГом.
Успех кампании по привлечению девушек на Дальний Восток, пишет автор, выдвигает на первый план целый пласт представителей советского общества, восприимчивых к официальным призывам строить социализм и жертвовать собой во имя его идеалов. Этот пласт обычно не брался в расчет историками, подчеркивавшими насильственный характер тоталитарного сталинского режима, однако изучение жизненных историй хетагуровок позволяет понять, как советский режим просуществовал еще 50 лет (2, с. 9– 10). Не отрицая, что в середине 1930-х годов в СССР начинается возрождение традиционной гендерной иерархии, вылившееся не только в законодательные меры, направленные на укрепление семьи, но и в активную пропаганду материнской и «домашней» функции женщины, автор подчеркивает гибкость гендерных конструкций эпохи сталинизма (2, с. 40).
Комсомолки 1930-х годов, выросшие при советской власти, получившие образование наравне с юношами, ни в чем не ощущали себя ущемленными. Книги и фильмы воспламеняли их воображение, они мечтали быть во всем похожими на героев, а главное, героинь революции и Гражданской войны. Они были готовы отдать все, и саму жизнь, за завоевания социализма. К этому послереволюционному поколению родившихся в 1910–1920-е годы принадлежало большинство хетагуровок, отправившихся осваивать далекую и опасную периферию, пишет автор. Они были полны энтузиазма, и призыв партийных организаций, которые обещали не только героические свершения, но и возможность выдвинуться, оказался для многих комсомолок мощным стимулом.
В книге представлен краткий очерк истории советской политики в отношении женщин, дается подробная характеристика Дальневосточного региона и структуры управления краем, где в связи с началом Большого террора в 1937–1938 гг. происходила перестройка всей системы Дальстроя. Отдельная глава посвящена «публичному образу» Валентины Хетагуровой, которая была очень популярна в предвоенные годы и принадлежала к разряду так называемых «знатных» женщин-тружениц эпохи социализма. По словам автора, молодая русская жена офицера-осетина, приехавшая с «дальнего пограничья», стала одним из вариантов социалистической «новой женственности». Ее образ ассоциировался с могуществом многонациональной страны, раскинувшейся на одной шестой части суши (2, с. 24–25).
В монографии также исследуются репрезентации Дальнего Востока «как мифического пространства», представленные в прессе и кино. Параллельно автор анализирует письма и мемуары участниц кампании, что позволяет проследить процесс воздействия широко тиражировавшихся образов на воображение «целевой аудитории». По ее словам, «нереалистические ожидания» девушек, получивших сведения о крае из литературы и кинофильмов, усилили их разочарование, когда они обнаружили, что жизнь на Дальнем Востоке такая же тяжелая и каторжная, как там, откуда они уехали (2, с. 223).
На Дальнем Востоке, пишет Е. Шульман, прибывших действительно ожидали тяжелые испытания. Трагические истории некоторых переселенок иллюстрируют безжалостную эксплуатацию «периферийным сталинизмом» тех, кто так хотел помочь советской власти. Многие из девушек оказались в условиях изоляции, иногда без жилья и денег, кто-то попал в среду спецпереселенцев, кто-то – в организации, в которых работало много заключенных. Ситуация усугублялась недоброжелательным отношением к хетагуровкам, которых часто воспринимали как незваных гостей, подвергали остракизму или просто сторонились. Как пишет автор, статус представителей государства делал хетагуровок объектом ненависти тех, кто ненавидел сталинский режим. Многие подозревали их в меркантильности, не желали замечать их высоких стремлений, и даже через 40 лет их решение приехать на Дальний Восток истолковывалось в дурную сторону.
Через три года после начала кампании, указывается в книге, официально было признано, что движение хетагуровок окончилось неудачей – женщины не смогли «насадить цивилизацию» в крае, многие из них «спасовали перед трудностями» и «сбежали». Оставшиеся пережили все тяготы советской бытовой жизни, многократно усиленные в условиях периферии. Однако воспоминания хетагуровок свидетельствуют о том, что несмотря на невероятные трудности, им удалось сохранить самые лучшие воспоминания о времени своей юности, когда они ощущали себя нужными своей любимой стране. Более того, они считали достижения советской системы – бесплатное здравоохранение и образование, получение жилья от государства – результатом их личного и коллективного труда. В этом отношении, заключает автор, коммунистический режим выполнил свои обещания (2, с. 228).
О.В. Большакова
Новая зарубежная литература по истории сталинских репрессий
(Реферативный обзор)
М.М. Минц
История сталинизма по-прежнему остается предметом самого пристального интереса со стороны исследователей. Как отмечает Хироаки Куромия (университет Индианы) в статье «Сталин и его эпоха» (7), частичное открытие советских архивов после распада СССР, предоставившее в распоряжение историков колоссальный массив ранее недоступных источников, позволило в общем решить ряд важных проблем истории сталинского периода, однако в то же время породило немало новых вопросов, спровоцировав новые жаркие дискуссии. По мнению автора, это связано отчасти с тем фактом, что многие архивные фонды до сих пор остаются засекреченными, отчасти же – с недостаточно корректным использованием имеющихся источников. Наиболее важные дискуссионные вопросы истории сталинизма так или иначе группируются вокруг трех основных взаимосвязанных проблем: Сталин и террор, Сталин и идеология, Сталин и общество. Куромия отмечает, что отношение Сталина к марксизму было чрезвычайно утилитарным: будучи весьма прагматичным политиком, он смело и довольно эффективно подстраивал марксистскую идеологию под свои текущие потребности. Тем не менее влияние марксизма на его оценки складывающейся обстановки не следует недооценивать. Кроме того, Сталин и его ближайшие соратники, прошедшие школу Гражданской войны, были, безусловно, убеждены в допустимости и целесообразности массового террора для решения возникающих перед государством проблем.
В предлагаемом обзоре рассматриваются статьи и монографии зарубежных ученых, увидевшие свет в последние годы и посвященные таким проблемам, как сталинские репрессии 1930-х годов, их истоки и механизмы, отраслевые и региональные особенности, история ГУЛАГа и спецпоселений, история советских карательных органов, жертвы репрессий. Значительная часть анализируемых статей опубликована в сборнике «Возвращаясь к сталинскому террору» (10) под редакцией Мелани Илич (Великобритания), посвященном событиям 1937–1938 гг. Их авторы сосредоточились на ряде проблем, которые до сих пор не получили достаточно подробного освещения в западной литературе. В книге использованы многочисленные архивные документы, ставшие доступными для исследователей в постсоветский период (Илич, впрочем, резонно замечает во введении (с. 3), что «здесь, несомненно, еще многое предстоит рассекретить»), и разнообразные материалы о жертвах репрессий, собранные и опубликованные различными государственными структурами и общественными организациями (прежде всего «Мемориалом»). Активно используются также изданные в последние годы многочисленные региональные книги памяти жертв политических репрессий: содержащиеся в них поименные списки репрессированных с указанием кратких биографических сведений представляют собою интереснейший материал для статистического анализа. Авторы стремятся по возможности отойти от прежнего одностороннего изучения репрессий 1937– 1938 гг. лишь в их «номенклатурном» измерении: как показывают вновь введенные в научный оборот источники, террор в этот период носил крайне неизбирательный характер, и под каток репрессий попали тысячи людей, не занимавших до того никаких руководящих постов.
Истоки и механизмы массовых репрессий
Социальные механизмы Большого террора 1937–1938 гг. рассматриваются в книге Венди З. Голдман (университет Карнеги – Меллона, Питсбург, Пенсильвания) «Террор и демократия в эпоху Сталина» (1) в основном на материале профсоюзов, а также местных профсоюзных и партийных организаций на предприятиях. Одной из важнейших предпосылок Большого террора, по мнению автора, стали экономические кризисы периода первых пятилеток, вызванные непродуманной и авантюрной политикой форсированной индустриализации. Ситуацию усугубило нараставшее несоответствие между идеалами социализма и реальным положением рабочих: руководители предприятий, вынужденные выполнять спускаемые сверху производственные планы, зачастую заведомо невыполнимые, и в то же время повышать зарплату и улучшать бытовые условия, чтобы снизить недовольство рабочих, оказывались под ударом со всех сторон.
Другой предпосылкой явилось убийство Кирова, после которого, в частности, был введен упрощенный порядок рассмотрения дел о «контрреволюционных» преступлениях. Если в первые недели следствие предполагало, что убийца – Л. Николаев – действовал в одиночку, то к лету 1936 г., при деятельном участии будущего наркома внутренних дел Н.И. Ежова и с ведома Сталина, был «раскрыт» уже исключительно мощный и разветвленный заговор, направленный на свержение советского режима, с участием бывших лидеров партийной оппозиции. Основанный на этой концепции первый московский показательный процесс в августе 1936 г. вызвал широкий резонанс среди рабочих. Однако, несмотря на все усилия официальной пропаганды, использовать его для дальнейшего раскручивания чисток не удалось: рабочие не видели связи между преступлениями, приписанными «заговорщикам», и своими собственными проблемами.
Ситуация изменилась после кемеровского процесса в сентябре того же года по делу о взрыве на угольной шахте, когда пропаганда сделала акцент на борьбе с «вредительством» и начала внушать рабочим, что они также должны были стать жертвой заговорщиков наряду с руководителями партии и правительства. Этот мотив был использован и при организации второго московского процесса в январе 1937 г. Позже, на февральско-мартовском пленуме ЦК, был выдвинут лозунг об оживлении партийной демократии, которое включало в себя прямые выборы вместо голосования по списку и тайное голосование. Впоследствии аналогичная кампания началась и в профсоюзах. Это позволило провести широкомасштабную чистку среди партийных и профсоюзных работников и придать репрессиям по-настоящему массовый характер: рабочие и представители низовой администрации увидели в чистках и перевыборах партийных и профсоюзных организаций средство решения своих собственных проблем. Это же, однако, быстро сделало процесс бесконечных «разоблачений» и арестов неконтролируемым и к тому же самоорганизующимся, поскольку потенциальным «грешником» в такой обстановке оказывался каждый. Подобное развитие событий ставило партию и профсоюзы под угрозу саморазрушения, что стало толчком к свертыванию Большого террора осенью 1938 г. Вскоре была свернута и кампания за партийную и профсоюзную демократию; на этом этапе «лишняя» демократия была уже не нужна.
Монография Пола Р. Грегори (Хьюстонский университет, Техас) «Террор по квоте: Государственная безопасность от Ленина до Сталина» (5) посвящена прежде всего истории советских «органов» в 1920-е – начале 1950-х годов, их взаимоотношениям с политическим руководством советского государства и роли в массовых репрессиях. Источниковую базу исследования составили документы РГАСПИ, РГАНИ, ГАРФ, коллекции микрофильмов Института Гувера, а также многочисленные документальные публикации. Работа носит междисциплинарный характер и выполнена на стыке истории, политологии и экономической теории: автор выстраивает «политэкономическую» модель взаимоотношений между диктатором и органами госбезопасности, деятельность которых может рассматриваться как использование определенных ресурсов для удовлетворения специфических потребностей диктатора – в расширении своей власти и поддержании лояльности населения. Термином «диктатор» в данном случае обозначается круг лиц, участвующих в принятии политических и важнейших кадровых решений; в начале 1920-х годов под это определение подпадало не только Политбюро, но и остальной состав ЦК, тогда как к концу 1930-х годов состав высшего политического руководства ограничивался лишь ближайшим окружением Сталина. В своей работе автор исходит из того, что сталинские репрессии имели собственную внутреннюю логику и могут анализироваться в рациональных категориях. Это не может служить их оправданием (понятия рационального и иррационального не являются синонимами понятий добра и зла), но позволяет глубже понять их мотивы и механизмы, а также соотнести действия Сталина с поведением других диктаторов.
Книга состоит из введения, восьми глав, заключения (глава 9) и приложений. В первой главе Грегори рассматривает отношения между советским диктатором и органами государственной безопасности в целом, а также критерии отбора кандидатов на должность главы ОГПУ, НКВД (МВД), НКГБ (МГБ). Во второй главе описываются порядок рекрутирования чекистской элиты и ее внутренняя структура, отношения между руководителями и подчиненными и критерии отбора кандидатов на руководящие должности; прослеживаются также параллели с отношениями между чекистами и политическим руководством, описанными в предыдущей главе. Третья глава посвящена организации органов госбезопасности на разных этапах их развития (ОГПУ как специализированная служба безопасности; НКВД СССР, объединивший функции службы безопасности и министерства внутренних дел; повторное разделение НКВД – МВД и НКГБ – МГБ). Рассматривая в четвертой главе сталинские определения врагов государства и их классификацию, автор отмечает, что для любого диктаторского режима врагом государства является тот, кого таковым считает диктатор; здесь же описываются меры, предпринимавшиеся политическим руководством, чтобы настроить население страны против арестованных и тем самым избежать массового недовольства репрессиями. В пятой главе Грегори анализирует взаимосвязь между репрессиями и внутрипартийной борьбой за власть, прослеживает роль «органов» в этой борьбе, описывает московские показательные процессы 1936–1938 гг. и чистки в партии. Репрессии против простых граждан, не принадлежавших к партийной элите, описываются в шестой главе; автор подробно анализирует планирование и осуществление трех важнейших волн массового террора: раскулачивания, «массовых операций» 1937–1938 гг. на основе оперативного приказа НКВД № 00447 от 30 июля 1937 г. и «национальных операций» 1937–1938 гг. Седьмая глава посвящена различным упрощенным процедурам, призванным ускорить работу карательных органов в периоды массовых арестов («тройки», вынесение приговоров на основании признания обвиняемого, поиск виноватых в «перегибах»). В восьмой главе анализируются отношения между политическим руководством, руководством НКВД и организаторами террора на местах. В приложениях автор излагает использованные теоретические модели, приводит справочные сведения об организации советских органов госбезопасности в описываемый период и список репрессированных жителей рабочего поселка Могочино в Томской области как иллюстрацию к содержащимся в книге сведениям об истинном социальном составе жертв террора.
На рубеже 1920–1930-х годов Сталин, по мнению Грегори, еще рассчитывал на то, что его политика индустриализации и коллективизации получит массовую поддержку среди рабочих и крестьян, поэтому определение врагов советской власти было еще довольно узким: сюда относились прежде всего оппозиционеры и представители «эксплуататорских классов», наиболее многочисленными из которых были кулаки. На протяжении 1930-х годов определение внутреннего врага непрерывно расширялось; этот процесс достиг своей кульминации в период Большого террора. Симптоматично, что в дополнение к статье 58 Уголовного кодекса РСФСР о «контрреволюционных» преступлениях, и без того допускавшей предельно широкое толкование, постоянно выпускались разного рода чрезвычайные законы и постановления, вводившие дополнительные категории граждан, подлежавших репрессиям. Такое произвольное определение врага государства сделало возможным характерное для сталинского периода планирование массовых арестов с лимитами на количество приговоров и последующими попытками исполнителей перевыполнить план, приводившими к дальнейшему раскручиванию террора.
Тему упрощенных процедур продолжает статья Никиты Петрова («Мемориал») и Марка Янсена (Амстердамский университет) «Массовый террор и суд: Военная коллегия СССР» (6), посвященная Военной коллегии Верховного суда СССР как одному из важнейших элементов сталинской карательной системы. Коллегия была создана в 1923 г., с июля 1934 г. к ее компетенции были отнесены дела о «контрреволюционных» преступлениях (измена, шпионаж, терроризм и др.). В общей сложности с 1934 по 1955 г. Военная коллегия осудила 47 459 человек, большинство из которых были приговорены к смертной казни. Подробно описывая различные стороны ее деятельности, авторы показывают, что, вопреки позднейшим утверждениям бывших соратников Сталина, называть этот орган судебным можно лишь условно, прежде всего потому что приговоры Военной коллегии выносились по «расстрельным спискам», заранее подготовленным сотрудниками НКВД и утвержденным узким составом Политбюро. В Архиве президента РФ сохранились 383 таких списка, датированных 27 февраля 1937 – 29 сентября 1938 г. и содержащих в общей сложности около 45 500 имен (43 768 за вычетом повторяющихся и вычеркнутых); число фактически осужденных Военной коллегией за этот же период несколько меньше – 38 000–39 000 человек. Рассмотрение дела продолжалось в среднем несколько минут, особенно во время выездных заседаний; практиковалось также заочное рассмотрение дел в случаях, когда обвиняемые содержались под стражей в труднодоступных районах Советского Союза. Реальная функция Военной коллегии, таким образом, сводилась лишь к оформлению приговоров, фактически уже вынесенных политическим руководством страны еще до начала судебного заседания. В то же время, отмечают авторы, обращает на себя внимание само стремление Сталина и его окружения создать таким образом хотя бы видимость соблюдения предусмотренных законом процедур: подавляющая часть приговоров была вынесена Военной коллегией не во время знаменитых открытых процессов, а в ходе рутинных заседаний за закрытыми дверями, когда в подобных инсценировках, казалось бы, уже не было никакой необходимости. Янсен и Петров объясняют это тем, что Военная коллегия рассматривала прежде всего дела представителей советской элиты, лояльность которой было особенно важно сохранить. Законный порядок рассмотрения таких дел, хотя и фиктивный, давал сталинскому руководству такую возможность.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































