Текст книги "В сторону (от) текста. Мотивы и мотивации"
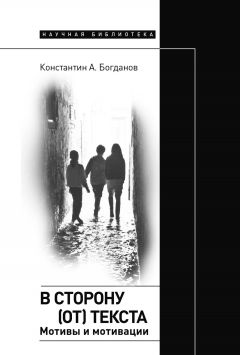
Автор книги: Константин Богданов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Фауна морали. Русские классики и русские зайцы
У меня была только синяя краска; но, несмотря на это, я затеял нарисовать охоту. Очень живо изобразив синего мальчика верхом на синей лошади и синих собак, я не знал наверное, можно ли нарисовать синего зайца, и побежал к папа в кабинет посоветоваться об этом. Папа читал что-то и на вопрос мой: «Бывают ли синие зайцы?», не поднимая головы, отвечал: «Бывают, мой друг, бывают».
Л. Н. Толстой. «Детство», 1852
Заяц ослушивается, вздыбливая глядит и слушает кругом.
В. И. Даль. «Словарь живого великорусского языка», 1865
Текст этой главы представляет расширенную версию доклада, прочитанного в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-Петербург) на междисциплинарной научной конференции «Философия зайца: неожиданные перспективы гуманитарных исследований» (19–21 июня 2014). Невольным инициатором этой конференции стал тогдашний министр культуры В. Р. Мединский, за год до того запальчиво заявивший в эфире радиостанции «Business FM», что ему известен целый институт, входящий в систему Российской академии наук, сотрудники которого в течение нескольких лет на бюджетные деньги занимались изучением «философии зайца»: «Я вам называю тему конкретной научной работы, я не могу понять, что в ней кроется, называется она „Философия зайца“, и в течение пяти лет люди под это дело получали финансирование!» (Чесноков И. Заяц против министра // Эксперт. 2014. 26 июня (expert.ru/russian_reporter/2014/24/zayats-protiv-ministra). Что скрывалось под «конкретной научной работой», министр не уточнил, но сами эти слова, как и многие другие его заявления, прозвучали в атмосфере дискуссий вокруг уже определившейся позиции Министерства культуры о будущем подведомственных ему институтов – в частности, петербургского Института истории искусств (Зубовского института), переживавшего в это время административную и кадровую лихорадку, вызванную командными решениями министерских чиновников по «оптимизации сети учреждений культуры». «Оптимизация» петербургского института завершилась в конечном счете массовыми увольнениями его сотрудников и местным торжеством бюрократического контроля над учеными, а объявленный в конце июня того же года курс на реформу Российской академии наук придал произошедшему в Зубовском институте характер наглядного примера, чем на практике оборачивается властная «оптимизация» российской науки. Загадочные и, по видимости, ернические слова Мединского о «философии зайца» запомнились при этом столь же показательно – как симптом заведомой и легко предсказуемой критики ученых-гуманитариев, растрачивающих бюджетные средства на занятия бесполезной чепухой. Любопытствующее желание последних прояснить утверждение министра о «философии зайца» не заставило себя ждать, и быстро обнаружилось, что поводом к нему могло послужить обширное стихотворение научного сотрудника Института культурологии В. Л. Рабиновича «Трансмутация зайца», предпосланное дополненному переизданию его монографии «Алхимия как феномен средневековой культуры» (Рабинович В. Л. Алхимия как феномен средневековой культуры [1979]. 2‐е изд. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012).
В этом стихотворении автор (умерший осенью 2013 года) выразительно сравнивал самого себя с «заполошным зайцем», дрожащим на цыпочках перед Левиафаном. Оценил ли эту образность Мединский, остается гадать, но анекдотически вероятная ситуация не меняет ее удручающего контекста – убеждения высокопоставленного чиновника в том, что наука без руководства власти только мешает «оптимизации» этой самой науки. Организация и проведение конференции, состоявшейся в Институте русской литературы, стали в этом случае своеобразным флешмобом – протестной акцией исследователей, изучающих историю культуры и полагающих, что тематика и методология такого изучения подлежат экспертной и перспективной оценке не со стороны чиновников, а изнутри научного сообщества. Можно заведомо иронизировать над «несерьезностью» «заячьей темы» в истории культуры – но, в отвлечении от министерски связываемой с зайцами «философии», как не считаться с тем простым фактом, что «присутствие» зайцев в литературе, живописи, фольклоре, звуковых и визуальных медиа исключительно обширно, разнообразно и значимо? В анонсе к конференции Андрей Костин напоминал, что заяц – «один из наиболее прочно вошедших в культурный обиход современного человека бестиарных образов. Мы слушаем в детстве сказки о ледяной и лубяной избушках и о теремке; танцуем с бутафорскими ушами на утреннике в детском саду; с увлечением читаем в школе стихи о сердобольном деде Мазае и прыгаем с Алисой в нору за Белым Кроликом навстречу Мартовскому Зайцу; мы узнаем потом, что соломинкой в пучине русского бунта может оказаться заячий тулупчик, а фотографии самых красивых девушек можно найти под обложкой с ушастым профилем; в веселой компании одной из тех немногих песен, слова которой будут помнить все, окажется партизанский гимн косящих траву зайцев… Ряд этот можно продолжать бесконечно: значимые зайцы найдутся в любой сфере человеческой культуры во все времена. Образы эти имеют право быть исследованы, поскольку в гуманитарной науке нет такой мелочи, изучение которой не привело бы в конечном счете к открытию закономерностей и внятному уяснению нашей истории и нас самих» («Философия зайца»: Неожиданные перспективы гуманитарных исследований: Программа междисциплинарной научной конференции. Санкт-Петербург, 19–21 июня 2014 года // www.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=FxymI9xIprU%3D&). Заключительные слова в этой цитате заслуживают того, чтобы подчеркнуть их. В качестве мыслительного эксперимента достаточно поставить на место «зайца» любую другую гуманитарную тему, чтобы представить ее заведомое неприятие теми, кто рассуждает о приоритетах практики над теорией, о государственной пользе и общественном благе. Вопрос, который ставился в этом случае как «вопрос о зайцах», для организаторов конференции был принципиально важен как гораздо более общий вопрос о том, чем определяется социальная роль гуманитарного знания в современном обществе и в чем состоит ответственность тех, кто обеспечивает социальное взаимодействие между институтами культуры, науки и власти. История вокруг конференции, само название которой быстро стало своеобразным «мемом» сетевого сообщества, получила широкий отклик в средствах массовой информации. Реакция Мединского на состоявшуюся конференцию в письме-«приветствии», адресованном ее организаторам, только подтвердила правомерность ее проведения: ученым-гуманитариям министр противопоставил «рядовых налогоплательщиков» (позабыв при этом, что ученые являются такими же рядовыми налогоплательщиками): «Убежден, что затрагиваемые на симпозиуме вопросы особенно важны и актуальны для миллионов рядовых налогоплательщиков, которые в конечном счете и оплатили рабочее время участников конференции, обладающих высокими научными степенями и званиями, лучших научных сотрудников и преподавателей государственных бюджетных учреждений и институтов». (Фотокопию письма с подписью Мединского см. в материале: Мединский ответил на «Философию зайца» // Lenta.ru. 2014. 20 июня (lenta.ru/news/2014/06/20/zzaetz).) Увы, искрометная ирония приснопамятного министра в очередной раз обнаружила конфликтное противостояние общества и власти – на этот раз особенно показательное потому, что оно развернулось вокруг темы, казалось бы декларативно далекой от приоритетов «социальной пользы», но символически указывающей на экспертное право ученых и общества интересоваться тем, что представляется важным в силу иных, непонятных чиновникам обстоятельств. Одним из попутных следствий того же противостояния стало создание сетевого сообщества под названием «Философия зайца». За время его существования участники и гости этого сайта опубликовали тысячи постов с изобразительными и текстовыми материалами, которые, с одной стороны, очевидно иллюстрируют немаловажную «роль зайца» в мировой культуре, а с другой – свидетельствуют о значимости «мемически» маркированной социальной коммуникации. Вослед конференции «заяц» стал очередным мемом, прямо или опосредованно выразившим стремление к просвещенному знанию и общению, которое самоценно как таковое и по меньшей мере безразлично к тем, кто претендует выступать глашатаями науки в терминах прикладного или государственного утилитаризма.
* * *
Зайцы врываются в русскую литературу с поэзией Г. Р. Державина. На фоне предшествующей традиции торжественного красноречия и возвышенных од упоминания о зайцах у Державина вписываются в стилистические контексты иной изобразительности – это не парадный, но суверенный мир личной жизни, персонального опыта и повседневного быта. Такие упоминания важны в этих случаях своей новизной – именно тем, что поэтическое вдохновение поэта нисходит до малозначимых ранее мелочей, но уже тем самым наделяет их поэтической значимостью. Точность наблюдения и остроумие стихотворных зарисовок достаточны при этом как признаки поэтики, призванной к тому, чтобы не только восславить великое, но и не забыть о малом – уметь увидеть то, что незаметно для самодовольного ума и равнодушного взора. Давно и справедливо замечено, что лирическое умозрение Державина, сколь бы барочно-аллегорическим оно ни было, – это декларативный навык зрения, возрождение горацианской «поэзии картин» (Ut pictura poesis), репрезентация визуального[100]100
Данько Е. Я. Изобразительное искусство в поэзии Державина // XVIII век. Вып. 2. М.; Л., 1940. С. 166–247; Kolle H. Farbe, Licht und Klang in der malenden Poesie Derzavins (Forum Slavicum, 10). München: Wilhelm Fink Verlag, 1966; Вачева А. Натюрморт в поэзии Державина // Творчество Г. Р. Державина. Специфика. Традиции: научные статьи, доклады, очерки, заметки. Тамбов, 1993. С. 33–42; Торияма Ю. Живописность в описании обеденного стола в поэзии Г. Р. Державина // Новый филологический вестник. 2009. № 4. http://cyberleninka.ru/article/n/zhivopisnost-v-opisanii-obedennogo-stola-v-poezii-g-r-derzhavina. Наиболее обстоятельно визуальные аспекты в поэзии Державина рассмотрены в: Смолярова Т. Зримая лирика. Державин. М.: Новое литературное обозрение. 2011.
[Закрыть]. Поэт видит, как гонимый охотниками «В опушке заяц быстроногий, / Как колпик поседев, лежит» («Осень во время осады Очакова», 1788), как счастливый сельский житель зимою по снегу «зайца гонит, травит псами» («Похвала сельской жизни», 1798), и описывает свой собственный охотничий досуг:
Иль в лодке вдоль реки, по брегу пеш, верхом,
Качусь на дрожках я соседей с вереницей;
То рыбу удами, то дичь громим свинцом,
То зайцев ловим псов станицей.
(«Евгению. Жизнь Званская», 1807)
Житейские впечатления разнообразятся мелочами, но внимание к деталям обнаруживает не только поэтическую, но и вероучительную мораль: ведь все существующее под солнцем есть результат Божьего творения и, соответственно, природной взаимосвязи и целостности. «Лестница существ», как ее описывал, например, европейски прославленный современник Державина Шарль Бонне в трактате «Созерцание природы» (вослед многочисленным изданиям на европейских языках его русскоязычные переводы появятся в 1792–1796 и 1804 гг.)[101]101
Созерцание природы / Соч. г. Боннета <…> перевел Иван Виноградов; СПб.: Иждивением Ивана Сытина. Кн. 1–4. 1792–1796; Созерцание природы / Сочинение г. Боннета. <…> Смоленск: При Губернском правлении, 1804.
[Закрыть], представлялась поступательной последовательностью, в которой за камнями и кораллами следовали растения, животные, ангелы и архангелы. В этом ряду зайцы были на своем месте и, как подсказывали западноевропейские и русскоязычные переводы псалма Давида о сотворении мира, Господь неслучайно отвел им, как и прочим робким и беззащитным созданиям, свое пристанище: «высокие горы – сернам; каменные утесы – убежище зайцам» (Пс. 103: 18)[102]102
Цит. по: Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. М.: РОССПЭН, 1996. С. 328.
[Закрыть]. Занятно, что в еврейском тексте Библии речь при этом шла не о зайце, а о дамане (евр. «шафан») – небольшом травоядном млекопитающем, внешне схожем с бесхвостыми сурками или морскими свинками. Греческие и латинские переводчики древнееврейского текста о даманах знали понаслышке и поэтому в греческом и латинском текстах соответствующего псалма неведомое животное нашло для себя не менее диковинных родственников в дикобразе (chyrogryllius), еже (ericus) и зайце (lepus и молодой заяц: lepusculus)[103]103
Bauer J. Hase // Reallexicon für Antike und Christentum. Bd. 13. Stuttgart, 1986. S. 662–678. См. также: Dines I. The Hare and Its Alter Ego in the Middle Ages // Reinardus. 2004. Vol. 17. P. 73–84.
[Закрыть]. Церковнославянский перевод выбрал из них зайца, вполне соответствующего как «страноведческому», так и дидактическому контексту библейского пассажа, обретавшего символическое, но зато и общепонятное прочтение. В истолковании этого псалма в проповеди на Фомину неделю Стефан Яворский объяснял его смысл следующим образом:
Нападут ловцы на бедного зверя, выпустят псов гонящих, которые уже отверстым гортанием бедное животное гонят и хотят поглотити. Прибегает бедный заец с страхом и трепетом под камень какой великой, либо в разселину каменную впадет. О щастливый, который таким образом от страха избавляется! Камень прибежище заяцем <…> Камень же бе Христос, который ныне язвы свои дражайшыя аки разселины каменные показует, да быхом в них имели прибежище и сокровение[104]104
Цит. по: Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович. С. 328.
[Закрыть].
Об этом же псалме вспоминал протопоп Аввакум, обличая пагубу Никоновских реформ:
камень [… —] церковь божия; зайцы – християне православныя. Яко зайчик под камень хоронится от совы и от серагуя и от псов, наветующих ему, тако и христианин, в церковь приходя, избывает душегубителя диавола и бесов. А ныне и во церквах тех, яко под камень заец бедной не уйдет, яко совы, пастыри тово и ищут, как бы христианина погубити. И не токмо совы, но и псы тово и нюхают, сиречь своя братия, мирстии, друг друга предают. Люто время пришло[105]105
Аввакум. Послание Симеону, Ксении Ивановне и Александре Григорьевне // Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения. М.: Гослитиздат, 1960. С. 267–268.
[Закрыть].
Державин поэтически переложил 103‐й псалом в оде «Величество Божие» (1789), попутно русифицировав и среду заячьего обитания, «переселив» их с ливанских возвышенностей в среднерусскую полосу:
По высотам крутых холмов
Ты прядать научил еленей,
А зайцам средь кустов и теней
Ты дал защиту и покров[106]106
История переложений этого псалма в русской поэзии будет продолжена Ф. М. Глинкой, графом Д. И. Хвостовым и В. К. Кюхельбекером. У Глинки заяц становится кроликом: «Бежит над пропастию смело / Младая серна по горе; / И угнездился кролик белый / Во мшистой каменной норе» (Глинка Ф. Н. Собр. соч. Т. 1. Духовные стихотворения. М., 1869. С. 185), у Хвостова спасительные камни дополняются пустыней: «Все Бог воздвиг, и все создал. / Каменья, дикия пустыни / Он зайцам в жительство избрал, / Оленю гор крутых вершины» (Лирические стихотворения графа Хвостова. Т. 1. Кн. 1. СПб., 1828. С. 69), у Кюхельбекера заячье местообитание – повод к философскому обобщению: «Обитель серны – высота; / Под камнем дремлет заяц скорый; / Не жизнь ли полнит все места, / Поля, холмы, долины, горы?» (Кюхельбекер В. К. Избр. произведения: В 2 т. Т. 1. М.; Л., 1967. С. 387).
[Закрыть].
Интересно, что полувеком ранее М. В. Ломоносов, переложивший тот же псалом в середине 1740‐х годов, о зайцах не упоминал, оставаясь верным избранному им «высокому» стилю поэтического обращения к Господу. Но он же упомянул зайцев в «Кратком руководстве к красноречию» (1743) – в пересказе смешной и потому стилистически сниженной «картины» Филострата Старшего (1, 6):
Чтобы сей заяц у нас не убежал, станем его ловить с купидинами. Смотри, он сидит еще под яблонью и ест упавшие яблоки, а иные не доевши оставляет. Смотри, как его купидины ловят: иные бьют в ладоши: иной кричит, иной полой машет; некоторые, с криком налетая, на него нападают; другие гонятся за ним следом; иной с великим стремлением на него бросается. Заяц в другую сторону повернулся, и один ухватил его за лапу, однако заяц из рук вырвался. И так все засмеявшись упали, иной ниц, иной набок, иной навзничь и разными своими положениями разные свои прошибки показывали[107]107
Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию // Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 7: Труды по филологии 1739–1758 гг. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 358–359. Рассказ Филострата обширнее, чем его перевод у Ломоносова, и иконологически интересен как раз в той части, которая Ломоносовым опущена, объясняя, почему «купидины» (т. е. эроты) связаны с зайцами: «Пусть не ускользнет от нас и вот этот заяц; давай поохотимся за ним вместе с эротами. Обычно этот зверек сидит под яблонями и поедает упавшие на землю яблоки; обгрызши, он их бросает. И вот его-то эроты пугают и гонят: один хлопает в ладоши, другой криком пугает, а третий машет накидкой; иные с криком летают над ним, а те по следам пешком его гонят. Этот поднялся на воздух, как будто бы сверху хотел он на него наброситься, но заяц повернул в другую сторону; другой нацелился, чтобы схватить зайца за ногу, но выскользнул заяц из рук у него, а он уже думал, что держит его! Они все смеются; один из них упал и лежит на боку, другой уткнулся носом в землю, третий лежит на спине; все они в таких позах, в какие поставила их неудача. Но ни один из них не стреляет, пытаясь схватить зайца живым, как лучшую жертву для Афродиты. Ты, может быть, знаешь, что рассказывают о зайце, как сильно он склонен к делам Афродиты? Говорят, что самка его, еще кормя тех, кого она родила, во время кормления вновь становится матерью, и ставши беременной раньше, чем успеет родить, она таким образом никогда не бывает от родов свободной; самец ж осеменяет ее, как это в природе самцов, но выпустив семя, он делает самку беременной раньше, чем она успеет родить, что уж совсем против природы. А глупцы из влюбленных, добиваясь любви от любимых незаконно, путем заговоров приписали этому зайцу какую-то особую силу любовных чар» (Филострат Старший. Картины. Кн. 1, 5–6 // Филострат Старший. Филострат Младший. Картины. Каллистрат. Описание статуй / Пер. С. П. Кондратьева. Томск: Водолей, 1996. http://simposium.ru/ru/node/804). Ср. у Аристотеля: зайцы «спариваются и родят во всякое время; даже будучи беременными, сверхоплодотворяются, и родят в один месяц» (Аристотель. История животных. VI. 33. 181).
[Закрыть].

Пьеро ди Козимо. Венера, Марс и купидон (деталь). 1490. Берлинская картинная галерея. Фото: Sailko, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Заецъ. Миниатюра из лицевого списка «Слова о рассечении человеческого естества» (XVIII в.). Ин-т русской литературы (Санкт-Петербург), кол. И. Н. Заволоко, № 257, л. 28
Для европейской литературы пересказываемый Ломоносовым пассаж отсылал к длительной традиции аллегорически развлекательных, но и моралистических назиданий, в которых зайцам довелось выступать, с одной стороны, в роли трусливо-робких и похотливо-плодовитых созданий (в искусстве Возрождения и барокко ассоциируемых с Афродитой-Венерой и эротами-купидонами), а с другой – служить примерами религиозного смирения и надежды на помощь Господа[108]108
Подробно: Layard J. The Lady of the Hare. London: Faber and Faber, 1944; Evans G. E., Thomson D. The Leaping Hare. London: Faber, 1973.
[Закрыть]. Отмеченная уже в раннехристианских «Физиологах» способность зайца из‐за коротких передних лап быстрее бежать в гору, чем с горы, и тем самым спасаться от своих преследователей, дала жизнь наставительному призыву следовать тем же способностям на пути веры и добродетели – устремляться помыслами вверх к Господу, а не вниз – к греховным соблазнам и злу[109]109
Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996. С. 90.
[Закрыть].
Упование на Господа, как подсказывали те же аллегории, дает свои плоды – таков контекст распространенных в европейской церковной и светской живописи изображений зайцев, лакомящихся райским виноградом. В России традиция подобных аллегорий представлена скупее[110]110
Белова О. В. Славянский бестиарий: Словарь названий и символики. М.: Индрик, 2000. С. 120–122. Автор указывает на иконографию лицевых Шестодневов, на которых зайцы изображаются среди животных, благословляемых ангелом. См. также упоминания о зайцах в отреченной литературе и духовных стихах: Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. Т. I. СПб., 1863. С. 269; Буслаев Ф. И. Исторически очерки. Т. II. СПб., 1861. C. 20, прим. 1; Бессонов П. А. Калики перехожие. М., 1861. Ч. I. Вып. 1. С. 273 (№ 76, стих. 161–167), 292 (№ 80, стих. 231–233), 297 (№ 81, стих. 181–184). М. О. Скрипиль делал на основании этих материалов тот вывод, что «в фольклоре и письменности древней Руси заяц – это символ плодородия, духовного богатства, правды» (Скрипиль М. О. Повесть о Петре и Февронии муромских в ее отношении к русской сказке // ТОДРЛ. Т. VII. М.; Л., 1949. С. 159).
[Закрыть]. Один из ее литературных примеров – вирши Симеона Полоцкого из «Вертограда многоцветного» (1676–1680) о гонимом псами зайце, которого спасает «муж некто преподобный», здесь же излагающий мораль этого спасения своим спутникам:
Ко времени Державина поучительные истории о зайцах разнообразились также басней о «рогатом зайце» – образе, встречающемся в европейской иконографии животных-химер, но занятно обыгранном в басне Лафонтена (на сюжет Габриэля Фаерна) «Заячьи рога», вольно переведенной А. П. Сумароковым в 1760‐е годы («Заяц»), а позже Н. А. Львовым («Львиный указ», 1775; ранее считалось, что басня переведена И. И. Хемницером). По сюжету этой басни лев принимает указ, изгоняющий из царства животных рогатый скот, а заяц, принявший тень от своих ушей за рога, в страхе удирает вместе с козлами, баранами, волами и оленями, полагая, что теперь его тоже сочтут рогатым. В. В. Капнист вспоминает об этой басне в комедии «Ябеда» (1793) в самохарактеристике Кривосудова – оправдывающего свое бездействие перед несправедливостью разумной осмотрительностью.

Ж.-Б. Удри. Иллюстрация в басне Лафонтена «Львиный указ». Gravure de Pieter Franciscus Martenisie d’après Jean-Baptiste Oudry, édition Desaint & Saillant, 1755–1759. Фото: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
Кривосудов:
Ты знаешь, ведь у нас
И заячьи уши рогами назовут,
То пойдут уши тпруши.
Фекла:
Вот трусость ты свою сам назвал пустяком,
А в тот же самый миг явился русаком,
Но, старое дитя, скажи мне, как не стыдно
Вдруг струсить от того, что ложно очевидно?[112]112
Русская комедия и комическая опера XVIII века / Под ред. П. Н. Веркова. М.; Л.: Искусство, 1950. С. 614–615. «Тпруши» – сигнал, которыми подзывали коров, – здесь указывает на рога.
[Закрыть]
Позднее оригинальные и переводные басни И. И. Дмитриева («Заяц и перепелиха», 1795; «Ружье и заяц», 1803), Ю. А. Нелединова-Мелецкого («Заяц и лягушки») и И. А. Крылова («Олень и заяц», 1788; «Заяц на ловле», 1813) закрепят за зайцами узнаваемые амплуа трусливого либо равно трусливого и хвастливого персонажа. Исключения в этом ряду редки – хотя они и есть (так, например, в незавершенной басне Крылова «Осел и заяц» хвастуном выступает осел, уверяющий, что он может летать, «как орлиха», а заяц воплощает иронию и здравый смысл). Юный С. П. Жихарев, прочитав в 1805 году объявление об издании «Дамского журнала», главным предметом которого будет «нежная чувствительность, сопряженная с моралью», делает дневниковую запись о своем намерении «попасть в число почтенных российских поэтов», а для начала послать в журнал переведенные им куплеты из комической оперы «Братья-охотники». Судя по этим куплетам из не дошедшей до нас оперы, три братца спорят о том, на кого им сподручнее охотиться – на зайцев, уток или волков, но сговориться им сложно начиная с зайца:
Заячьи ножки
Больно востры,
Все их дорожки
Страх как пестры.
Заяц больно чуток,
Нам тут не клад…
Спорщиков – «милых дружочков» – примиряет кокетливая хозяйка постоялого двора, угостив каждого их них «вкусным кусочком» и налив им бражки. Автор дневника расценивает свое произведение как вполне соответствующее программе нового журнала: «Уж если тут мало нежной чувствительности, сопряженной с моралью, так где же искать ее более?»[113]113
Жихарев С. П. Записки современника: В 2 т. Т. 1. Дневник студента. Л.: Искусство, 1989. С. 146, 147.
[Закрыть]
Таковы контексты, в которых намечены образы зайцев как литературных персонажей. Важно подчеркнуть вместе с тем, что заяц, как и другие животные в баснях и комедиях, указывает на характеры и ситуации, связанные с ним весьма условно. Пусть наблюдение за зайцами в природе и способно уверить нас в том, что зайцы трусливы, но увериться в том, что зайцы еще и хвастливы, возможно только с учетом их басенной персонификации. Средневековые физиологи, риторика анималистических аллегорий и, наконец, басни имеют в виду поведение не животных, но людей. Можно думать поэтому, что уже сам отход от традиции таких сопоставлений оставляет для зайцев в литературе лишь ту изобразительную роль, которая поддерживает не более – но и не менее, – чем убедительность творческого воспроизведения действительности, ее художественного подобия и социально приемлемого копирования.
Пример Державина показывает, что интерес не к аллегорическому, но именно к миметическому письму в этом случае может быть понят как принципиальный. Литературных предшественников у Державина в этом отношении не было, но были изобразительные – в складывающейся традиции живописного анимализма, освобождающегося в те же годы от назидательности барочного натюрморта. В России становление анималистического жанра связывается с именем немецкого художника Иоганна Фридриха Гроота, переехавшего в 1743 году Россию и вплоть до своей смерти в 1801 году остававшегося ведущим живописцем «по классу зверей и птиц». «Зверопись» Гроота, наследуя уже сложившейся традиции немецкой анималистической живописи, выделялась продуманностью композиции и тщательной прорисованностью деталей, но и изобразительной самодостаточностью животных персонажей. Охотничьи сцены, «портреты» мертвых и живых зверей были занимательны на его полотнах не аллегорическими ассоциациями (пусть таковые и могли традиционно усматриваться в инерции анималистических напоминаний vanitas vanitatis – о бренности живого, обманчивости надежд, бремени соблазнов, неотвратимости смерти), но прежде всего красотой самих изображений и увлекательностью прозреваемых за ними историй. Участниками таких историй у Гроота оказывались самые разные звери и птицы – попугаи и утки, пеликаны и цесарки, совы и журавли, соколы и павлины, леопард и ягненок, собаки и кабаны, рыси и зайцы[114]114
Портнова И. В. «Зверопись» немецкого художника XVIII века Иоганна Гроота и его роль в формировании русской анималистической школы // Вестник МГУКИ. 2009. Т. 30. № 4. С. 240–246. См. также: Бардовская Л. В. Коллекция картин И. Ф. Гроота в Екатерининском дворце-музее // Памятники культуры: новые открытия. Письменность, искусство, археология: Ежегодник, 1977. Л.: Наука, 1977. С. 304–308.
[Закрыть]. Среди дошедших до нас заячьих сюжетов Гроота: «Заяц на рогоже» (1748), «Борзая за игрой / Собака с зайцем в зубах» (1755), «Кот и мертвый заяц» (1777), «Собака и заяц» (1782). Участь всех изображенных Гроотом зайцев плачевна, они либо уже мертвы, либо вот-вот окажутся таковыми – иллюстрация того привычного обстоятельства, что заяц – это дичь и охотничья добыча[115]115
См., впрочем, мнение современного искусствоведа, усматривающего в картине «Кот и мертвый заяц» «эмблематический вывод о превратности бытия и колесе фортуны» (Вдовин Г. Заслужить лицо: Этюды о русской живописи XVIII века. М.: Прогресс-Традиция, 2017).
[Закрыть].

И. Ф. Гроот. Орел, поймавший зайца. 1779. Национальный музей, Стокгольм
В поэзии Державина неаллегорические и небасенные упоминания о зайцах обнаруживают схожую дидактику в сфере литературной поэтики, утверждающей ценность не монологического назидания, а миметического повествования, рассчитанного на то, что оно будет «считано» читателем не с оглядкой на повторяющиеся образцы жанра, а с опорой на собственную наблюдательность и житейский опыт.
Поэтические особенности лирики Державина нашли продолжение и развитие в творчестве А. С. Пушкина – обстоятельство, кажущееся из сегодняшнего дня тривиальным, но небезразличное для понимания той революционизирующей роли, которую сыграла новизна державинской поэтики в формировании и эволюции пушкинской поэзии. Дэвид Бетеа, специально и, на мой взгляд, справедливо подчеркивающий жизнестроительный потенциал «державинского мифа» в психологии Пушкина, не останавливается на лексико-стилистических нюансах, которые роднят их произведения[116]116
Бетеа Д. Воплощение метафоры: Пушкин, жизнь поэта. М.: ОГИ, 2003. С. 155–248. Свод упоминаний о Державине в текстах Пушкина: Данилов Н. М. Пушкин о Державине: К столетнему юбилею со дня кончины Г. Р. Державина. Казань, 1916.
[Закрыть]. Между тем уже восприятие современниками «Евгения Онегина» достаточно показывает, сколь непривычными в их глазах были такие особенности пушкинской лирики, которые являются равно характерными и для поэзии Державина. Таковыми прежде всего нужно счесть «прозаизмы», инкорпорируемые в контекст поэтического вдохновения (в примечаниях к своему роману Пушкин симптоматично иронизировал над критиками, возмущенными неуместно, по их мнению, возвышенными описаниями того, как «мальчишки катаются на коньках», а с другой стороны, неприличием слова «дева» по отношению к простой крестьянке, а «девчонки» – по отношению к благородным барышням). Поэтические упоминания о зайцах у Пушкина идут в том же ряду. Таково сравнение Фарлафа с зайцем в «Руслане и Людмиле» (1817–1822):
Фарлаф, узнавши глас Рогдая,
Со страха скорчась, обмирал
И, верной смерти ожидая,
Коня еще быстрее гнал.
Так точно заяц торопливый,
Прижавши уши боязливо,
По кочкам, полем, сквозь леса
Скачками мчится ото пса.
В другой стихотворной сказке – «Сказке о попе и о работнике его Балде» (1831) герой дурит с помощью зайцев бесенка. В конспективной записи Пушкина эта история излагается так:
У Балды были в мешке два зайца. Он одного пустил, бесенок, запыхавшись, обежал, а Балда гладит уже другого, приговаривая: «Устал ты, бедненький братец, три раза обежал около моря». Бесенок в отчаянье.
Как и Державин, Пушкин описывает свои деревенские досуги и также поэтизирует охоту на зайцев.
Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю
Слугу, несущего мне утром чашку чаю,
Вопросами: тепло ль? утихла ли метель?
Пороша есть иль нет? и можно ли постель
Покинуть для седла, иль лучше до обеда
Возиться с старыми журналами соседа?
Пороша. Мы встаем, и тотчас на коня,
И рысью по полю при первом свете дня;
Арапники в руках, собаки вслед за нами;
Глядим на бледный снег прилежными глазами;
Кружимся, рыскаем и поздней уж порой,
Двух зайцев протравив, являемся домой.
(«Зима. Что делать нам в деревне?», 1829)
Однако в упоминаниях о такой охоте у Пушкина появляется и то новое, что у Державина отсутствует, и это новое – своего рода сатирическая нота. Даже в вышеприведенном стихотворении травля зайцев рисуется времяпрепровождением захватывающим, но и праздным, занятием «от скуки» и «от нечего делать»[117]117
См., впрочем, уже у В. В. Капниста в комедии «Ябеда» (1794) слова Доброва, критикующего безделье и пьянство неправедных судей, один из которых «до травли русаков / Охотник страстный: с ним со сворой добрых псов / И сшедшую с небес доехать правду можно» (Русская комедия и комическая опера XVIII века С. 540). У А. Ф. Мерзлякова в стихотворении «Пир»: «Там, в кружке младых зевак, / В камнях, золоте дурак / Анекдоты повествует, / Как он зайцев атакует» (1807). В «Псовом охотнике» В. Левшина (1810) охота на зайцев прозаически описывается как азартная для охотников и бессмысленно безжалостная к зайцам: «Никакая иная охота не производит такого истребления заячьему роду, как псовая: ибо что ни найдут собаки, бывает почти все истреблено, и горячий охотник не перестанет травить и душить зайцев, пока оные еще попадаются» (Левшин В. А. Псовый охотник, или Основательное и полное наставление о заведении всякого рода охотничьих собак. Ч. 1. М., 1810. С. 246). Из дневника С. П. Жихарева за 1805 год узнаем еще об одном развлечении с зайцами, привычном для Москвы этих лет: это так называемая «садка зайцев» – травля собаками заранее пойманных животных. Одна из таких потех разыгрывалась за Тверской заставой на Ходынском поле. Жихарев описывает анекдотический случай во время очередной садки – «смешную и жалкую» драку двух охотников, бахвалившихся друг перед другом своими собаками, только одна из которых сумела догнать зайца и вздернуть его «на щипец» (Жихарев С. П. Записки современника. Т. 1. С. 141). Щипец – морда гончей собаки.
[Закрыть]. В неоконченной драме «Русалка» (1829–1832) мельник саркастически характеризует «труд» князей: «И что их труд? травить лисиц и зайцев, / Да пировать, да обижать соседей». В том же регистре упоминается охота с собаками на зайцев в «Барышне-крестьянке» (1830), «Истории села Горюхина» (1830) и «Дубровском» (1833).
Литературные примеры заячьих мотивов в творчестве Пушкина будут не полны, если не упомянуть о «заячьем тулупчике», который Петр Гринев, герой «Капитанской дочки» (1836), дарит Пугачеву на постоялом дворе и который в конечном счете спасает ему жизнь. Для любителей интертекста, распространяемого на биографию автора, мотив этого тулупчика открывает безбрежное пространство для догадок на тему, в какой мере его «спасительная» функция навеяна известной историей о том, как заяц, перебежавший суеверному Пушкину дорогу, когда он собирался ехать в Петербург, заставил его отложить поездку и тем самым спас его от участи приятелей-заговорщиков, участвовавших 14 декабря 1825 года в выступлении на Сенатской площади[118]118
Обстоятельства, помешавшие Пушкину выехать в Петербург, восстанавливаются на основании трех поздних свидетельств: согласно устному рассказу дочери соседки Пушкина, П. А. Осиповой (опубликованному М. И. Семевским в 1866 году), поэт «отправился было в Петербург, но на пути (из Тригорского в Михайловское. – К. Б.) заяц три раза перебегал ему дорогу, а при самом выезде из Михайловского Пушкину попалось навстречу духовное лицо. И кучер, и сам барин сочли это дурным предзнаменованием» (Семевский М. И. Прогулки в Тригорское // Санкт-Петербургские ведомости. 1866. № 157; цит. по: Вересаев В. Пушкин в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников: В 2 т. Т. 1. СПб., 1995. С. 281); в воспоминаниях М. П. Погодина, ссылающегося на рассказ самого поэта, не единожды слышанный им «при посторонних лицах», заяц перебегал Пушкину дорогу дважды – один раз на пути из Михайловского в Тригорское и один раз на обратном пути в Михайловское (Погодин М. П. Простая речь о мудреных вещах. М., 1875. Отд. II. С. 24; цит. по: Вересаев В. Пушкин в жизни. Т. 1. С. 281); П. А. Вяземский в письме к Я. К. Гроту, также ссылаясь на слышанное им от самого Пушкина, подтвердил воспоминания Погодина («о предполагаемом приезде Пушкина incognito в Петербург <…> верно рассказано»), но исправил их касательно числа зайцев: «Но, сколько помнится, двух зайцев не было, а только один» (Кн. П. А. Вяземский – Я. К. Гроту в 1874 году. К. Я. Грот, Пушкинский лицей. СПб., 1911. С. 107; цит. по: Вересаев В. Пушкин в жизни. Т. 1. С. 282). Рассказ Пушкина вызывал сомнения пушкинистов (напр.: Edmonds R. Pushkin. The Man and His Age. London, 1994. P. 95; Druzhnikov Ju. Prisoner of Russia. Alexander Pushkin and the Political Uses of Nationalism. London, 1999. P. 283), а Андрей Битов, попытавшийся разобраться с этими обстоятельствами, пришел к выводу, что поэт вообще не отъезжал от собственного подъезда (Битов А. Вычитание зайца. М., 2001. С. 49). Семь лет спустя такая же встреча якобы заставит Пушкина изменить маршрут на подъезде к Оренбургу. «Опять я в Симбирске, – пишет поэт жене 14 сентября 1833 г. – Третьего дня, выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Черт его побери, дорого бы дал я, чтоб его затравить. На третьей станции стали закладывать мне лошадей – гляжу, нет ямщиков, – один слеп, другой пьян и спрятался. Пошумев изо всей мочи, решился я возвратиться и ехать другой дорогой». Среди рисунков поэта также есть изображение бегущего зайца – в рукописи к стихотворению «Анчар» (1828).
[Закрыть]. Оставшийся в Михайловском Пушкин пишет «Графа Нулина», который начинается с описания сборов на охоту, а заканчивается сценой, где нежданно вернувшийся с охоты муж Наташи не только неведомо для себя «спасает» ее от ухаживания графа, но и гостеприимно предлагает ему отобедать только что затравленным на охоте зайцем-русаком[119]119
«Между зайцами есть особливый род, называемый русаками. Оные гораздо больше обыкновенных ростом и шерстью бывают серые как летом, так и зимою. Держатся они более на просеках и межах близ пашен, на которых и питаются зеленью» (Карманная книжка для егерей и птицеловов. М., 1822. С. 54).
[Закрыть]. Дополнительным интертекстуальным штрихом к истории создания этой поэмы является то, что она была написана 13 и 14 декабря – то есть в те роковые дни, которые решили судьбу декабристов. Спустя пять лет Пушкин напишет «Заметку о графе Нулине», которая обрывается фразой «бывают странные сближения». Ю. М. Лотман объяснял ее с отсылкой к словам из известного Пушкину письма Л. Стерна, адресованного негру Игнасу Санчо: «Мелкие события, Санчо, сближаются столь же странно, как и великие». В интерпретации Лотмана, в ночь на 14 декабря 1825 года Пушкин «размышлял об исторических закономерностях и о том, что из‐за сцепления случайностей великое событие может не произойти»[120]120
Лотман Ю. М. Три заметки к пушкинским текстам // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. СПб.: Искусство, 2003. С. 336, 337.
[Закрыть]. В этом утверждении Пушкину или по меньшей мере его читателю позволительно было быть суеверным. Событие, не случившееся с поэтом, совпало с созданием текста, в котором нарастающая интрига также обрывается происшествием, столь же ничтожным, сколь и многозначительным, и ключевое слово для этого происшествия: заяц.

А. С. Пушкин. Рисунок зайца в рукописи «Анчара». 1829. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
Литературный канон, который мы в ретроспективе связываем с эволюцией русской литературы XIX века, складывается не вдруг, и тем важнее оценить то новое, что привнесено Пушкиным в контекст массового чтения его современников. Последнее же, насколько можно судить, по тиражам сочинений других авторов, в разных социальных стратах определяется преимущественно спросом на приключенческие и исторические романы, мелодраматическую и дидактическую поэзию[121]121
Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М.: Новое литературное обозрение, 2001.
[Закрыть]. Литературный анимализм в этих случаях оставался подчиненным традиционной топике упоминаний, описаний, сравнений и уподоблений. Так, например, о травле зайцев упоминает популярный писатель и недоброжелатель Пушкина Фаддей Булгарин, описывая в своем широко читавшемся современниками романе «Иван Иванович Выжигин» (1829) застольную похвальбу досужих охотников:
Разговор был самый занимательный и жаркий. Каждый хвалил своих собак, лошадей, свои ружья и своих охотников, рассказывая любопытные анекдоты о травле зайцев и лисиц, о знаменитых победах, одержанных над волками и медведями[122]122
Позднее из переписки Булгарина станет известен его недоброжелательный отклик на смерть А. С. Пушкина, уподобляемую им смерти зайца: «Жаль поэта <…>, – а человек был дрянной. Корчил Байрона, а пропал, как заяц» (письмо А. Я. Стороженке, от 4 февраля 1837 года: Стороженки: Фамильный архив. Т. 3. Киев: Типография Г. А. Фронцкевича, 1907. С. 29). О контексте этого высказывания см.: Кардаш Е. «Корчил Байрона, а пропал, как заяц»: Опыт комментария // Новое литературное обозрение. 2016. № 4 (140). С. 124–136.
[Закрыть].
Попутно басенной и фольклорной традиции с зайцами привычно сравниваются пугливые персонажи. В «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова Грушницкий лживо похваляется тем, что он едва не схватил Печорина, тайно посещавшего княжну: но тот «вырвался и, как заяц, бросился в кусты», – эти слова слышит Печорин, и клевета стоит Грушницкому жизни. Его же поэма «Беглец» (1840) начинается с обидных для кавказцев строк:
Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла[123]123
См. ту же метафору и в схожем контексте в письме генерала Цицианова, угрожавшего в 1803 году джаробелоканским лезгинам: «Попалю всё и водворюсь навеки в вашей земле <…> вы, яко зайцы, уйдете в ущелья, и там вас достану» (Гордин Я. Кавказ: земля и кровь. СПб., 2000. С. 76).
[Закрыть].
Особняком по богатству анималистических мотивов в русской литературе стоит проза Н. В. Гоголя, искушающая к тому, чтобы искать – и, конечно, находить – в его сочинениях аллегории разной степени назидательности или (что кажется мне более верным) примеры языковой игры и жанровой травестии. В ряду таких примеров не обойдены и зайцы – помимо упоминаний об охоте на них, которая предстает у Гоголя чем-то вроде национально-самобытной страсти и вместе с тем времяпрепровождением, характерным для досужих дармоедов. В «Ревизоре» травля зайцев – любимое занятие судьи и городничего. В «Коляске» о такой охоте пекутся окружные помещики. В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1835) первый из поименованных истцов сам ведет себя как заяц, когда спешит подать жалобу на своего недруга в миргородский суд. В «Мертвых душах» – поэме, как отмечалось уже ее первыми интерпретаторами, создающей местами впечатление намеренного анималистического ребуса – сцена разговора двух приятных дам, гадающих о тайном намерении Чичикова, вызывает образ русского барина, устремляющегося в конную погоню за зайцем. Ноздрев, показывающий Чичикову свое поместье, уверяет его в том, что «вот на этом поле <…> русаков такая гибель, что земли не видно», и что он «сам своими руками поймал одного за задние ноги» («„Ну, русака ты не поймаешь рукою!“ – заметил зять. „А вот же поймал, нарочно поймал!“ – отвечал Ноздрев»). Хлебосол Собакевич рисует перед Чичиковым устрашающую картину губернаторской кулинарии: «Ведь я знаю, что они на рынке покупают. Купит вон тот каналья повар, что выучился у француза, кота, обдерет его, да и подает на стол вместо зайца». (В юбилейном издании А. Ф. Маркса (СПб., 1901 года) восклицание Собакевича дополнено иллюстрацией художника Мечислава Михайловича Далькевича, на которой изображен зловещего вида повар, одной рукой держащий на весу за шкирку кота, а другой сжимающий здоровенный нож.)
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































