Читать книгу "Метафизика Достоевского"
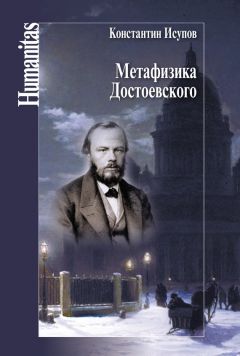
Автор книги: Константин Исупов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Христоморфизм. Герой как живая икона
Когда говорят о Достоевском – художнике идеи, о его герое-идеологе, имеют в виду нечто, напоминающее позицию средневекового «реализма», с каковой, в пику «номиналистам», утверждалось, что общие идеи существуют реально и обладают специфическим бытием. С другой стороны, поэтика романного образа героя – носителя идеи еще более напоминает средневековую же, неоплатонически окрашенную, византийскую эстетику тождества образа и прообраза в иконе. По ее постулату, иконное изображение не является условным образом Кого-то, но есть этот или эта «Кто-то», явленное наяву во всей полноте безусловного существования. Иконопись, в отличие от портрета, лишена категории условности. В автопортрете мы видим не автора, но образ автора; в иконе «Моление о Чаше» мы ad realiora соприсутствуем Гефсиманской молитве в момент ночного борения Христа с предощущением неотменяемой Голгофы.
Так понятое и догматически утвержденное, тождество образа и прообраза позволяет говорить, что молящийся богородичной иконе общается не с образом (т. е. «картинкой») Девы Марии, но с Самой Приснодевой (ликом Ее): Она присутствует реально и во всех аспектах Своего жития в любой иконе богородичного цикла, если эта икона освящена. Они, эти иконы, не показывают нам образы, но являют образа, подлинные лики Богоматери.
Вряд ли большой натяжкой будет утверждение, что князь Мышкин – вербальная икона Христа. Конечно, молиться на него ни в романной действительности, ни в реальности чтения никто не собирается, но в нем есть метафизическое задание христоподобия, что, в свою очередь, обеспечивается авторской ориентацией поэтики характера на двуединую категорию мистического богословия: «образ и подобие».
В рамках словесной материи романа Мышкин иконичен. По византийскому уставу эстетического тождества образа и прообраза живущий в Мышкине Христос освящает всю вербальную предъявленность образа (= лика) Мышкина посреди безбожного мира. Забегая вперед, скажем, что при всех явных неудачах своего христологического проекта (особенно если оценивать его с точки зрения догматической[35]35
Лурье В.М. Догматика «религии любви». Догматические представления позднего Достоевского // Христианство и русская литература / Отв. ред. В.А. Котельников. СПб., 1996. Сб. второй. С. 290–309.
[Закрыть]) один факт присутствия «князя-Христа» освящает русский труд художественного письма[36]36
Немецкий автор, знавший толк и в Священной истории («Иосиф и его братья», 1933–1943), и в играх демонического Загробья («Доктор Фаустус», 1947), не зря говорил о «святой русской литературе». Правда, другой немец, Г. Гессе, резонно считал эту святость «опасной».
[Закрыть].
В черновиках «Братьев Карамазовых» встречаем Зосимово: «Образ Христа храни и, если возможешь, в себе изобрази» (15, 248); до этого: «Что есть жизнь? Определение себя наиболее, есмь, существую. Господу уподобится, рекущему; аз есм сый, но уже во всей полноте всего мироздания. И потом все отдать. <…> Как и Бог отдает всем в свободе. К Слову; и возвращают<ся> к Нему, и опять исходят, и это есть жизнь» (15, 247)[37]37
«Приидет к тебе Христос, и явит тебе утешение свое, когда приготовишь Ему внутрь себя достойное жилище. <…> Частое у него обращение с внутренним человеком» (Фома Кемпийский. О подражании Христу (ок. 1418) / Пер. К.П. Победоносцева. Брюссель, 1983. С. 70–71; новый перевод – без указания имени переводчика – в сб.: Богословие в культуре Средневековья. Киев, 1992). Книга эта, как известно, была в библиотеке Достоевского. О русской судьбе христианского мимесиса см.: Топоров В.Н. Идея святости в Древней Руси. Вольная жертва как подражание Христу – «Сказание о Борисе и Глебе» // Russian literature (Amsterdam). 1989. Т. XXV–I. Р. 1–100.
[Закрыть].
«Изображение Христа» в сердечном зрении «внутреннего человека» – старая задача христианской пропедевтики, идущая от Посланий Павла («…даст вам, по богатству Славы Своей, крепко укрепиться духом Его во внутреннем человеке» < Еф. 3,16; ер. Рим. 7, 22; 2 Кор. 4, 16>)[38]38
Комментарий см. в сочинении А. Швейцера «Мистика Апостола Павла» (1930): Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992. С. 422–423.
[Закрыть] и Петра («сокровенный сердцем человек» <1 Пет. 3, 4>). Она развита блаж. Аврелием Августином в концепции истины, что «обитает во внутреннем человеке (in interiore homine habitat veritas)» – Об истинной религии, 39, 72. Проза Достоевского, насыщенная интуициями сердечного знания, преемственно связана с философией сердца ап. Павла, св. Августина, св. Франциска Ассизского, св. Фомы Кемпийского и Паскаля[39]39
Связь «Исповеди» Августина с прозой Достоевского может быть прослежена, во-первых, на уровне ситуаций: детский голос, повторяющий Августину нараспев: «Возьми, читай! Возьми, читай!» (Conf. 8, 12) – и автор открывает книгу наугад, чтобы пережить внутреннее воскресение к светлой жизни. Этому эпизоду неявно соответствует сцена с чтением Евангелия в «Преступлении и наказании». Во-вторых, на уровне «псевдоцитат»; см. чуть ли не «ставрогинское»: «Причина моей испорченности была ведь только моя испорченность. Она была гадка, и я любил ее; я любил погибель; я любил падение свое; не то, что побуждало меня к падению; самое падение любил я, гнусная душа, скатившаяся из крепости Твоей в погибель, ищущая желанного не путем порока, но ищущая самый порок» (Conf., 2, 4). Но еще важнее, в третьих, – жанровая связь с августиновой «Исповедью» (она же метанойя, философия смерти и метафизика встающих от сна души и духа) с ее пафосом самоотчета и покаяния. Исповеди Августина, Руссо и Л. Толстого, как и проза Достоевского – огромные по объему покаянные молитвы.
См.: Метафизика исповеди. Пространство и время исповедального слова: Материалы междунар. конф. С.-Петербург, 26–27 мая 1997 г.) СПб., 1997 (библ.); Уваров М.С. Архитектоника исповедального слова. СПб., 1998.
[Закрыть].
В XX веке об эпифании Лика Христова в лице и сердце человеческом можно было говорить уже чуть ли не в обыденных интонациях. Так, в ироническом ключе, но с удержанием трагических контекстов, обыгрывает тему евхаристической жертвы М. Пришвин в «Мирской Чаше» (1922). Голодному и замерзающему герою мнятся собственные похороны в сопровождении старика, отца Афанасия: «Но что самое главное открылось в эту минуту, что отец Афанасий и есть Христос, сам»[40]40
Пришвин М.М. Свет и Крест. СПб., 2004. С. 405; курсив автора.
[Закрыть].
По установлениям христианской антропологии, Образ Божий положен в человека, дан ему как дар по Благодати, чтобы он стал подобием Божиим. Образ Божий дан человеку (Еф. 4, 8), а богоподобие задано ему как свободному существу в промыслительной надежде Творца на достойное исполнение человеком своего пути в трансцендентном плане истории. «Поэтому преподобный Нил Синайский и говорит, что совершенный монах “всякого человека почитает как бы Богом после Бога”. Личность “другого” предстанет образом Божиим тому, кто сумеет отрешиться от своей индивидуальной ограниченности, чтобы вновь обрести общую природу и тем самым “реализовать” собственную свою личность»[41]41
Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991. С. 93. Нил Синайский цитируется по источнику: Добротолюбие. М., 1913. Изд. 3. Т. 2. С. 222. См. также статью В.Н. Лосского «Богословие образа» (1957–1958) в его в книге «Богословие и боговидение» (М., 2000. С. 303–319).
[Закрыть].
Речь идет не о том, что Достоевский написал роман о Христе. Разговор о другом: как человек православный, писатель знал, что Христос, обитающий во всех причастниках Его Истины, возвращает человека к его внутренней иконичности. Она, эта внутренняя «икона», данная личности как благодатный дар и как задание богоподобия, и есть та метафизическая реальность, с которой общается, вступает в прение, любит и взыскует другая личность, так же озаренная изнутри светоносной иконичностью.
В Мышкине дан антропологический проект нового человека, «христоморфизм» которого укоренен в метафизическом чине его духовного организма и овнешнен в поступке непосредственно и вне моральной цензуры со стороны готовых этических доктрин. Кроме той, что запомнилась по Нагорной проповеди. Может быть, Достоевский мыслил своего «нового человека» и как «последнего» в дольней эмпирии и в перспективе Апокалипсиса – преображения, искупления и спасения твари: «…Все будут воистину новые люди, Христовы дети, а прежнее животное будет побеждено» (Дневник писателя. 1880, август – 26, 164). Залог Преображения – кардинальное обновление ветхого человека: «Кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор. 5, 17). «Новый человек» Евангелия возможен по эту сторону бытия, если на путях подражания Христу «облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4, 22; ер. Еф. 2, 15).
Подвижников Христового образа жития воспринимали как учительные образцы праведного поведения; в них свидетельствует о Себе Христос в неприкровенной явленности. Таким видели Франциска Ассизского – самого популярного на Руси католического святого; для учеников он был живой иконой: «Можно ли считать еретическим богохульством то, в чем сами себе не смели признаться ближайшие ученики ев. Франциска, о чем они отваживались говорить только отдаленными намеками, – то, что в сыне Пьетро Бернардоне они узнавали назорейского плотника? Не служит ли все это поразительнейшим свидетельством идеальной реальности всякой подлинно великой личности, ее метафизической, никакой причинностью не обусловленной, необходимости?»[42]42
Бицилли П.М. Образ совершенства, 1937 // Бицилли П.М. Трагедия русской культуры. Исследования, статьи, рецензии. М., 2000. С. 376; курсив автора. О францисканских мотивах у Достоевского см.: Ветловская В.Е. Pater Seraphicus // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1983. Т. 5. С. 163–178; Исупов К.Г. Франциск Ассизский в памяти русской культуры // Филологические исследования. Донецк, 2001. Выл. III. С. 50–79; вариант – на итальянском языке в сб.: Francesco d’Assisi nella memoria Russa // San Francesco e la della cultura russa. Venezia, 2001. P. 21–56.
[Закрыть]
Чувство Света Невечернего (одно из имен Христа), каким самоочевидно озаряется читатель «Идиота», делает излишним построение какого-то специального «богословия текста» и впадение в теологическую герменевтику романной прозы.
И все же о присутствии в этих страницах Святого Духа (как понимал его Достоевский: «Святой Дух есть непосредственное понимание красоты» (11, 154)[43]43
Ср. из «Записной книжки 1864–1865 гг.»: «Как можно больше оставить на живого духа – это русское достояние. Мы приняли Святого, Духа, а вы нам несете формулу» (20, 205). См.: Касаткина Т. Об одном свойстве эпилогов пяти великих романов Достоевского // Достоевский в конце XX века: Сб. статей / Сост. К.А. Степанян. М., 1996. С. 67–146.
[Закрыть] говорить можно и должно, не впадая при этом ни в ересь, ни в пафос неумеренной комплиментарности.
На уровне метафизики общения развернуто у Достоевского то многоголосое пространство «неслиянных и нераздельных», автономных и сведенных в общее проблемное поле сознаний, о котором так выразительно и с таким уместным применением богословской тринитарной терминологии писал М.М. Бахтин.
Этими осторожными вкраплениями «просто слов» из Троичного богословия автор книги о Достоевском 1929 г. давал понять еще не утратившему христианской совести читателю, что Троица, Единомножественное Божественное Единство – это тот минимум соборности, который и дольнему миру завещан как минимум приязненной человеческой общности: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20).
Если говорить о главном герое «Идиота», то метафизический интерес лежит в той области его поступков, где он выполняет роль Третьего в контексте приведенных выше слов Апостола или замечательной формулы отца Павла Флоренского: «Дружба – это видение себя глазами другого, но пред лицом третьего, а именно Третьего»[44]44
Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины (1914). М., 1990. Т. 1/1. С. 439. Современную трактовку «Третьего» см.: Грякалов АЛ. Третий и философия Встречи // М. М. Бахтин: pro et contra. Антология / Сост., вступ. ст., комм. К.Г. Исупова: В 2 т. СПб., 2002. Т. 2. С. 327–345; ответная реплика комментатора: Там же. С. 527–530. Для Достоевского-писателя «Третий» выступает в двух ипостасях: это или 1) всесторонне внимающий своим неустанно говорящим героям вездесущий и внеприсутствующий автор-наблюдатель (он не оформлен словесно как «рассказчик», «хроникер», «летописец», его нет даже в формах несобственно-прямой речи), или 2) в отраженной и авторски предсказанной позиции возможного читателя. Ср. рассуждения М. Пришвина о Другом как друге-читателе, а также: «Третий, сообщник, читатель, что воздействует на меня, – это и есть рассуждение, это он во мне говорит. <…> Это третий, другой, читатель, что любит меня <…>, без его настоятельного присутствия я ни на что не способен, да и не было бы без него никакого внутреннего опыта» (Батай Ж. Цит. соч. С. 118).
[Закрыть].
Нельзя сказать, что присутствие Мышкина непременно сопровождается идиллией духовной экклезии, дружащей людей на почве взаимной приязни. Скорее, наоборот, ему сопутствует, как не раз замечено, атмосфера скандала. Но можно сказать и так, что в топосах общения, куда заносит князя, у окружающих появляется шанс милосердного взаимопонимания (в метафизическом плане – шанс быть подлинным наследником спасения). За редчайшими исключениями, он не использован; Алеше Карамазову удача сопутствует чаще. Мышкин в романе – единственный метафизический инициатор и медиатор экклезии, и в этом вся трагедия его бесполезного христианства. Роман «Идиот» – это мистерия искушения и бесконечного одиночества в пустыне человеческой. Христианская персонология давно знает экзистенциал «одиночество» как тему жизни личности и как творческий мотив. Стоит присмотреться к нему внимательнее.
Метафизика одиночества
Одиночество – социально-психологическая категория и философема, фиксирующие статус коммуницирующей дистанции. Ее применимость в роли онтологического параметра бытия и феноменов внечеловеческого мира («одинокая природа» романтиков) может быть допущена лишь как метафора: одиночество – способ индивидуального существования, потребность в котором рождается внутри экзистентных ситуаций новозаветного катастрофического историзма (см.: Кн. Эккл.), с его чувством вброшенности в хаос случайных детерминаций. Эти аспекты картины мира осложнены античным переживанием Судьбы как череды кардинальных инициаций и опытов разрывов общинно-родовой сплошности этноязыкового сознания. Одиночество знаменует не конфликт между обществом и личностью, но напряженный диалог двух ипостасей человека: индивидуума (социализованного «я») и личности (уникального самосознания): если первый одинок в пустоте обесценившегося и неальтернативного мы-бытия (Марк Аврелий. Наедине с собой), то вторая столь же безысходно одинока, коль скоро охранение «я» своих границ связано с борьбой против агрессии овнешняющего «я» мира (персонализм, экзистенциализм).
Одиночество как тип религиозного поведения приходит с монотеистической идеей личного Бога, институтом монашества, аскезой, техникой умной молитвы, келейной эстетикой и подвижничеством святых (ер. философию уединенного самоуглубления в буддизме и индуизме).
Христианство родилось как катакомбная религия одиночек, чтобы превратиться в мировую религию неодинокого человечества. Центральным символом последней стала Голгофа жертвенной богооставленности (Мф. 27, 46), которая есть и мистерия богоприобщения, и выведение человека из круга несамотождественного одиночества и включение его в собор круговой поруки спасения.
Христианская Троица в единстве Своих Ипостасей – воплотившийся идеал отнологически заданной и братотворчески приемлемой неодинокости в бытии. На многих богоборческих путях сведение Трех к Одному завершалось гностическим тезисом об одиноком и, следовательно, обреченном Боге (Ницше). Неотмирность христианства (ср. иночество как одиночество в миру) на уровне вербального поведения приняло форму молчания (исихазм), т. е. знакового эквивалента невозглаголимой премирной Истины.
Отождествление в ряде эпох (Античность, Просвещение, советский период) одиночества со смертностью связано с незнанием проблемы «я». Читателям «Путешествия Гулливера» было легче поверить в гротески Свифта, чем в возможность выстроить островок цивилизации одинокому Робинзону в романе Дефо.
Христианство, объявив уныние (тоску и скуку как избыточные следствия дольнего одиночества) смертным грехом, интериоризировало одиночество, обратило его на пользу созерцательного умонастроения, мистического знания и богообщения, аутодиалогического самовопрошания и исповедального самоотчета, а главное – легализовало его в иерархии религиозного быта.
Если гностическая традиция и исихастская апофатика внесли в одиночество элементы гносеологического эзотеризма, то романтическая эстетика осознала его как профессиональное состояние художника: он одинок, потому что свободен. В его творческой свободе раскрывается смысл Универсума, что делает его творения общезначимыми.
На языках концепций игры, иронии и мифотворчества одиночество было осознано структурно – как деятельность по артистическому самовыражению внутреннего театра «я»; как условие обнаружения предельных возможностей рефлексии; как человеческий аналог многоразличному Космосу; как атрибут гениальности и тема жизни мыслителя; как чреватая возможными мирами инобытийность. А. Шопенгауэр создал мизантропически окрашенную апологию одиночества как творческого покоя[45]45
Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. М., 1990. С. 135–145.
[Закрыть].
Ценностная гипертрофия одиночества в экзистенциализме (от Кьеркегора до Сартра и от Достоевского до А. Мейера) заново акцентировали в этой мифологеме темы бытия-к-смерти и заброшенности в бытии; теперь ее смысл описан в терминах страха, стыда, трепета, отчаяния, надежды и заботы.
Одиночество амбивалентно совместило аспекты самоанализа и катарсиса, свободы и ловушки. Такова уединенность «парадоксалистов» Достоевского, которые могли бы сказать о себе обращенной формулой романтизма: свободен, потому что одинок.
«Подпольный человек» извлекает из одиночества принцип особой гносеологической фронды (бунта против самоочевидных истин; см. эту тему у Л. Шестова и А. Камю).
В «Братьях Карамазовых» одиночество может трактоваться и как инициация, предшествующая покаянию. Повинный в убийстве Михаил в келье Зосимы говорит: «Сначала должен заключится период человеческого уединения… Ибо все-то в наш век разделились на единицы. Всякий уединяется в свою нору» (14, 275). Итог этой школы мысли: мое одиночество трагично, потому что в основе бытия лежит трагическая свобода (Н. Бердяев).
Попытки создания типологии одиночества обернулись построением коммуникационных иерархий и философией Встречи, т. е. выходов из одиночества: «я» наедине с природой (Богом, Другим, собой).
В одиночестве отрабатываются сценарии общения (на вербальном уровне – поэтика внутренней речи и диалогические структуры). В одиночестве угадана не только альтернатива открытым пространствам общения, но и механизм генерации новых типов понимания и смыслопорождения. Для истории самосознания важными оказались риторические формы эстетической реабилитации одиночества: исповедь, агиография в словесности, портрет в живописи, реквием в музыке, соло в камерном пении, танце и пантомиме.
В опыте одиночества родилось убеждение в существовании многих населенных миров: осознав себя единой Личностью, человечество ощутило свое одиночество и оглянулось в поисках другой Личности-Человечества. Из сублиманта мирового сиротства (А. Хомяков: «Земля катилася немая, Небес веселых сирота») и через преодоление ностальгического комплекса самовозврата «я» посреди толпы одиночество стало бытовой социально-психологической реальностью, в которой процессы отчуждения личности действуют с той же угрожающей ее целостности последовательностью, с какой сам человек стандартной «культуры» обнаруживает признаки сплошь овнешненного индивидуума (а не личности). В этом смысле он спасен от трагедии одиночества уже тем, что оппозиция «одиночество/неодиночество» для его типа существования неактуальна.
Утрата жизненных преимуществ уединения говорит о том, что у «я» похищена тайна его самовозрастания в родном пространстве изнутри обживаемой ментальности, и что в удел «я» вместо творческой философии одиночества остается богоборческий изоляционизм, т. е. уже не раз пройденный путь от мертвого «я» (= мы) к мертвому Богу (андеграунд, современный внефилософский и пседорелигиозный мистицизм). Таков путь Свидригайлова и героев «Бесов».
Трагедия одиночества не в том, что из него нет выхода (оно само – выход), а в том, что его свойство быть порогом искомой идентичности «я» совмещается с образами должного знания о месте этой границы как подвижной коммуницирующей дистанции.
Мерой ее движения является глубина одиночества, а непосредственным результатом – новая качественность самопознания, общения и творчества. Уединение для героя Достоевского – это внешнее условие «усиления сознания» и своего рода инициация, когда нужно преодолеть ужас перед самим собой и «собрать» свою личность[46]46
См. тексты, отражающие тему одиночества на отечественной почве: Анненский И.Ф. Трилистник одиночества. 1909; Вяземский ПА. Еще дорожная дума. 1841; Гумилёв Н.С. Одиночество. 1909; Заболоцкий НА. Одинокий дуб. 1957; Карамзин М.Н. Мысли об уединении. 1802; Койранский А.Р. Песни одиночества. 1902; Лоцманов А.В. Мысли об уединении // Лоцманов А.В. Переводы и сочинения в прозе. М., 1823; Никольский П.А. О задумчивости и уединении // С.-Петерб. вестник. 1812. № 8; Новорусский Н.В. В абсолютном одиночестве. Отрывок из романа. 1887 // Под сводом: Сб. М., 1909; Сельвинский И.Л. Одиночество. 1965; Таубер ЕЛ. Одиночество. Стихи. Берлин, 1935; Ходасевич В.Ф. Уединение. 1915; Юшкевич М. Одинокие. Париж, 1929.
См. исследования: Аббаньяно Н. Мудрость жизни. СПб., 1996 (Глава «Одиночество, чтобы вернуться к жизни»). С. 121–126; Абульханова-Славская КА. Российская проблема свободы, одиночества и смирения // Психологический журнал. М., 1999. Т 20. № 5. С. 5—14; Адамович Г. Одиночество и свобода. СПб., 1993; Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических основаниях и пределах личного самосознания. М., 2000; Бердяев НА. Я и мир объектов (Опыт философии одиночества и общения). Париж, 1934; Ильин И.А. Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий. 1938 (фргм. 38 – «Одиночество») //Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1994. Т. 3. С. 163–164; Желобов А.И Одиночество как благо (К вопросу о тотальной социализации детства) //Культура на защите детства. СПб., 1998. С. 46–47; Закржевский А. Одинокий мыслитель. Киев, 1916; Исупов К.Г. Одиночество в Другом (С. Кьеркегор наедине с собой) // Кьеркегор и современность. Минск, 1996. С. 69–77; Кузнецов О.Н., Лебедев В.И. Личность в одиночестве // Вопросы философии. 1971. № 7; Соловьёв И.М. Поэзия одинокой души // Венок М.Ю. Лермонтову. М.; Пг, 1914; Горичева Т. Сиротство в русской культуре // Вестник новой русской литературы. СПб., 1991. № 3. С. 227–245; Спиридонова И.А. Мотив сиротства в «Чевенгуре» А Платонова в свете христианской традиции // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск, 1998. Выл. 2. С. 514–536.
[Закрыть].
Достоевский разыграл в пятикнижии грандиозную мистерию метафизического испытания человека в ловушках вечных проблем, и здесь «пораженье от победы», как в Голгофе подлинной, и впрямь не отличишь.
Достоевский знает, что одиночество может быть спасительным – вся практическая аскеза и пустынножительство выросло на этом. Служение в миру есть прорыв социального одиночества и выход к Другому.
Христос был бесконечно одинок, он самый одинокий человек Евангелия, но люди с Ним уже неодиноки. Соприсутственность Христу, предстояние Ему – норма поведения и единственная аксиология возможной здесь жизни.
Трагедия Мышкина в том, что он один «христоморфен». Если осмыслить его судьбу в романе как авторский эксперимент со Вторым Пришествием, т. е. апокалиптически и эсхатологически, потребуется средневековая аргументация вроде той, что привел францисканец-спиритуал Петр Оливи, последователь Иоахима Флорского. Он развивал «теорию полного соответствия истории Франциска и его ордена с историей Христа и раннего христианства» и задавался вопросом: почему за столетие францисканского движения не сбылась та полнота обещанных событий, «что в раннем христианстве свершилось за промежуток времен начиная Августом и кончая Нероном и Веспасианом»? Его объяснение: «Личности Христа соответствует не один человек, но целый “чин” людей: сообразно этому, должен быть увеличен срок роста “Христа” до степени возмужалости»[47]47
Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995. С. 161. Ср. «…Христианское учение явилось в мир не с тем, чтобы преобразить его немедленно; свобода мира и человека предполагает сама собою, что силы, внесенные в мир Христом, медленно будут растекаться по миру, по мере того, как люди будут принимать их и свободно проникаться ими. <…> Ведь христианство Иоанна совсем не то, что христианство Петра; христианство Франциска Ассизского совсем не то, что христианство ап. Павла» (Флоренский П.А. Соч.: В 4 т. М., 1994. Т. 1. С. 639).
[Закрыть].
Кроме того, продолжает средневековый автор, необходим максимальный прибыток злого в мире, дабы окрепли в людях исторически сменяющие (или, скорее, сопутствующие) друг друга механизмы адаптации и противления дурному, чтобы черное пришествие (Антихриста) споспешествовало Светлому и последнему Пришествию Мессии.
Эта маркионитско-хилиастическая картинка, в духе предельно напряженной эсхатологии Средневековья на исходе эпохи, имеет к князю Мышкину отношение куда более близкое, чем может показаться. В нем, как позже в Христе и Великом Инквизиторе «Легенды», даны фабульные черновики Второго Пришествия. Не только вся петербургская Голгофа стала для князя инициацией и пробой данной в удел его «внутреннему человеку» способности христианского поступания, но и всем «внешним», до себя самих не доросшим, людям пришлось самоопределиться в коллективном неприятии и принципиальном нечувствии светлых эманаций мышкинского существа.
Не в том «неудача» или негативный пафос замысла «Идиота», что из Мышкина получился «не тот» Христос или какой-то Христос «неполный», а в том, что мир не готов его принять. Мир во всех параметрах своей исконной падшести и в самоприведении его к столь удобному для всех «не согрешишь – не покаешься» виновен в трагической вине Мышкина – быть всегда неуместным, не «комильфо», быть раздражающим и даже опасным и при этом беззащитным, как всякая голая правда.
Хронотопы бытия внутреннего и внешнего должны коррелироваться по закону некоей этической меры. Что таковой мерой является? Определяется ли она свободой волевого перехода от мысли к действию? Или она целиком диктуется извне – условиями бытового поведения – быть «как все»? Или она нудится неотменяемой провиденцией «обстоятельств»?
Не то и не то. Все решается на языках ментального и поведенческого максимализма: или «подражание Христу» (Мышкин), или сатанинская неподконтрольность бунта. Золотой середины нет – так человек в своей свободе устроен, он «широк», и в широте своей не виноват: Божьим попущением он открыт свободе, размаху, анархии и волюшке. Люди золотой середины – это тусклые Разумихины здравого смысла, а в худшем варианте – Лужины. Не они придают миру динамику движения, не им принадлежит будущее.
Метафизический прорыв в будущее во имя утверждения сакральных ценностей жизни возможен при отрицании дольнего и мирского на уровнях поведения и высказывания. Герои «подполья», кн. Мышкин, Карамазовы – каждый по-своему обнаруживают черты юродства и апофатической манеры говорения.
Апофатика, понимаемая в широком смысле – как принцип мироутверждения и богопознания, а не как специальный метод богословствования только, имеет к героям Достоевского прямое отношение.
Утверждение сакральных ценностей через их мирское отрицание – не слишком редкий в мировых конфессиях путь к истине. На нем встречаются христианство и чань-буддизм[48]48
Померанц Г.С. Традиция и непосредственность в буддизме чань (дзэн) // Роль традиций в истории и культуре Китая. М., 1972. С. 71–86; Гарнцев М.А. Антропология в византийской мысли: к характеристике концептуальной парадигмы // Логос: Философско-литерат. журнал. М., 1991. № 1. С. 82–86.
[Закрыть], суфий, дервиш и подвижник-пустынножитель и даже такие экстремальные фигуры отрицания/утверждения, как евнух и скопец. Важно подчеркнуть, что апофатике в сфере мысли и письма соответствует юродство в плане поведения. Есть юродство, овнешненное зримыми атрибутами – веригами, «непотребным» видом и «нелепыми», т. е. отрицающими лепоту благоприличия, жестами, а есть юродство внутреннее, интериоризованное в глубину мыслительных структур и прообразованное в апофатнку высказывания. Внутреннее юродство – типологическая черта русской мыслительности. Более того, с позиции «простеца» и умудренной сердечности создаются в нашей традиции тексты, предназначенные для вспять-чтения. Это тексты с обратимо-инверсивной семангакой, удерживающие, однако, и всю полноту прямого понимания. Это не просто тексты с применением иронического приема «эзопова языка», эвфемизма и прочих ухищрений риторики иносказания, хотя и ирония, и семантическая игра имеют место. Это тексты того рода, которые, после обычного, «прямого», чтения, нам следует прочесть так, как читают «древние восточные манускрипты, от конца к началу», и понимать их предложено «обратно тому», что сказано. Так советует мастер юродской апофатаки – В.В. Розанов относительно восприятия «Философических писем» П.Я. Чаадаева[49]49
Розанов В.В. Открытое письмо г-ну Алексею Веселовскому // Русское обозрение. 1895. Сентябрь. С. 909.
[Закрыть]. Подобным образом другой автор советует читать инверсивную прозу Ф. Ницше[50]50
См. комментарии К.А. Свасьяна к трактату Ницше: «“Антихрист” – текст, адекватное прочтение которого только и возможно против течения» (Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 800; курсив автора).
[Закрыть]; так читаются утопии-антиутопии А.П. Платонова, насыщенные героями – юродивыми; на такое чтение рассчитаны некоторые вещи А.Ф. Лосева[51]51
Современный биограф А.Ф. Лосева говорит о «Диалектике мифа» (1930): «Некоторые называют диалектический метод философствования, применявшийся с изощренностью и артистизмом в трудах ученого, клоунадой. Мне же хочется соотнести Алексея Федоровича в условиях сталинского режима с таким феноменом русской культуры, как юродство» (Зверев Г. Алексей Федорович Лосев (1893–1988) // Вестник РХД. Париж; Нью-Йорк; Москва, 1993. № 167 (I). С. 46). О лосевской стилистике отрицательных дефиниций говорила и А. А. Тахо-Годи в комментариях к публикации отрывка трактата «Самое само» (1923): Начало. М., 1993. № 2. С. 63–64.
[Закрыть] и М.М. Бахтина[52]52
См.: Исупов К.Г. Апофатика М.М. Бахтина //Диалог, карнавал, хронотоп. 1997. № 3. С. 19–31; перепечатка – в «Рге-Printed Cellection» недавней китайской конференции: The International Symposium on the Studies of Bakhtin (June. 18. 2004). Xiangtan, 2004. P. 12–20. См. также: Гортева T.M. Христианский дурак в век апофатики // Горичева Т.М. Православие и постмодернизм. Л., 1992. С. 49–57; Wondzynski C.Sw. Idiota. Project antropologii apofatycznej. Gdansk, 2000; Pool R.A. The Apophatic Bakhtin // Bakhtin and Religion: A Feeling for Faith / Ed. by Susan M. Felch and Paul J. Contino. Evanston, 2001. P. 151–175. Сердечно благодарю проф. Принстонского университета Кеану Бланк, указавшую нам на эту публикацию.
[Закрыть].
Удел пассионариев мысли и активного поступания – балансирование на краю поступка как проступка, только они способны вырваться, пусть и в мыслях только, из нудящей рутины «обстоятельств», сломать готовое и удобное для жизни устройство бытия, т. е. порушить цивилизацию, понятую Достоевским, одним из первых, в противоположность культуре. Яркий тому контраст – Л. Толстой, который в своем вольтерьянском бунте против Шекспира и в самоотказе от собственных сочинений безнадежно спутал цивилизацию и культуру, печатный станок и искусство слова, чтобы из безрадостных обломков дискредитированной и лукавой онтологии построить, т. е. попытаться проективно обустроиться в безумном поединке с Миростроителем и Миродержателем, Пантократором и Промыслителем Мира, мир исконной, подлинной человечности, чтобы исполнилась надежда Творца на человеков и сбылось в физическом мире от века положенное основное метафизическое задание: богоподобие его (Быт. 1, 27).
Оно и сбывается по мере сил человеческих и на фоне метафизической тревоги Творца: «Вот, Адам стал, как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (Быт. 3, 22). В опасении ангелов и Яхве озвучена реплика Змия Эдемского: «будете, как боги» (Быт. 3,5).
«Нужна ли запятая в этой фразе – посуле Змия искушаемой твари?» – не только богословский вопрос. Если нужна, мы имеем дело всего лишь со сравнением («как боги»); если нет – с семантикой «близости к природе Бога» или прямым тождеством, то есть с обетованием качественного Преображения человека и облечения его в ипостась божественного «по образу и подобию».
Для Мышкина, как носителя Духа Святого, т. е. красоты, мерой соприсутствия людям остается одно – быть, как «только одно положительно прекрасное лицо – Христос» (28/2, 251). Видимо, союз «как» следует понять здесь не как средство присоединения сравнения, а как знак тождества образа и прообраза.
Своей метафизикой лица Достоевский утверждает вечную новизну Боговоплощения и причастность к этому центральному событию мировой истории тварного и человеческого. Писатель «предпринимает невероятную попытку <…> не рассказать прямо и непосредственно о жизни Христа, <…> а поместить черты Богочеловека в человеческую личность. <…> Достоевскому было дано решить эту задачу»[53]53
Гуардини Р. Человек и вера. Брюссель, 1994. С. 304.
[Закрыть].
С князем Мышкиным мы уже не одиноки. Он пришел, чтобы спасти человека-читателя и сказать ему: «Мир не был готов к моему приходу. Теперь попытайся и ты сделать его лучше».









































