Читать книгу "Метафизика Достоевского"
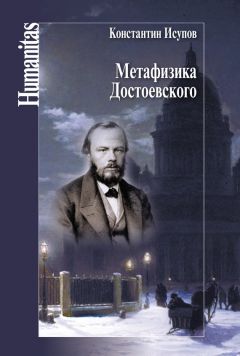
Автор книги: Константин Исупов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Константин Исупов
Метафизика Достоевского
Humanitas
Серия основана в 1999 г.
В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты Центра гуманитарных научно-информационных исследований Института научной информации по общественным наукам, Института российской истории, Института философии Российской академии наук
Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам
Главный редактор и автор проекта «Humanitas» С.Я. Левит
Заместитель главного редактора И.А. Осиновская
Редакционная коллегия серии:
Л.В. Скворцов (председатель), Е.Н. Балашова, П.П. Гайденко, И.Л. Галинская, В.Д. Губин, Б.Л. Губман, П.С. Гуревич, А.Л. Доброхотов, Г.И. Зверева, В.К. Кантор, А.Н. Кожановский, И.В. Кондаков, М.П. Крыжановская, Л.А. Микешина, Ю.С. Пивоваров, И.И. Ремезова, А.К. Сорокин, П.В. Соснов
Научный редактор: И.И. Ремезова
Серийное оформление: П.П. Ефремов
В оформлении книги использованы фрагменты картины В. И. Сурикова «Вид на памятник Петру I на Исаакиевской площади в Петербурге» (1870)
Введение
Наследие Достоевского – вечная тема мировой философской культуры. Есть нечто судьбоносное в той неотвратимости, с какой писатели и мыслители Запада и Востока, не говоря уже об отечественных культуртрегерах, обращаются к Достоевскому как к Великому Учителю, который что-то такое знал о Боге, мире и людях, чего не знал никто. Дело даже не в сумме этого знания, а в его новом качестве и способах репрезентации. Герои Достоевского изживают опыт жизни как опыт души и сердца. Иначе говоря, они изживают его метафизически, т. е. тем органом самосознания, чьи трофеи предъявлены читателю как нерациоидные объекты предельной сложности.
Почему для таких разных людей, как Т. Мании Н. Бердяев, Г. Гессе и Вяч. Иванов, Л. Карсавин и Мураками, проза Достоевского стала надежным источником глубокомысленных и даже изощренных художнических и философических архитекгоник?
Достоевский раскрыл подлинные горизонты внутреннего человека. С его опытами авторитет описательной прозы впервые серьезно пошатнулся. Отдельные прорывы к герою-интроверту были; так, Л. Толстой впервые в «Войне и мире» изобразил внутреннюю речь героя. И все же вражду И. Тургенева и Достоевского, как и не-встречу Л. Толстого с великим современником можно, помимо внешних причин, объяснить и тем, что писателю-описателю с «психологом в высшем смысле» говорить было не о чем.
Достоевский – классик философской прозы. За плечами у Фёдора Михайловича были «Герой нашего времени» и «Русские ночи», но лишь Достоевскому удалось создать героя-идеолога, свободного от авторского диктата, с автономным голосовым приоритетом и личной волей высказывания. Ничего похожего мировая литература не знала. Свобода речевого поведения героя – одна из главных новаций Достоевского. Более того, он показал, что свобода эта может оказаться греховной и опасной, неподъемной и невыносимой (Раскольников, кн. Мышкин), она готова обернуться самоизоляцией и самонаказанием, стать дорогой к смерти.
Библейская история грехопадения началась со свободного поступка. В прозе Достоевского история эта разыгрывается вновь и вновь, утверждая вечную правду мифа в социальной реальности вечной неправды исторического мира. Достоевский научил видеть субстанциональное в акцидентальном.
Достоевский изобрел и показал в пластике художественной реальности новую социальную психологию общения. Из нее выросла в России и на Западе философия диалога, ставшая фундаментом диалогической философии, нужду в которой заявила культура рубежа XX и XXI веков. Проза Достоевского красноречива, его герои – пророки, риторы и ораторы, болтуны и графоманы. В «Дневнике писателя» художественные тексты (поэтика) переслаивают журналистику (риторика). В его прозе найдутся и «говорящие штаны» (по убийственной реплике В. Розанова о Д. Мережковском), вроде Опискина, и мастера апофатического речения («Бедные люди», «Записки из подполья»), и эстеты словесного жеста (Ставрогин), и носители приоритетного слова, т. е. слова, в первый раз говорящего последнюю правду (кн. Мышкин, Зосима), и мастера речевого прельщения (Великий Инквизитор), и даже специальный «почвенный» ангел словесной наивности (Алеша Карамазов). Но дело не только в разнообразии форм говорения, а в том, что Достоевский приравнял высказывание к поступку. Речевой жест стал физическим действием; чем-то это напоминает гипноз.
Суггестивное слово Достоевского оказало ошеломляющее воздействие на читателя, – и читатель изменился. Он научился жить в романах великого писателя, они стали для него средой метафизического обитания и новым способом жизни. Достоевский перекроил русского человека и показал своему современнику, что он больше себя самого, значительнее, ответственнее и умнее. Человек-артист открыт не Ницше, а Достоевским.
Так в прозе Достоевского вызревала новая антропология – комическая и трагическая вместе.
Открытия Достоевского впечатляют своими результатами, но еще более – теми возможностями, которые они раскрывают для всего ряда наук о человеке и для искусства слова.
Мы надеемся, что серия очерков, составивших книгу, поможет читателю уточнить подлинные контуры философско-художественного и эстетического наследия писателя.
Любые замечания будут приняты с благодарностью.
Выражаем сердечную благодарность редколлегии серии и персонально – Светлане Яковлевне Левит за хлопоты в подготовке книги к изданию.
Глава 1
Метафизика Достоевского (онтология и теология)
Тайнозрение
Что такое «метафизика, могущая возникнуть в качестве науки»[1]1
Фундаментом классической метафизики от Канта до Хайдеггера остается текст сочинения, созданный в Кёнигсберге через два года после «Критики чистого разума», – «Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки» (1783). Так, с полным названием, вышел на русском языке этот небольшой трактат Канта в переводе Вл. Соловьёва (исправленный редактором М. Иовчуком) во времена вполне метафизические: в 1937 г. Это издание призвано было заменить «неправильное» издание 1934 г (в соловьёвском же переводе, исправленном Б.А. Фохтом; предисловие и редакция В. Сараджева).
Опыт русской метафизики обобщен в монографиях Т.В. Артемьевой «История метафизика в России XVTII века» (СПб., 1996) и И.И. Евлампиева «История русской метафизики в XIX–XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта» (в 2 т. СПб., 2000). См. продуктивную попытку рассмотреть поэтику Достоевского как образно-понятийный Органон метафизики: Ноговицын О.М. Метафизика и поэтика Достоевского // Начала. М., 1993. № 3. С. 79–88; Евлампиев И.И. Великий Инквизитор, Христос и дьявол: Новое прочтение известной темы Достоевского // Вопросы философии. 2006. № 3.
[Закрыть]о Достоевском?
Метафизика до Достоевского питалась романтическими представлениями об Абсолюте: П.Я. Чаадаев, масоны, славянофилы, любомудры. Лучшее, что можно было ждать от контуров такой философии, это: 1) эстетизованные формы запечатления опыта в духе той традиции, что суммировали немецкая мистика и Шеллинг; 2) явленная в импрессионизме лирического образа (С. Бобров, В. Жуковский) поэтика переживания «тайн бытия»; 3) трагическая персонология и натурфилософия в литературе классического романтизма в его сложном сплетении с барокко (Ф. Тютчев); 4) катастрофизм с примесью полумасонского мистицизма, которые русская мысль пыталась интегрировать то в «картину мира человека» (по названию трактата А.И. Галича, читанного Макаром Девушкиным), то в «апокалиптический синтез» (последняя фраза последнего из «Философических писем» П.Я. Чаадаева), то в программы энциклопедического гнозиса, в котором «инстинктуальное» (душевное) начало органично слито с универсальным знанием и «способностью критического суждения» (В.Ф. Одоевский); последняя позиция в философско-религиозном плане полемично дополнилась организмической идеологией соборности (А.С. Хомяков; почвенники).
С Достоевским метафизика определилась как: 1) род особого качествования бытия и, соответственно, некая программа описания его ирреальных состояний («языки» онтологии); 2) область неочевидного знания и неверифицируемого опыта («языки» гносеологии); 3) проблематизация мотивов поведения человека («языки» этики и философии истории) и, наконец, как 4) философия творчества и – шире – персоналистский проект самоосмысления «я» и «мы» в ситуации креативного соприсутствия красоте Божьего мира («языки» эстетики).
Поскольку в трудах Достоевского мы имеем дело с вопросами человеческого существования в Божьем мире, его авторская метафизика носит онтологический характер: человек предстоит Богу и миру как вопрос – ответу. Этот тип метафизики внятен современному читателю с появлением в его кругозоре трудов М. Хайдеггера, определением которого мы не слишком корректно воспользуемся. «Метафизика в собственном смысле слова, – говорит он в лекции 1929 г., – принадлежит к “природе человека”. Она не есть ни раздел школьной философии, ни область прихотливых интуиций. Метафизика есть основное событие в человеческом бытии. Она и есть само человеческое бытие»[2]2
Хайдеггер М. Время и Бытие / Пер. В.В. Бибихина. М., 1993. С. 26. Опыты реконструкции метафизики Достоевского, предпринятые Серебряным веком, мы рассматриваем в статье: Романтик свободы (Русская классика глазами персоналиста) // Бердяев Н. О русских писателях. М., 1993. С. 7—22.
[Закрыть].
Не следует тешить себя надеждой, что метафизика в роли теории бытия в себе и формы философского знания может быть извлечена из текстов Достоевского в готовом виде, как алхимический камень из реторты.
Подобно тому, как камень алхимиков – никакой не камень, а искомая вслепую универсальная химическая формула-рецепт превращения неблагородных металлов в благородные, так и метафизика на территории художественной прозы и публицистики писателя – не приведенная в систему гносеологическая инструкция.
Но она, эта художническая метафизика, переживаемая автором и героем, способна обнаружить свой проблемный репертуар, возможный горизонт его развертки в масштабе исторического дня и в аспекте будущего, показать возможности человеческого уразумения, сценарии внутреннего опыта, проникновение эмпирической действительности в топосы самонаблюдения, самоосознания и самооценки, вывести смутные предчувствия на поверхность речевого общения, оформить интуитивное и непосредственное знание в более или менее внятный дискурс. Словом, она может многое, но эта эстетически выразительная метафизика никогда не предоставит нам готовых решений и выводов, к которым торопится теоретическая метафизика философских трактатов, университетских лекций и диспутов. Мы можем сколько угодно увлекаться реконструкциями и деконструкциями метафизических контекстов прозы Достоевского, воссоздавать теологические и философические тени великой прозы и даже достигать на этом пути впечатляющих результатов (Н. Бердяев, А. Камю, А. Штейнберг, Р. Гвардини, Г. Лаут), но романы Достоевского останутся «всего лишь» романами, а «Дневник писателя» – журналом.
Оправдание этим попыткам только одно: в России отнюдь не профессора философии сделали метафизику метафизикой, а антропологию и персонологию – актуальными областями философического знания и дискурса. Эту работу – плохо ли хорошо ли – выполнили изящная словесность, литературно-философская критика и эстетическая социология.
Метафизика в плане онтологии признает наличие в бытии тонких сверхчувственных планов, относительно которых можно сказать, что материального в них не больше, чем реальной земли в слове «земля». Ее объекты не подлежат рациональному познанию. Полномочия гносеологии делегированы формам интуитивного ведения, озарения, «непосредственного познания», религиозного переживания, а в художественных текстах – мистическому экстазу, медитативному выскальзыванию из эмпирии в трансцендентное, субтильному телесному прикосновению, выразительному взгляду, спонтанному жесту и прочим типам нерациоидной активности, о которых очень приятно рассуждать, но ничего толком сказать невозможно.
Заслуга Достоевского – в придании этим формам познания, неизменно сомнительным по гносеологическим итогам, нового статуса, а именно: наделение авторитетом такого рода «интеллектуального усилия»[3]3
Бергсон А. Интеллектуальное усилие // Бергсон А. Соч.: В 5 т. СПб., 1913–1914. Т. 4.
[Закрыть], в котором «человеческая, слишком человеческая» непосредственность наивного видения сопряжена с успешной ловитвой тончайших ноуменов метафизического мира.
Достоевский приучил нас к новой оптике мировосприятия и новаторским режимам поведенческой аналитики. Отметим, что «оптика» эта не только пространственная, но и темпоральная: она наделена и прямой перспективой (обращенной в современность исторического дня), и обратной. Причем «обратность» эта двусторонняя: не только в ценностное прошлое направленная (для уяснения проблем философии истории[4]4
Кайгородов В.И. Об историзме Достоевского // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1980. Т. 4. С. 27–40; Исупов К.Г. Проблемы философии истории в художественном опыте Ф.М. Достоевского // Философские науки. М., 1990. № 4. С. 40–49; Касаткина Т. Краткая полная история человечества («Сон смешного человека») // Достоевский и мировая культура. Альманах / Ред. К.А. Степанян. СПб., 1993. № 1. Ч. 1. С. 48–68; Архипова А.В. История и современность в системе мировоззрения Ф.М. Достоевского // Литература и история (Исторический процесс в творческом сознании русских писателей и мыслителей XVIII–XX вв.) / Отв. ред. Ю.В. Стенник. СПб., 2001. С. 252–283.
[Закрыть]), но и в будущее, к нам.
Будущее отреагировало адекватным читательским опытом. Писатели, всем духом своих творений принадлежавшие «школе Достоевского», свидетельствуют об открытии русским мыслителем метафизического зрения и о явленьи этому новому зрению прикровенной действительности.
Один лишь пример. Г. Гессе в статье «Размышления об “Идиоте” Достоевского» (1919) вспоминает вечернюю сцену в Павловске, в доме Лебедева, куда пришли Епанчины, и спрашивает: почему эти враждебные друг другу люди объединились вдруг в неприятии Мышкина? «Почему у них все получается, как у Иисуса, которого в конце концов оставил не только весь свет, но и все его ученики? Это происходит потому, что безумец мыслит иначе, нежели другие. <…> Его мышление я назвал бы “магическим”. Он, этот кроткий безумец, отрицает целиком жизнь, мышление, чувство – вообще мир и реальность всех прочих людей. Для него действительность совершенно иная, нежели для них. Их действительность ему кажется всецело призрачной. И вот потому, что он видит совершенно новую действительность, и требует осуществления ее, он делается врагом для всех»[5]5
Гессе Г. Письма по кругу. М., 1987. С. 116–117. Напомним в связи с «магическим мышлением» кн. Мышкина что Г. Гессе развивал концепцию «магического театра» с привнесением в нее мотива «люди-куклы», весьма напоминающую размышления Ф. Сологуба о «магическом театре». Оба автора предполагали средствами магической демиургии вызывать из небытия новые реальности.
[Закрыть].
Есть основания думать, что Достоевский отчетливо сознавал недостатки как современной ему классической метафизики, в том числе и Кантовой, так и наивной бессистемной метафизики почвеннического типа[6]6
Де Лазари А. В кругу Фёдора Достоевского. Почвенничество. М., 2004.
[Закрыть]. «Я» и мир вокруг него оказались сложнее привычных программ объяснения человеческой «натуры». Ситуация эта иронически повторилась дважды: на рубеже XIX–XX и XX–XXI веков – и оба раза с привлечением опыта Достоевского.
Грех метафизики классического (т. е. кантовского) типа – в ее стремлении быть рациональной. Этот грех разделяет с ней мистика; оттого даже лучшие опыты мистических запечатлений на письме производят впечатление дурной импровизации, а концепции мистического познавания каждый раз свидетельствует о том, что опыт мистики, как и опыт молчания, не передаваем.
Кант задушил свою метафизику таблицами антиномий, жесткими архитектониками типов суждения, безнадежным априоризмом, так что Достоевский, внимательный читатель «Критики чистого разума» (28/1, 173), с чистым сердцем вложил в уста героя «Записок из подполья» реплику: «…Нет доводов чистого разума» (5, 78)[7]7
Картины приятия/неприятия Канта Достоевским и его современниками см.: Голосовкер Я.Э. Достоевский и Кант. М., 1963 (ср.: 15, 479; 28/1, 456). Историю освоения Канта русской культурой см.: Филиппов Л.И. Неокантианство в России // Кант и кантианцы. М., 1978. М., 286–316; Кант и философия в России. М., 1994; Ахутин А.В. София и Черт (Кант перед лицом русской религиозной метафизики) // Россия и Германия. Опыт философского диалога. М., 1993; Кант: pro et contra / Сост. А.И. Абрамов, В.А. Жучков, пред, и комм. В.А. Жучков. СПб., 2005. 928 с.
[Закрыть].
Наш писатель совершил центральный творческий поступок своей жизни: в плане художественной онтологии он реализовал метод, который Шеллинг называл в широком смысле «конструированием» (что, разумеется, не делает Достоевского шеллингианцем), а в плане эстетической аналитики поведения он развернул проблемную метафизику внутреннего человека.
Поездка Достоевского с Вл. Соловьёвым 23 июня 1878 г. в Оптину пустынь была, помимо исполнения благочестивого паломничества, личным крестовым походом за Граалем духовного зрения. Того внутреннего, из исихастской традиции вышедшего, зрения, формулу которого мы встречаем в наставлениях Зосимы: «Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных» (14, 290).
Визионер иного типа, Н.Ф. Фёдоров, говорил о Достоевском: он «был мистик и, как мистик, был убежден, что человечество находится в “соприкосновении к мирам иным” и не видит их, не живет в этих мирах <…> смерть, к которой ведут болезни и пороки, и есть переход в иные миры»[8]8
Фёдоров Н.Ф. Философия Общего дела. Верный, 1906. С. 442; курсив автора. Цитируя сходную по смыслу реплику Зосимы («взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего к таинственным мирам иным»), Вяч. Ив. Иванов в статье «Лик и личины России (К исследованию идеологии Достоевского)», соединяет воедино имена Достоевского и Франциска: «…Мне кажется, в согласии с Достоевским, что в истинном гении есть – или вспыхивает в его лучших проявлениях нечто от святости, и объясняю себе это тем, что гениальная душа в своем росте и в мгновении пробуждающейся в ней творческой воли раскрывается “касаниям мирам иным”. <…> Я уверен, что не мог бы восстать Дант, если бы не подвизался ранее Франциск Ассизский; предполагаю, что не возник бы и Достоевский, если бы не было задолго на Руси великого святого» (Иванов Вяч. Родное и Вселенское. М., 1994. С. 334).
[Закрыть].
Построение эстетической метафизики стало «внутренней формой» жития писателя, т. е. динамическим началом его поступающего сознания в том высоком смысле творческой «суммы» всех поступков, сведенных в единый Поступок, о котором в письме XII говорил Данте о цели «Божественной комедии» Кангранде делла Скала: «Вывести живущих в этой жизни из жалкого состояния и привести их к состоянию счастья. Род философии, в котором это осуществляется – нравственное действие, или этика, ибо все произведение в целом и в частях написано не для созерцания, а для поступка»[9]9
Цит. по: Бибихин В.В. Язык философии. 1993. С. 106. Современные трактовки «поступка» см.: Кришталева Л.Г. Нравственная значимость поступка в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: Автореф. дис. канд. филос. наук. М., 1998; Комаров И.Н. Поступок. Философско-социологический анализ. Автореф. дис. доктора социол. наук. Минск, 1991. Сердечно благодарим Л.Н. Летягина, доцента кафедры эстетики и этики РГПУ им. А.И. Герцена, указавшего нам на две последние работы.
[Закрыть].
Так и у Достоевского: новая картина мира, увиденная его героями в дробности составляющих элементов и в мельтешеньи неясных впечатлений, обнимается единством нравственной реальности авторского сознания и ставится на почву новой интегративной метафизики, позволяющей если не объяснить, то хотя бы верно поставить проблемы отношений Бога, мира и человека. Много это или мало для того, чтобы мы могли твердо сказать: не то сейчас важно, как мы видим Достоевского, а то, как Достоевский видит нас?
Более того – косвенно мы обязаны ему и кардинальной сменой научной картины мира, т. е. новой онтологией, которая и теперь, даже на уровне бытового мышления, определяет наше мировидение. Мы имеем в виду популярный в одно время сюжет «Эйнштейн / Достоевский» и вызвавшую массу интерпретаций признательную реплику изобретателя общей теории относительности (1905): «Достоевский дал мне больше <…> чем Гаусс» (ее комментарий см.: 15, 473). Наряду со Спинозой и Кантом, черпал у Достоевского немецкий физик ощущения «внеличного» и «надличного» мира, о чем он говорил в автобиографическом очерке 1949 г.[10]10
Эйнштейн А. Собр. научи, трудов: В 4 т. М., 1967. Т. 4. О предчувствии релятивного мира на стадии мифологии см.: Богораз-Тан В.Г. Эйнштейн и религия. М.; Пг., 1923.
[Закрыть]
Здесь мы имеем дело не с метафизикой уже, но с физикой, космологией и космографией. Как после Сезанна парижане увидели, что воздух столицы может быть и цветным, а дублинцы с публикацией «Улисса» (1922) выяснили, что их город свободно вместил реальность гомеровского эпоса, так читающее человечество с прозой Достоевского обнаружило себя в релятивном мире с размытыми краями.
О немногих из мировых писателей можно сказать, что они принесли людям новую физическую картину мира. Это не удалось ни Сервантесу, ни Рабле, ни Шекспиру, ни Гёте, потому что при всем внимании к глубинным структурам бытия и при всем любопытстве к внутреннему человеку они видели мир извне по преимуществу.
Художественный мир Достоевского строится в логике возможных миров. Когда к началу XX века усилиями Ф. Ницше, 3. Фрейда, А. Эйнштейна и модерна в сфере искусства, литературы и эстетической мысли рухнули классическая картина Универсума и представления о месте в нем человека, между осколками распыленного Космоса, в трансцендентных просветах когда-то сплошного, обозримого и внятного мира яснее проступило «Непостижимое» (по имени основного трактата С. Франка 1939 г.). В названии романтического стихотворного манифеста В. Жуковского это определено как «Невыразимое» (1819).
Основные черновики дискретной действительности и первые образы («образцы», если угодно) разорванного сознания предъявлены были прозой Достоевского.
Это он нашел, «довел до кондиции» (как И.С. Тургенев – своего Базарова) и ввел в литературу героя-интроверта, агрессивно присваивающего реальность, а потом выдающего картины внутреннего видения за онтологически вмененную миру подлинность.
Когда герой Достоевского, по столь обычной для русской классики привычке, развоплотился и из романной сферы напрямую перешел в «роман жизни», несколько поколений читателей подпали под мировоззренческий гипноз новой онтологии и новой мотивационной картины поступка. Историк науки сказал бы, что здесь был нарушен выдвинутый старшим современником Пушкина – Н. И. Лобачевским принцип соответствия (старой теории относительно новой)[11]11
Лобачевский Н.И. ПСС.: В 5 т. М.; Л., 1949. Т. 2. С. 147, 277, 335 – 336. См.: Кузнецов И.В. Принцип соответствия в современной физике и его философское значение. М.; Л., 1948.
[Закрыть].
На эту удочку и поймалась теоретическая физика.
Релятивная картина мира пришлась впору «мыслящему зрению» XX века («оку и духу», по словечку М. Мерло-Понти и Ж. Батая[12]12
Батай Ж. Внутренний опыт (1943). СПб., 1997. С. 220; Мерло-Понти М. Око и Дух. М., 1992; ср.: Барт Р. Метафора глаза (1963) // Танатология Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины XX века. СПб., 1994. С. 91—100. Швейцарскому художнику-экспрессионисту Паулю Клее принадлежит эссе «Мыслящий глаз», а П. Клоделю – «Глаз слушает» (Харьков, 1995). У академика Н.И. Вавилова была работа «Глаз и Солнце». Немецкая традиция располагает своим сюжетом истории мыслящей оптики: от трактата Иоганна Рейхлина (1455–1522) «Глазное зеркало» (Тюбинген, 1511) до синестетического романа Г. Бёлля «Глазами клоуна» (1963). За аналогиями далеко идти не приходится: М. Пришвин («Глаза земли», опубл. 1957), А. Ремизов («Подстриженными глазами», 1951); в романе Б. Пильняка «Голодный год» (1920) типы «точек зрения» и типы нарратива распределены по «глазным» главам: «Глазами Ирины», «Глазами Натальи», «Глазами Андрея»; ср. «глазницы воронок» в «Гойе» А. Вознесенского. См.: Губайдуллина А. Зрение как прозрение: Мотив «тумана» – «дыма» – «яда» в творчестве Федора Сологуба // Studie Russica. Budapest, 2004. Т. 21. Р. 352–366; Грякалова Н.А. Человек модерна: Биография – рефлексия – письмо. СПб., 2008. С. 21, 75, 146, 308.
[Закрыть]). Размышления о дискретности / недискретности, каковые пошли от Г. Кантора и легли в основу кубистической онтологии[13]13
См. три лекции Н. Бердяева 1818 года, выпущенные тогда же отдельной брошюрой (репринт: Бердяев Н.А. Кризис искусства. М., 1990).
[Закрыть] «Петербурга» А. Белого, а также определили поиски в области теории множеств и функций в математической школе МГУ (Н.Н. Лузин; отец А. Белого – Н.В. Бугаев, лейбницианец, создатель оригинальной эстетики истории в виде «эволюционной монадологии»), повлияли на молодого Павла Флоренского, на поэтику числа символистов и, вторичным эхом, – на живопись, музыку, архитектуру и письмо постмодерна конца XX века.
Конфессионально-философский парадокс, обусловивший концептуальное оформление основной идеи Г. Кантора, в том, что побудительным стимулом ее рождения послужили размышления логика-математика и иудаистски ориентированного мыслителя над… природой Троицы. Когда Г. Кантор понял, что Троица есть минимальное Множество, и в этом смысле есть сборная и неделимая – дробная Единица, возникла теория множеств, а из нее – целая семья модальных логик, математическая теория игр (Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн), кибернетика (Н. Винер), теория робототехники и далее – до проектов калькуляторов и компьютеров.
Как полагает современный читатель, внимание Эйнштейна к картине мира Достоевского обусловлено релятивистской структурой его романов: «Я беру слово “релятивистский” в кавычки. <…> Роман Достоевского не релятивистский, а ипостасный. Но всякая ипостасная конструкция, начиная с христианской Троицы, может быть интерпретирована как релятивистская модель. Это особенно понятно при попытках перевода теологических терминов на математический язык, например, Николая Кузанского: “Бог – это сфера, центр которой всюду, а периферия нигде”. <…> Это уже почти Эйнштейн. И можно предположить, что Эйнштейн, читая Достоевского, “перевел” его структурный принцип на абстрактный математический язык примерно так же, как Николай Кузанский перевел на абстрактный математический язык структурный принцип Троицы»[14]14
Померанц Г.С. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М., 2003. С. ТОТЕ В этом суждении все отвечает исторической правде, кроме того, что у Николая Кузанского есть «абстрактный математический язык». См.: Исупов К.Г., Ульянова О.Н. Homo Numerans Николая Кузанского // Историко-философский ежегодник’ 92. М., 1994. Упомянутый Г.С. Померанцем здесь же М. Бахтин сравнивал вероятностную Вселенную Эйнштейна, с ее множественностью систем отсчета, с художественной моделью мира Достоевского.
[Закрыть].
Аналогии «Эйнштейн / Достоевский», равно как и «Кантор / Достоевский», наводят на грустные размышления: православная картина мира стоит на убеждении в целостности Творения и креативного содружества в нем Творца, Творения, твари и творчества, как замечено в романе «Доктор Живаго», и как то аргументировали в терминах «теургия,» «теоантропоургия», «синергия» и других этого ряда Н. Фёдоров, С. Булгаков, Е. Трубецкой, Л. Карсавин, С. Франк и Н. Бердяев.
Эйнштейнов дырчато-релятивный мир, с его парадоксом времени и приключениями объема массы при достижении телом скорости света, так же не похож на прекрасный и благодатный Космос христианства, как топор на икону. Но если молиться топору, то и он за икону сойдет. Недаром вещи раннего Пикассо С. Булгаков в статье «Труп красоты» (1914) назвал «антииконами».
Герой Достоевского способен на мысль, смысл которой примерно таков: «Если “чистого разума нет”, и он, разум, “пасует перед действительностью”, значит, это неправильная действительность. Если этот мир неправилен в своей неодолимой физической плотности и сплошности, будем рубить метафизические окна». Икона – окно в трансцендентное иное; топор – инструмент для прорубки окна. Так – от иконы к топору и обратно идет Раскольников. Директор Библиотеки Сената США Дж. Биллингтон в похвальном намерении объяснить западному читателю «загадочную русскую душу» так и назвал свою книгу 1966 г. – «Икона и топор» (рус. пер.: М., 2001).









































