Читать книгу "Метафизика Достоевского"
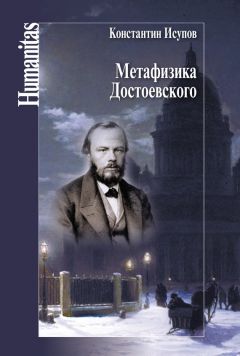
Автор книги: Константин Исупов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 2
Метафизика Достоевского (антропология и этика)
Нечто такое, что видится само собой, но что трудно анализировать и рассказать, невозможно оправдать достаточными причинами, но что, однако же, производит, несмотря на всю эту трудность и невозможность, совершенно цельное и неотразимое впечатление, невольно переходящее в полнейшее убеждение <…>
(«Идиот» <8, 193–194>)
Введение в проблему
Что значит говорить о некоей метафизике в мире изображенном, придуманном и несуществующем? Не в том ли смысле, что она имеет приманку – шанс стать если не конкретной метафизикой бытия и общения, то хотя бы ее утопическим проектом? Если так, мы призваны отнестись к художественным мирам Достоевского, пренебрегая категорией условности, памятуя, однако, что безусловно в них только одно: то, что писатель определил как непрерывное открывание, а не открытие жизни.
Материя человеческих отношений ткется у Достоевского из вещей невесомых: зова и отклика, призыва и оглядки, доверительных жестов и встреч на предельной высоте взыскующего духа, но те же нити общей ткани бытия протянуты в самую глубину языческого мирочувствия, в живое хтонические тело родной почвы, языка, крови и круговой породненности. Сколь ни хрупка и прихотлива в своих извивах духовная архитектоника общения, она прочерчена тем же творческим резцом, которым отделены в Шестоднев свет от тьмы, твердь от воды, а вода от суши. Метафизика Достоевского глубоко онтологична.
Об онтологических основаниях метафизики Достоевского писалось не раз. В гегельянском этюде Б.М. Энгельгардта отстаивается та мысль, что в картине мира писателя развертывает себя онтологическая триада: «среда» (мир механической причинности) – «почва» (органика народного духа) – «земля» (высшая реальность подлинной свободы)[54]54
Энгельгардт Б.М. Идеологический роман Достоевского // Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы / Ред. А.С. Долинин. М.; Л., 1924. Сб. II. С. 91. Отметим, что у Энгельгардта есть и современные последователи: «Бытие как бы разбито для Достоевского на три уровня: эгоистически-бесструктурная среда”, сохранившая софийную структурность “почва” и сама София – “земля”» (Аверинцев С.С. София // Философская энциклопедия: В 5 т. М., 1970. Т. 5. С. 62).
[Закрыть].
«Сумма метафизики» Достоевского состоялась в мире общения героев[55]55
О метафизике Достоевского писали многие авторы Серебряного века. См. также: Евлампиев И.И. История русской метафизики в XIX–XX вв. Русская философия в поисках Абсолюта: В 2 ч. СПб., 2000. Ч. 1. С. 93—178; Докучаев И.И. Введение в историю общения. СПб., 2001 (библ.); Иванов Н.Б. Метафизика в горизонте современности // Мысль. СПб., 1997. № 1. С. 70–81.
[Закрыть]. Писатель, который верил в преображение человека физически здесь, на земле, мог воспринимать человека-современника только в состоянии последнего кризиса и избытка, на последнем напряжении сил, в пароксизме эмоций, в отчаянном стремлении выскользнуть из бытия, когда самоубийство уже и не самоубийство только, как и убийство не только убийство в свете запроса: какая, собственно, разница, кто кого убьет и зачем в последний исторический день этого мира? Человек дан во всех своих возможностях и сразу, он торопится проявиться, все шансы и «все встречи у него – последние» (Н. Бердяев). Тем сильнее поэтика укрупнения всякой мелочной ерунды, как бывает при прощании с жизнью. Но столь же неважной ерунда оказывается там, где могла б она сломать жизнь героя. Так, улики, оставленные Раскольниковым, не сработали на следствие, зато изобличили его состояние души и возможность ее владельца свершить то, что свершено.
Общение Порфирия Петровича и Раскольникова – взаимная игра на опознавание таких вещей, которые не опознаются в уликах внешнего мира. Улика теряет предметную доказательность, потому что она твердит о типичном поведении (здесь: преступника), а мы имеем дело с уникальным, для типичного мира неопознаваемым. И хотя «улика» и связана с «ликом» и «личностью», она в мире обстоятельств внешнего действия имеет отношение лишь к овнешненному, социализованному человеку в плане прошлого (он нечто совершил, оставил след и пр.) и ничего не способна сказать о «я» героя, который уже не там и не здесь, но в состоянии прорыва в будущее.
М. Бубер и Э. Левинас полагали, что время экзистенции возникает только в связи с разрывом одиночества и в диалоге с Другим.
У Достоевского одинокий герой переживает время стремительно. Но в метафизических точках общения, в контексте вечного, время останавливается, оно добытийно и дано даже не как время «Авраама и стад его», а еще более раннее – как мифологическое. Происходит социализация одиночества (превращение его в аутодиалогическое пространство) и вовлечение существенных фрагментов мира общающихся в метафизический план.
Что могла ведать современная Достоевскому позитивистская наука о человеческом общении? Она хорошо знала социально-ролевые акценты общественного этикета; свидетельствовала крушение сословных перегородок, а в этой связи – наблюдала нашествие семинаристской канцелярщины в речевой обиход литературной критики и превращение последней в эстетическую политграмоту народников; неутомимо создавала то теории «среды», то социологию «законов истории». Аморфные концепции почвенников и неоконсерваторов не стали серьезным философским противовесом назойливому социологизму эпохи: теоретическим препятствием оказалась наименее внятная для этих построений категория соборности, призванная примирить «самостоянье человека», т. е. автономное «я», и национально-религиозное историческое единство народа и Отечества, Общины и Земли. Собор как категория эстетического народознания дезавуируется в народнической же бытописательной литературе, когда она занимается изображением национального характера, подчеркивая в нем деструктивные черты по преимуществу.
Достоевский предложил необычный ход: в мире его героев происходит атомизация соборной общности и, если позволительно так сказать, редукция Собора до его минимальной составляющей: я и Другой перед лицом третьего, «а именно Третьего» (по словечку о. Павла Флоренского из «Столпа и утверждения Истины», 1914).
Не покидая собственно почвеннической (соборно-хтонической и софийной) позиции, Достоевский – впервые в мировой литературе – предъявляет читателю персоналистский проект метафизики общения, который впору назвать и утопическим (где и кто так общается?).
Но нам ли не знать, что Россия – страна сбывающихся утопий и антиутопий?
Как Пушкин снял некогда запрет на эстетическое исследование смерти и судьбы в рамках повседневности, так Достоевский встал у истоков отечественной художественной христологии, но христологии, обытовленной возможным еще присутствием Духа Божьего здесь, в самой гуще прозаической жизни, от которой не отлетела еще тень надежды. Да, эта жизнь – непрерывная Голгофа и юдоль страдания, но ведь и жизнь сама устроена на онтологическом принципе «подражания Христу» и доле его в дольнем мире. Страдание – единственная из категорий антропологии и психологии, интимно единящих Собор и личность. Оно – фундаментальная составляющая социального бытия.
Метафизика общения Достоевского направленно христологична, она дана в аспектах Голгофы – понимающего сострадания и ответной жертвенности.
Интроспекция диалога
Ниже мы будем постоянно обращаться к исповедальной сцене признаний Раскольникова Соне в четвертой части «Преступления и наказания».
Позиция Сонечки здесь – целиком посюсторонняя. Достоевский отказывал своим женщинам-героиням в глубине метафизического зрения: они, его женщины, могут соглашаться с наличием такового в собеседнике, способны общаться с речевыми мастерами метафизики, но встать на их внутреннюю точку зрения они не могут, да и не собираются. Поэтому Соня артикулирует свои реплики как реакцию на удар и в терминах веры / неверия, правды / неправды: «Господи, да какая ж это правда!» (6, 317, 320). Ее присутствие в диалоге маркируется темпом речи, высотой тона, поведением тела, затрудненностью дыхания. Когда ее затягивает раскольниковская стихия агрессивного присвоения реальности (с намерением перенести последнюю в область ирреального и тем – погрузить Сонечку в глубоко чуждый ей мир метафизических абстракций, где живет и в «к чему-то издалека подходящей речи» (6, 313) приманчиво развертывается аргументация «от Наполеона»), она теряет на мгновение чувство здесь-присутствия: «Да где это я стою?» (6, 317). Соня – существо интуитивного (прямого) видения Истины, о чем Раскольников знает прекрасно и с этим ее свойством связывает свою надежду на понимающий диалог («Почему она так сразу увидела?» (6, 316)). Дар Сонечки – дар подлинного видения «про себя» («Я про себя все пойму» (318)). Раскольникову нечего ей подарить, кроме тоски самообвинения.
В интуитивистской гносеологии Достоевского Истина не доказуема, а показуема. Логика прямого доказательства в его мире дискредитирована в пользу неоромантического и почвеннического «непосредственного видения» истины.
Заметим: сознание Сонечки упрямо отталкивает «наполеоновскую» аргументику Раскольникова и все его притязания на пир метафизического беззакония. Ей никогда не перейти этой черты, она может лишь телом, интонацией и дыханием отвечать конфигурациям возможного перехода, шага в невозможный для нее мир.
Представим себе эту границу перехода в виде упруго изгибающейся вертикальной «стены». Она, эта стена, принимает фигуры волны, петли, ниши, воронки, лабиринта, подобно живым геометрическим конструкциям, скользящим на поверхности Соляриса в странном романе С. Лема (1961; рус. пер. – 1963), – так проявляет у польского фантаста свою ментальную активность мыслящий Океан.
Гибкой, агрессивно наступающей на нее стене Сонечка отвечает точной изоморфией жеста, телесного прогиба, ослаблением и нарастанием голосового тона, – отвечает, не переходя самой границы. Ее страшит ад метафизических придумок Раскольникова, она силится понять его, но щит нерушимый органической чистоты ограждает ее от совиновности в преступном теоретизме: «Странно он так говорил: как будто и понятно что-то, но…» (6, 320).
Сценографической пластике сцены (герои перемещаются по комнате; меняют позы; сложен рисунок прикосновений) отвечает ритм смен грамматических форм обращения друг к другу – то на «ты», то на «вы»: в них маркируются моменты переноса оппозиции «близко/далеко» в план внутреннего приятия / неприятия.
Обратим внимание: Сонечка и не собирается обсуждать с Раскольниковым логическую правоту или неправоту предъявленных ей аргументов («Говорите мне прямо… без примеров» (6, 319)). Невозможно и представить, чтобы в устах Сонечки прозвучали некие контрдоводы в духе, скажем, Порфирия Петровича. Она может лишь ответить трагической грацией встречно изломленного тела, «примериться» к очередному приманчивающему прогибу стены, чтобы тут же с ужасом отпрянуть и покинуть гостеприимную нишу логической ловушки.
Герой последнего поступка
Следует учесть уровень и глубину внутреннего опыта, на которые способны были герои Достоевского. Современный читатель невольно вмысливает в душевные структуры героев то, что известно о человеке гуманитарным наукам XX века – от антропологии до психоанализа. За плечами у Достоевского стоял опыт сентиментализма и романтизма; дань первому отдан в «Бедных людях», а романтической интонацией повиты множество иных ранних вещей. Романтизм до конца пути писателя сказывался на его героях, в аффектации жеста и тона, в патетике высказывания и пр. Сентименталистско-романтическая трактовка душевной жизни у раннего Достоевского начисто лишена метафизической серьезности; герои этого плана плавают в океане эмоционального изживания своих внутренних возможностей, так и не достигая берегов внятно очерченного мировоззренческого рельефа. Активный герой-идеолог сформировался в крупной прозе пятикнижия и в таких манифестах подпольного сознания, как «Записки из подполья», «Сон смешного человека», «Бобок»[56]56
В 1929 г., в год выхода книги М. Бахтина о Достоевском, близкие ему (а также А. Штейнбергу, Вяч. Иванову и Н. Бердяеву) наблюдения высказаны православным мыслителем в статье «Достоевский и современность»: «Внешний мир становится как бы внутренним пейзажем живой души, он в большой степени определяет человеческие поступки. <…> Мысли и идеи становятся движущей силой, уплотняются, врываются в вещество, видоизменяют и смещают его» (Кузьмина-Караваева Е.Ю. Избранное. М., 1991. С. 259–260).
[Закрыть].
Беда романтического героя в том, что, спускаясь по винтовой лестнице самосознания в глубину самого себя и множась в зеркалах внутренней рефлексии, он теряет шанс выбраться обратно на поверхность живой жизни. Еще древние практики созерцания Востока и Запада знали, что максимальное сосредоточение на своем «я» чревато распылением чувства «я»; оно не в силах собрать себя в первоначальное единство.
Христианство впервые создает подлинную метафизику братской приязни и этику доверия Другому (= «ближнему») как равночестному диалогическому партнеру. Интенция на Другого, страх и боль за Другого – фундаментальное условие для обретения «я» своих ясно очерченных границ. Понадобилось два тысячелетия, чтобы это мировоззренческое предприятие христианства было осмыслено философией общения.
Литературные итоги метафизического опыта принадлежат не столько искусству слова, сколько собственно философии и исторической психологии. С Достоевского начинается сначала в России (Н. Бердяев), а потом на Западе подлинная персонология и проработка экзистенциального опыта (Э. Мунье, А. Камю) и философия диалога (от Ф. Розенцвейга, М. Бубера и Ф. Эбнера до символистов, М. Бахтина, А. Штейнберга и Э. Левинаса).
Русская классика в лице Достоевского преподала мировой культуре урок того, как средствами изящной словесности можно «делать метафизику»: «всего-то навсего» следовало наделить материальную густоту быта прозрачностью, разредить ее, обратить лицо к лицу, придумать героя последнего поступка.
Слово в прозе Достоевского получило дополнительные полномочия: оно расширило перечень описываемых реальностей, оно стало словом адекватного описания ментального ландшафта.
Уточним: мы говорим не о привычных формах подачи внутренней речи, не о типах речи несобственно-прямой и прочих трофеях поэтики и риторики; мы говорим о новаторском переакцентировании самой словесной фактуры монолога и диалога, описания, говорения, сообщения и высказывания не как функционально-речевых единств только, но как типах речевой онтологии.
В пушкинском «Гробовщике» две реальности описаны лексически однородными текстами, и приходится вести пальцем по странице, чтобы наткнуться на строчку перехода из яви в сон. Нос майора Ковалева, после всех променадов в гофмановских иллюзионах, благополучно вернулся запеченным в хлебе, доказав попутно, что грош цена тому миру, в котором часть человека важнее самого человека.
У Достоевского само слово изламывается в двойную ленту значений, разомкнутых то в реальное, то в ирреальное (или, говоря по-тебниански, внутренняя форма слова становится внешней и наоборот). Его слово и грамматика описания наделены «матрешечной» структурой с инверсией или переменным порядком уровней. Здесь мы вступаем в область метафизической, если не мистической, лингвистики и феноменологии текста; оставим это лингвистам и знатокам невербальных коммуникаций[57]57
См.: Абрамова Н.Т. Являются ли внесловесные акты мышлением? // Вопросы философии. 2001. № 6. С. 68–78; Арутюнова Н.Д. Наивные размышления о наивной картине мира // Язык о языке. М., 2000. С. 7—19; Ее же. Феномен молчания // Там же. С. 417–436; Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980; Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл. М., 2001 (дискуссию о книге см.: МИРгород. 2008. № 1. С. 119–164); Эткынд Е.Г. «Внутренний человек» и внешняя речь: Очерки психопоэтики русской литературы 18–19 вв. М., 1998.
[Закрыть].
Как никогда значимой становится поэтика паузы, замедления, молчания, провалов реальной графики текста в несказанное и несказуемое. Такое поведение текста сродни припадку (авторской эпилепсии текста).
Категория художественной условности также обретает странные свойства: условность по-прежнему обретается у слова, при слове, но она перестает ему принадлежать, как только условное возомнило себя безусловным. Битва эйдосов в мире Достоевского куда достовернее, чем все оставленные героями трупы, вместе взятые.
Сгущение метафизической «материи» общения свершается и в символике бытового жеста, например, в эпизодах обмена крестами.
Этот обмен – знаменование мистериального союза героев с уставом жертвенной взаимоответности и молчаливого согласия положить душу за други своя[58]58
О чине братотворения см.: Фёдоров Н.Ф. Собр. соч.: В 4 т. М., 1995. Т. 1. С. 117. Русский текст чина – в приложении к книге: Горчаков М.И. О тайне супружества. СПб., 1880.
[Закрыть].
Предпоследние страницы «Идиота» (концовка гл. 11 части четвертой) принадлежат к величайшим достижениям мировой прозы; рядом с ними нечего поставить.
В плане истории метафизики общения это первый сценариум встречи духовно-телесных сущностей на той высоте интеллектуальной интуиции, в горних обителях чистого Духа, где свидетелем оказывается лишь Господь. Это встреча чистых трансценденций сознания, освобожденного не только от словесных оболочек (всегда ложных в силу принципиальной неадекватности мысли), но и от форм самой мысли: перед нами обнажена фактура мыслящей «натуры» в миг ее рождения.
Два героя предстоят миру, впервые увиденному в его ужасной тайне, – и результат оказался равносильным взгляду на горгону Медузу.
Последние страницы главы (8, 495–507) в той же мере не поддаются комментарию, в какой и не нуждаются в нем, – настолько самоочевиден их предъявленный читателю смысл. Иной финал «Идиота» немыслим – и под гипнозом такового вывода исследователь в смущении отступает.
Если, несколько упрощая ситуацию, определиться в амплуа героев сцены, мы имеем следующую ситуацию. У тела Настасьи Филипповны встречаются двое ее убийц: физический – Рогожин и метафизический (кн. Мышкин). Князь – «надъюридический» (словечко М.М. Бахтина) убийца поневоле, коль скоро на нем лежит трагическая вина за основные события криминальной фабулы. Но вопрос о вине князя изъят из внешнего пространства переживаемого события встречи и преобразован в тему метафизики Эроса.
С беспрецедентной отчетливостью показаны Достоевским процедуры совлечения реальности с реальных предметов, они истончаются, сквозь них проступают прикровенные смысловые структуры. Опрозрачниваются и слова, из них выскальзывают чистые ноумены внутренних форм, они едва удерживаются на кромке графического письма; текст превращается в нечто, не имеющее «лица и названья». Пока говорят герои Достоевского, абрисы бытия вокруг них становятся «гравюрой» плоских декораций внешнего обстояния; вещи, дома и стены видны насквозь; мир вокруг собеседников безмолвно рушится, как во сне; остается чистая партитура голосовых приоритетов. В всполохах меркнущего сознания князя мелькают какие-то случайные тени слов и силуэты предметов: карты, нож, шторы, клеенка, склянки, кровать, платье.
Карты и нож здесь особенно знаменательны: первые маркируют метафизически осмысленную «судьбу», а второй является знаком преступного намерения (8, 187, 193, 505).
Образ карточной игры призван к выявлению метафизических контекстов трагической вовлеченности героев во всемирно-историческую игру случайных детерминант. Князю «рассказали, что играла Настасья Филипповна каждый вечер с Рогожиным в дураки, в преферанс, в мельники, в вист, в свои козыри – во все игры. <…> <…> Князь спросил: где карты, в которые играли?» (8, 499). Ситуация карточной игры условно уравнивает партнеров в мире игровой условности, предположительности и соотносительности; намеком на то указано во фразе о переборе «всех игр». Знаменателен аскетически сдержанный синтаксис фразы и какая-то жутковатая отрешенность тона ее. В финальной сцене, когда «все игры» (ментальные стратегии) сознаний героев действительно, а не аллегорически, кончились, карты вновь всплывают в светлое поле мышкинского сознания, чтоб повергнуть его в последний кризис: «– Ах, да! – зашептал вдруг князь прежним взволнованным и торопливым шепотом <…> – да… я ведь хотел… эти карты! Карты… Ты, говорят, с нею в карты играл?
– Играл, – сказал Рогожин после некоторого молчания.
– Где же… карты?
– Здесь карты… – выговорил Рогожин, помолчав еще больше, – вот… Он вынул игранную, завернутую в бумажку колоду из кармана и протянул ее князю. Тот взял, но как бы с недоумением. Новое, грустное и безотрадное чувство сдавило ему сердце <…>» (8, 506).
Карты[59]59
См.: Лотман Ю.М. Тема карт и карточной игры в русской литературе // Лотман Ю.М. Избр. статьи: В 3 т. Таллинн, 1993. Т. 2; Кульюс С.К., Белоброецева К.З. «Играть, весь век играть…» Заметки о теме карточной игры в русской литературе XX в. // Studia metrica et poetica. СПб., 1999.
[Закрыть] – последняя зацепка памяти о живой еще и веселой Настасье Филипповне («…рассмеялась и стали играть» (8, 499)), попытка «прилепиться воспоминанием и умом» к «внешнему предмету» (8, 189), уже безнадежная: грани бытия окончательно теряют очертания и расплываются.
Финальная встреча героев свершается как выпадение из мира жизненной игры в безумие, горячку, ирреальность, идиотизм. Герои «проваливаются» сквозь все иерархии бытия – и физические, и метафизические, достигают последней изнанки мира, ничтойствующего в серой мгле бессмыслицы. «Все игры» сознания завершены, – «и вот эти карты, которые он держит в руках и которым он так обрадовался, ничему, ничему не помогут теперь» (8, 506).
Бытовая вещь интериоризируется, ее предметность не исчезает вполне, но меняет градус существования и расподобляется, как бы выворачиваясь наизнанку, в символические означенья, в элементы припоминания и психических ассоциаций. Имя предмета оказывается больше предмета, оно обращено в символическую гиперболу и берет на себя сюжетоводительную роль. Подчеркнем: не вещь символизируется в ее предметной данности, а эйдос вещи как смыслоозаренная живая структура являет лики своей яркой и семантически насыщенной жизни.
Предметность вещей при этом не отбрасывается в область бытового хлама и мусора, они остаются слугами и друзьями людей; нет, вещь отстраняется от себя самой, как бы стесняясь своей косности и упрямой плотности, и расцветает узорчатой смысловой композицией и во всей полноте и яркости притаенного внутреннего бытия.
Метафизический статус одного уровня бытия не претендует на авторитарное свидетельство обо всех мировых иерархиях. Вещь живет своей предметной жизнью, но, состоя на службе у человека, она также вовлечена в его онтическую работу по трансформации реальности. В человеческой орудийной деятельности вещь переживает все метафизические приключения «я» вместе с ним и рядом с ним[60]60
«…Неверующий в мир внешний тайно не верует и в мир духовный. Иное дело, что сущее имеет множество ступеней, что оно градуировано. Оно ничего не аннулирует, все получает свое место или местечко в градуированном мире. Достоевский: духовные силы стерегут внешний мир и смеются над всякой его попыткой быть самодостаточным». И в другом месте: «Синтез метафизического и исторического, вопреки обычным их взаимоотношениям» (Берковский Н.Я. <0 Достоевском> / Публ. М.Н. Виролайнен // Звезда. 2002. № 6. С. 135, 138).
О статусах вещи в человеческом мире см.: Хайдеггер М. Вещь // Историко-филос. ежегодник. 1989. М., 1989; Николаева Н. Ценность предметной формы // Декоратив. искусство СССР. 1976. № 9, С. 26–28; Байбурин А.К. Семиотический статус вещей и мифология // Материальная культура и мифология: Сб. Музея антропологии и этнографии. Л., 1981. Т. 37. С. 215–226; Кнабе Г.С. Язык бытовых вещей //Декоратив. искусство СССР. 1985. № 1; Топоров В.Н. Вещь в антропоцентрической перспективе // Aeqninox. М., 1993; Акимова Л. Античный мир: Вещь и миф // Вопросы искусствознания. 1994. № 3–4. С. 53–93; Рон М.В. Вещь в пространстве культуры (Абрисы проблемы) // Культурологические исследования’99. СПб., 2003. С. 90–99.
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































