Читать книгу "Город Г…"
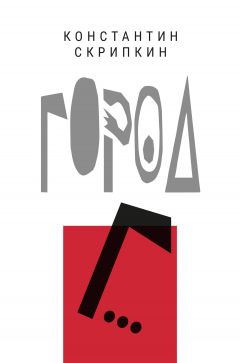
Автор книги: Константин Скрипкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Так плохо ей никогда не было в жизни. Сначала ее выворачивало в женском туалете, где, слава богу, никого не было, потом по дороге – в кустах, тогда запасливый Степан дал ей салфетку. Когда они дотащились до гостиницы, Маша невероятным усилием воли сама попросила свой ключ и, стараясь не упасть, дошла от портье до лестницы. На лестнице она закрыла лицо руками и села на ступеньку – идти дальше она не могла. Степану пришлось на себе затаскивать барышню на второй этаж, притом, что девушка вообще не могла идти на своих ногах, говорила, чтобы он ее бросил прямо в коридоре и что она хочет умереть. Когда он дотащил ее до номера, Маша еще раз вырвала в туалете, а потом умирающим комочком, закутавшись в покрывало на кровати, сказала ему сквозь стучащие зубы только одно слово: «Уйди…».
Было поздно, завтрашний подъем планировался в семь утра – спать оставалось всего ничего. Степан завел будильник на половину седьмого, принял душ и забрался наконец в вожделенную, мягонькую кроватку, где простыни пахли свежестью, одеяло было невесомым и очень уютным, а еще в его распоряжении было целых три подушки, на одну из которых он лег, другой накрыл голову, а третью просто прижал к себе, как в детстве он прижимал к себе игрушечного медведя.
Глава 5. О дружбе и взаимовыручке
Маша, тяжело опершись на умывальный стол двумя руками, смотрела на себя в зеркало гостиничного номера. Между приступами она успевала набрать в ладошку немного холодной воды, протереть губы и лицо, прополоскать рот и вытереться салфеткой, иногда еще оставалось несколько секунд ужаснуться на свое почерневшее лицо, выражающее одно только отчаянное страдание. Потом из глубины живота снова поднимался неудержимый спазм, и опять начиналась рвота, выворачивающая ее наизнанку. Когда она первый раз проснулась от этого ужасного порыва, была еще ночь. Машенька вскочила и, зажимая руками свой рот, побежала в туалет, чуть не врезавшись в косяк двери, так как прилично еще покачивалась. Она добежала и обильно вырвала в унитаз. После того, как этот кошмар закончился, стало немного легче, она даже решилась прилечь, думая поспать еще. Но как только Маша коснулась головой подушки и прикрыла глаза, в голове все завертелось, и новый рвотный спазм чуть не вывернул все ее внутренности. Через три раза тошнить было уже нечем, она могла выдавить из себя только несколько капель горькой желтовато-коричневой жидкости и мучилась ужасно. Так она провела остаток ночи, под утро легла в постель, решив: будь что будет. Ноги совершенно ее не держали, глаза не смотрели, руки не слушались. Маша устроила разрывающуюся голову на подушке, превозмогла случившийся тут же приступ головокружения, замерла… и через несколько минут почувствовала секундное облегчение – у нее ничего не болело, голова не кружилась, ее не тошнило – это было счастье! Попробовав сменить положение своей головы, она тут же вернула себе все предыдущие симптомы и поняла, что шевелить головой нельзя ни в коем случае. Машенька снова замерла как мышка, полностью расслабила голову, шею, спину, плечи, расслабила все что смогла и сладко-сладко заснула, вовсе не думая, что всего через два часа ей уже придется вставать и начинать свой новый день.
* * *
От тяжести физического состояния убежденность, что работу она уже потеряла, и уверенность, что все теперь будут ее презирать, отходили на задний план Машенькиного сознания и почти не волновали ее как факт уже совершенно состоявшийся. А если бы она могла позволить себе размышления (совершенно невозможные тогда для ее организма), то, вероятно, выбирая между желанием спать – вот так, когда найдено положение, в котором ничего не болит, и перспективой сохранить работу ценой безжалостного подъема, она предпочла бы спать, потому что в тот момент это было для нее объективно нужнее.
Степан хорошо знал, что поблажки в деле похмельного страдания – прямая дорога в запой, и в им самим определенное время принялся безжалостно ломиться в Машкину дверь. Она долго не открывала, но, вероятно, решив, что происходит пожар или землетрясение, медленно сползла с кровати, завернулась в халат и, немного приоткрыв дверь, высунула туда свое испуганное личико, не утратившее, как показалось Степану, своей свежести даже в результате давеча случившейся интоксикации. Маша сначала не хотела его пускать, потом не хотела идти под душ, а уронила себя обратно в постель, потом не хотела выходить из душа, и Степе пришлось стучаться и угрожать, что он отомкнет душевую дверь снаружи, потом она отказывалась пить предписанные Степаном два стакана воды с аспирином, утверждая, что тогда умрет от рвоты, но, выпив сначала один, а затем и второй, почувствовала себя лучше, хотя и немного испугалась, так как вчерашнее пьяненькое состояние на несколько минут вернулось к ней. Она даже вынуждена была присесть на кровать, чтобы привыкнуть к тому, что стало происходить в голове, а потом весело спросила у Степы, чего это он ей подсунул выпить. С деланым безразличием распутной женщины она заявила, что ей понравилось так опохмеляться, теперь она станет алкоголичкой и судьба ее – умереть от цирроза печени. Степан не давал девушке расслабиться ни на минуту, как только она начинала закатывать глаза и заламывать руки, изготавливаясь присесть на кровать, имея дальнейшей целью улечься, он обрывал ее намерение как мог сердитее, и Маша подчинялась. Еще вчера Машенька не могла представить себе присутствие постороннего мужчины при ее умывании и одевании, а вот сегодня – пожалуйста. Он отправил ее одеваться в ванную, строго сказав, что у нее не более пяти минут, иначе он сам возьмет в свои руки этот процесс. Потом Степа позвонил в ресторан и, восхищаясь своей щедростью, заказал в номер одну порцию чаю с лимоном, решив влить в Машку чего-нибудь горяченького, дабы компенсировать ее болезненную бледность. Ему нравилось все, что происходило, – он был как добрый и очень авторитетный доктор, который мог позволить себе строгость и вправе был требовать уважения. Теперь, как он думал, Машка станет безропотно все ему переводить – и это было хорошо, но, возможно, начнет вообще бегать за ним хвостиком – чего бы ему не очень-то хотелось, так как вчера на вечеринке Степан нет-нет, да и ловил на себе женские взгляды, притом такие, что дух захватывало! А Машка – куда она денется! Ее, как, вероятно, помнит внимательный читатель, он уже считал решенным вопросом и в связи с этим интерес к ней чуть-чуть поутратил.
Было любопытно, что в процессе пробуждения, подъема и экипирования Маша вовсе не реагировала на доводы здравого смысла. Например, когда Степан уверял ее, что никто вчера ничего не заметил и нужно вставать, одеваться и приводить себя в порядок, дабы и дальше не терять баллов перед руководством, Маша совершенно безразличным тоном отвечала, что ей уже все равно, кто и как будет думать о ней, что все уже произошло и еще какую-то бессвязную галиматью… Тогда Степан перешел на другого качества средства убеждения – он просто начинал с нею говорить очень внушительно, почти грубо, и довольно громко, почти окриками, – это на Машу парадоксальным образом действовало, она покорно, хотя и медленно, производила то, что ей предписывалось. Еще пока Машенька принимала душ, Степа подумал, что запах перегара, вполне уловимый в Машиной комнате, совершенно тождественный, что у него, когда он выпьет, что у этой кукольной девочки, и философски заметил сам себе, что, вероятно, это по такой неизбежной причине, все они, как ни крути, один и тот же биологический вид.
Ни мсье Франциска, ни мсье Жульена в первый день не было. Рекрутам, которых сложилась группа около десяти человек, преподавали сотрудники лаборатории качества, которая была огромной, работали в ней человек пятьдесят народу, и площади она занимала – целый этаж. Процесс обучения был продуманным и современным – объясняемые понятия при малейшей возможности показывалась на веселеньких слайдах, чтобы даже дебилы могли запомнить, как подумал Степа. Многое давали потрогать, все тексты лекций, уже распечатанные и уложенные в папочки, ждали каждого рекрута для домашнего ознакомления, так что конспект можно было и не вести, но все студенты неумолимо и безостановочно строчили в своих блокнотах, прерываясь только для того, чтоб поднять пытливый и полный преданности взгляд на тетку-преподавателя. Своим зорким глазом Степан заметил, что не только Машенька после вчерашнего вечера мается похмельем, а и многие! И напротив, такие бодрячки, как Степа, сегодня были в меньшинстве.
Все говорилось по-французски и в таком темпе, что Савраскин мог понимать совсем мало, и если бы Маша не переводила, дела его были бы плохи. Но баланс их взаимной пользы при этом сохранялся, поскольку Степану, как обычно, приходили в голову некие любопытные и оригинальные мысли на основании подробного Машенькиного перевода. Первый день был полностью проведен в лаборатории, где ткани испытывались на всевозможные свойства и заодно рассказывали, какие они вообще бывают – эти свойства. Казалось бы, чего еще можно из этого довольно скучного материала почерпнуть? Все добросовестно записывали какую-то толщину волокон, виды кручения, стойкости к истиранию, устойчивости цвета и множество разных других характеристик, а Степан, воспринимая всю эту информацию немного рассеянно, глазел по сторонам и рассматривал фотографии, развешанные по стенам выставочного зала, где он видел множество людей в огромных помещениях на какой-то церемонии типа вручения Оскара, и в центре внимания Патрика Бенаму, из-за которого частенько выглядывал Франциск, но не такой эпохальный, как вчера, а немного более умеренный, даже и какой-то второплановый и с подчеркнутой почтительной внимательностью к деду, за которой, как Степе показалось на некоторых снимках, просвечивал некоторый плотоядный оскал великолепного внука.
Обед поставил Степу и Машу перед дилеммой: тратить ли деньги в столовой, куда всех организованно препроводили, или придумывать чего-то, не есть и выглядеть двусмысленно. Внутренняя борьба Степана почти сразу закончилась победой аппетита, и он, найдя цены вполне приемлемыми, с удовольствием заставил свой поднос тарелками. Савраскин выбрал себе на обед обширный майонезный салат из картошки, перемешанной с колбасой, тарелочку ветчины с дынькой, ломтиками порезанные помидорчики с нежным беленьким сырком и какой-то ароматной травкой, супчик-гуляш, скорее походивший на густую, почти из одного мяса состоявшую похлебочку, на горячее – огромный кусок мяса, жаренного на гриле, с расплавленным на нем кусочком чесночного масла, два больших стакана газированного яблочного сока, какого дома он вообще никогда не пробовал, и на десерт здоровенный чизкейк и лохань чаю с лимоном. Вся эта объедаловка вместе с половиной длинного французского батона обошлась ему в пятьдесят шесть франков, то есть от выданного на день у него еще осталось тридцать четыре франка, что даже поставило решившегося уже приговорить свои суточные Степана в двусмысленное положение: копить их, эти оставшиеся франки, было вроде бы уже шагом назад и переменой стратегического решения, а тратить как будто было и не на что. Хотя это только так казалось Степе, что не на что. Казалось до первого ужина, на котором выяснилось, что можно сверху обильной бесплатной еды заказывать пиво, вино и еще некоторое спиртные напитки. Тут-то как раз очень пригодились денежки, оставшиеся от обеда. После ужина у Степана не оставалось уже почти ничего, что удовлетворяло его решительность и позволяло считать себя последовательным человеком и не жмотом.
Маша взяла себе в тот первый день только два стакана чая, но не из одной экономии, а и потому, что ей действительно было не очень-то до еды. Они сели вместе и как будто весело обедали. Маша не испытывала неловкости, поскольку тарелок на их столе было предостаточно, и она даже взяла у Степы кусочек хлебушка, который тихонечко скушала с чайком. Приблизительно так они и питались всю оставшуюся стажировку – Маша почти ничего не ела, довольствуясь незначительными завтраками и символическими ужинами в гостинице, а Савраскин уплетал за обе щеки, прожрал почти все свои деньги, но старался по этому поводу не переживать. Вдвоем им было как раз комфортно: они всегда вставали в столовой вместе, и Степе не было стыдно за свое обжорство, он утешал себя, делая вид, что это он берет на двоих, и Машеньке не было неловко, так как она тоже выглядела обедающей и к тому же очень радовалась за Степу и за его аппетит. Маша однажды, набравшись духу, даже предложила Степану оплачивать его обеды пополам, так она чувствовала себя причастной к этому процессу, но Степа покрутил ей пальцем у виска и строго напомнил о ее матери и бабушке. Как будто если бы у нее не было обязательств перед семьей, то оплачивать половину сжираемого Савраскиным было бы Машиной безусловной обязанностью.
Стажировка шла своим ходом. Машей все преподаватели были очень довольны, а вот Савраскин считался неумным, угловатым, медленным парнем, имеющим один положительный признак – дружелюбие, хотя и немного тупенькое, да непосредственность, так свойственную всем дурачкам, даже и не заботящимся о том, как они выглядят со стороны. Сам же Степан, как всегда, казался себе неотразимым, испытывал к некоторым коллегам искреннюю, хотя и немного высокомерную симпатию, презрение старательно скрывал и, пытаясь разогнать тоску, строил глазки попеременно всем женщинам. Больше всех особ женского пола Степу вдохновляла мадам Джессика. Как ни пытался он отводить от нее взгляд, думать о другом, сосредотачиваться на задании, Джессика была предметом его жеребячьих восторгов и вожделений. Степу так и подмывало пялить на нее глаза, тем более что одеты все были крайне демократично, а мадам Джессика во второй день вообще пришла в тонкой маечке с голым животом и признаками отсутствия бюстгальтера, которые Степан всегда вычислял мгновенно и безошибочно. Она держалась легко, была непосредственна и очень жива в движениях – в общем, вела себя как ни в чем не бывало, хотя, как думал Степан, не могла не знать, что в таком виде очень возбуждает внимание и фантазии. Степа этого понять не мог, у него в голове происходило ежеминутное столкновение действительностей друг с другом, он начал уже подумывать, что это он один такой больной идиот и во всем видит сигналы намеренные и двусмысленные, тем более что все остальные вообще на такой туалет преподавателя никак не реагировали, а в направлении Савраскина Маша несколько раз, когда он увлекался, делала ужасные, красноречиво-круглые глаза для его отрезвления.
В перерывчиках все студенты перезнакомились, Маша тихонько рассказала Жасмин о своем ужасном происшествии, и как Степа ее выручил. Жасмин посочувствовала Машеньке и сказала, что в компании у мадам Джессики есть такие гадкие людишки, которых непонятно почему она терпит, а они специально подпаивают новичков, чтобы потом издеваться. И некоторых даже фотографируют в такие моменты.
От своей новой подруги Машенька узнала много интересных вещей, которые тут же пересказывала Степану с огромным воодушевлением, но чаще всего по секрету. Самым большим секретом оказалось то, что Машенька даже Степе не решалась некоторое время говорить, так как обещала Жасмин, что вообще никому-никому… Но все-таки сказала, хотя уже и поздно вечером – в гостинице, когда Степан без особого, надо сказать, приглашения приперся к ней в гости и начал вести себя двусмысленно и наступательно в интимном плане, что Машеньку испугало, и она, пытаясь его переключить, поведала Савраскину по огромному секрету, что из всех присутствующих на стажировке планировалось выбрать одного человека, которому была бы предложена очень хорошая вакансия, о которой вообще никто не знает. Эта вакансия – работать в Лос-Анджелесе в группе Джессики Бенаму и какая-то работа очень интересная и с очень хорошей зарплатой плюс проживание и все условия. Мало чего известно о подробностях, но по некоторым признакам Франциск эту вакансию только недавно организовал, с большим трудом убедив дедушку Патрика в ее необходимости, и из этой новой группы рекрутов, похоже, хочет кого-то себе забрать, и теперь они вместе с Джессикой выбирают, кого.
Степа сначала воспринял эту новость без энтузиазма, ему и на Родине постоянная работа в компании Бенаму казалась вполне замечательной и перспективой, и потом он же сам подошел тогда к Жульену и поклялся в вечной верности. Только этот Жульен теперь пропал неизвестно куда… Себя Степан на эту супервакансию никак серьезно не рассматривал, о чем он Машке и сказал, расслабленно растягивая слова и с безразличным выражением на лице, но при этом задумался и приставания свои прекратил на некоторое время. Маша в унисон ему ответила, что и ей тоже совсем не хотелось бы уезжать в какую-то Америку, тем более у нее мама и бабушка дома, и от добра добра не ищут, и как приятно осознавать, что чего-то для других неимоверно вожделенное для них обоих – совершенно безразлично и вовсе не трогает душу.
Глава 6. О борьбе с искушением
Придя в свой номер, Степан, лежа уже в постели и приняв душ, даже и почитав на сон грядущий, никак не засыпал. Савраскин лежал и представлял, сколько хорошего могло бы случиться в жизни, достанься эта вакансия ему. Он прикинул, что зарплата там может быть никак не меньше пяти тысяч долларов, и он мог бы целую тысячу посылать домой, притом и жена, и теща были бы счастливы величиной этой суммы и не только перестали бы в отношении него произносить обидные вещи, но и думать принялись бы по-другому, почувствовали бы наконец настоящую благодарность к нему, как к кормильцу и главе семьи, пусть и к отсутствующему, но благодетелю. Но даже и не их мнение здесь было бы определяющим, потому что имей Степан возможность им целую тысячу ежемесячно отдавать, то сам себя он перестал бы воспринимать как человека чем-то обязанного, почувствовал бы себя сполна рассчитавшимся с долгами и обрел бы наконец внутреннюю свободу, которой как хотел, так бы и распорядился. И никто тогда не смел бы его попрекать и воспитывать, хотя бы и дружелюбно, хотя бы для его же пользы! Все! Он сам бы кого хотел воспитывал и при желании пенял и попрекал бы так же дружелюбно и беззлобно – по-свойски за всякие мелочи, а его обязаны были бы и жена, и теща внимательно выслушивать, а отмахиваться бы от него не смели!
Учитывая дороговизну капиталистической жизни, еще тысячу он прикидывал тратить на себя. Каждый месяц при этом откладывалось бы тридцать новеньких сотенных, притом что оставшееся он потихоньку расходовал бы с осмотрительностью, но без скаредности, и позволил бы себе наконец отключиться от беспрерывно присутствующих мыслей о деньгах. А ведь при его скромных запросах, удовлетворив за первое время самые острые потребности, и с этой тысячи что-то могло бы постепенно откладываться, и вот уже в его копилке с каждой новой зарплатой чуть больше денег прибавлялось, а он бы знал, что спокойно может их потратить на себя, поскольку именно для этой цели эти суммы и предусмотрены, но не тратит их, и не потому, что экономит и отказывается от необходимого, а потому, что не хочет.
Целые три тысячи ежемесячно могло бы оставаться для чистого накопления, из которого мог бы произрастать его собственный капитал. Получалось в год – тридцать шесть тысяч, то есть всего три года – и он мог бы стать обладателем капитала в сто тысяч долларов, купить на эти деньги ресторанчик, магазинчик или еще что-нибудь, по крайней мере, приносящее процентов тридцать в год от вложенных денег, и, ничего не делая, получать по две с половиной тысячи долларов ежемесячно! Он вообще мог бы не работать, а делал бы что хотел. Первый раз в жизни Савраскину пришла в голову мысль, что он реально близок к тому, чтобы стать богатым человеком. Не из тех богатых, чье богатство заключается в новом телевизоре или в модном магнитофоне, поставленном в «Жигули» последней модели. А по-настоящему богатым человеком, имеющим свое собственное состояние! А ведь можно и не три года поработать, а десять лет, например, и не сто тысяч заработать, а триста, или если зарплата будет увеличиваться, то, может быть, и пятьсот – полмиллиона долларов! Степан даже вспотел от таких мыслей, от близости такой колоссальной перемены в его жизни, от такой осязаемой возможности того, чтобы все ЭТО случилось с ним, именно с ним – с Савраскиным. Мысли Степана скакали лихорадочно, он продолжал подсчитывать, что сейчас ему двадцать шесть, и через десять лет ему будет всего тридцать шесть лет! Еще вся жизнь будет впереди, и он уже станет богатым! О-о-о, он не будет транжирить свое богатство на всякие глупости, как это делают жалкие, случайно разбогатевшие людишки. Не станет покупать огромные квартиры, яхты, машины и прочие атрибуты самодовольных и неуверенных в себе нуворишей, только и старающихся доказать окружающим, что они успешны и богаты. «Они делают так, потому что сами не считают себя богатыми по-настоящему, им необходимо через окружающих, через восхищенных прихлебателей доказывать себе свое богатство, но тем самым они богатства и лишаются, приобретая только глупые и ненужные атрибуты, уничтожающие их средства», – так радостно нашептывал Савраскин сам себе и с кристальной ясностью и полной уверенностью чувствовал, что сам он такой глупости не допустит, что сам он вообще не станет больше тратить на себя. Он останется жить так, как и сейчас живет, потому что это совершенно нормально, комфортно и достаточно для человека в себе уверенного, для человека, которому никому ничего не нужно доказывать.
Еще он думал о дочери, как приезжал бы домой – раз в полгода, например, повидаться, иногда дочь приезжала бы к нему на каникулы, и он бы водил ее везде, они бы гуляли вдвоем… «Ради такой жизни можно было бы десять лет кайлом махать», – говорил себе Степан, размышляя, что ничего такого на свете нет, что заставит его от этой идеи отказаться. На все он готовым себя чувствовал и уже представлял себе, как они с мсье Франциском вместе делают разные делишки, и он, Степан, становится у мсье Франциска главным доверенным помощником, потому что нет такого задания, которого не смог бы выполнить Степан Савраскин! Он представлял, как влияние его в компании Бенаму растет и как он будет такой же красивый и обаятельный, как мсье Франциск, и уже не один Франциск, а оба они будут так же эффектно входить на разного рода собрания, Франциск чуть впереди, а Степан чуть сзади, но всегда вместе, а мадам Джессика… Дальше у Степы в фантазиях составлялась небольшая путаница, то он представлял Джессику своей любовницей, но было неловко перед мсье Франциском, если они будут уже почти друзья. То он представлял платонические отношения с нею, состоящие из взглядов и вздохов, из случайных прикосновений, но и это не очень нравилось. Комфортно легла на Степину душу фантазия, что мсье Франциск оказывается гомосексуалистом или импотентом и не возражает, а даже и поощряет его – Степу, к связи со своею женой, имея сам юных любовников или находя удовлетворение в чем-нибудь другом. Но тут сама собой мысль перемещалась в область не очень комфортную, хотя и допустимую, что и он, Степан, мог бы стать предметом вожделения мсье Франциска и как это могло бы быть… а может, они стали бы жить втроем… Эта последняя мысль Степу обожгла своей универсальностью, в ней все составлялось вместе и все замечательно соединялось, не нужно было никого обманывать, и все они были счастливы вместе, втроем, к тому же это так заводило Степу, что он незаметно дал себя дал волю своим ручкам под одеялом и продолжал представлять себе разнообразнейшие варианты…
Дыхание у Степы прерывалось, он иногда чуть не сквозь туман ловил себя на том, что так долго он никогда еще не задерживал в себе воздух… было сделано последнее напряжение, и приятное чувство начало разливаться снизу вверх… затем наступило облегчение. Сразу появилась некоторая ломота в паху и родилось неприятное жжение в месте его сладострастных манипуляций, следом пришли досада, маленькая гадливость и стыдность самому себе. Он подумал, что, слава Богу, это только внутри одной его головы и больше никто ни о чем не узнает, а лучше было бы и самому забыть…
То, что двадцать секунд назад казалось привлекательным, сделалось противным. Вспомнились неприятные руки Франциска Бенаму, его не очень ровное лицо, его влажные губки и щетина на щеках, вспомнил, как он, закончив жевать, языком вычищал у себя между зубами, вспомнил запах его резкого парфюма, вероятно, отбивающий какую-нибудь мужскую вонь, вспомнил его ляжки и зад, охватываемые легкими брюками – все это было мерзопакостно. Степа встал и, стараясь не дотрагиваться руками до белья, пошел в ванную, тщательно смыл следы своих стараний, улегся обратно в кровать и, продолжая чувствовать ломоту и небольшое жжение, честно принялся засыпать.
Но счастье заснуть пришло к нему только после того, как он трижды еще повторил вышеописанную процедуру с самого начала. Каждый раз он не успевал уснуть, как постепенно представляемые им картины вновь приобретали вожделенные очертания, снова они обретали соблазнительную прелесть, приходило возбуждение, и все более и более разнузданные фантазии заполняли его голову… Потом, когда все кончалось, снова становилось физически неприятно. Моральных угрызений уже не было, просто думать ни о чем не хотелось, но уже вместо сладостных ощущений сразу являлась ломота, и все обрывалось вообще без ожидаемого телесного наслаждения, уже он обнаружил потертость на своей крайней плоти и больно было вообще касаться до нее, когда, зло подумав, что Машка дура и могли бы с ней так хорошо провести время, а вместо этого такое идиотство у него приключилось, уснул наконец-таки, совершенно измучив себя.
* * *
Наутро Степан уже размышлял о новой вакансии как о совершенно нужной и даже необходимой для себя вещи, с Машкой стал держаться любезнее – на всякий случай. Не имея пока никакого определенного плана, он принялся высчитывать шансы окружающих, сравнивать их со своими, ждать и беспрерывно думать, надеясь не упустить возможности.
К мсье Франциску Степан теперь стал испытывать искреннее и даже раболепствующее восхищение, он старался заглянуть ему в глаза и улыбнуться лишний раз, но не был ни разу обласкан и считал это несправедливым. Степан видел, что не блещет успехами в изучаемых предметах, но уверен был, что его козырь не в этом, а в преданности и в безотказности. Только как бы заявить о таких своих замечательных качествах, которых, по соображениям Савраскина, и искал мсье Франциск, а он, Степа, имея их в избытке, не имел возможности свой потенциал продемонстрировать. Он подумывал уже, улучив время, подойти к мсье Франциску и рассказать ему все начистоту, сказать, как ему хочется получить эту вакансию и очень-очень попросить, возможно, даже униженно попросить… Конечно, этим он подвел бы Машку и эту секретаршу Жульена, но зато сразу показал бы будущему шефу свою окончательную преданность. Этот вариант был плох только тем, что не казался ему элегантным, и он решил держать на самый последний момент, а сам продолжал ждать случая. Дни проходили в смятении.
* * *
Один из классов, в которых занимались рекруты, был оборудован так называемым зеркалом Гизелла – это означало, что одна из стенок кабинета была зеркальной и за ней была еще небольшая комнатка, находясь в которой, можно было, оставаясь невидимым, наблюдать за происходящим, чтобы не мешать процессу тренинга, а потом, собираясь вместе, делиться впечатлениями и с той и с этой стороны.
Все неожиданные и неконтролируемые вещи всегда начинаются с забывчивости или глупой случайности. Так произошло и у Степана. Угораздило же его в один из вечеров забыть за зеркалом Гизелла свою паршивую учебную тетрадку, которую он никогда и не читал дома, но тетради выдали в самом начале учебы каждому по одной, они были, так сказать, частью реквизита, а еще ему не хотелось, чтобы ее нашли уборщицы и принесли к руководству – мол, полюбуйтесь, какие у вас аккуратные студенты! Тем более Степа там делал некоторые замечания на полях об учителях, которые могли бы им не понравиться. Он решился быстренько сбегать и забрать то, что ему принадлежало. Часом позже он тысячу раз произнес себе, что никогда не нужно нарушать заведенные порядки и делать что-то непредусмотренное. Но это было часом позже, а сейчас Степан, поужинав, топал себе от гостиницы в офис и испытывал даже некоторое трепетное состояние чувств от того, что идет туда один, вечером и во внеурочное время. На рецепции он честно объяснил причину своего появления, его пропустили, но сказали, что необходимо найти мсье Франциска, который находится в офисе, и попросить у него ключи. Степа обошел все известные коридоры, он даже позволил себе тихонько позвать мсье Франциска вежливым голосом, так как в офисе была полная тишина, но и тут никто не отозвался. Тогда огорченный Степан, думая, что теперь его вообще все будут считать за тупицу, неспособного даже найти человека в десяти пустых комнатах и элементарно забрать забытую вещь. Какой из него тогда на фиг продавец или менеджер? Наудачу Савраскин потопал к той двери, за которой ему и нужно было очутиться, машинально дернул ручку… и дверь отворилась! Степа еще раз постучал, даже крикнул из деликатности, потом вошел, немного робея, но постепенно решил, что раз здесь никого нет, а дверь не заперта, он просто возьмет тетрадку и выйдет, а на рецепции все объяснит. За стеклом в зеркальной комнате была темнота, это значило, что там тоже никого нет. «И слава Богу», – подумал Степа, еще не хватало за кем-то отсюда тайком подглядывать. Хотя, если кто-нибудь и находился бы в смежной комнате, Степа не подумал бы подглядывать, а мог просто постучаться в дверь и честно обозначить свое присутствие, но никого не было, и обозначаться было не перед кем. Он стал оглядываться и искать свою тетрадь, но нигде на поверхности ее не было. Это казалось Степану странным, ведь он мог оставить ее только на одном из столов. Тут-то ему и нужно было уходить, и наплевать на эту тетрадку, но он начал шарить по ящикам и ничего в них не обнаружил, кроме мусора, а один ящик одного из столов был закрыт на замок. Конечно, не нужно было Степе открывать этот ящик, а он все-таки попробовал его пошевелить руками и немного встряхнуть. Вероятно, стол был отчасти поломан, и после того как Степа тряхнул его второй раз, ящичек отскочил, открывшись, при том что язычок замка оставался выдвинут, и как теперь закрыть его назад – уже стало проблемой. Тетрадки там не оказалось. Зато там оказался конвертик, довольно большого размера, который явно не имел к Степану никакого отношения и залезать в который было совершенно не нужно, но Савраскин, конечно, засунул в него свой нос и увидел там то, что через несколько минут заставило его сердце стучать быстрее, ноги его заставило сделаться ватными, а губы его заставило пересохнуть. К Степе пришло сладкое ощущение, что проникаешь в чью-то святая святых, и тебя никто не замечает, и сейчас ты прикоснешься к какому-то огромному секрету! Там были несколько дискет для компьютера и фотографии. Сверху были фотографии старенького Патрика Бенаму в разных ракурсах, в том числе фотографии явно домашние, неофициальные. Было еще некоторое количество неофициальных семейных фотографий Бенаму. Савраскин просматривал их бегло и задерживался только на тех, где фигурировала мадам Джессика, особенно где она была возле бассейна, или плавала, или просто сидела за столом, или валялась в пижаме на огромной кровати… В основном, кроме верхних, на всех фотографиях была мадам Джессика. Степан листал фотокарточки, задерживаясь взглядом на каждой и потея от предвкушения, он боялся листать быстрее, боялся вытащить карточку не подряд, а снизу, потому что не хотел спугнуть нечто, что на каждой следующей фотографии выражалось сильнее и отчетливее – это была сексуальность поз, нарядов и взглядов мадам. Только что она просто лежала на кровати в пижаме в нейтральных и относительно целомудренных видах, а вот она уже стоит на четвереньках, прогнув спину, и пижама чуть открывает ее грудь, хотя ничего еще и не видно, но лицо у мадам тоже поменялось, оно такое… поощряющее, притягательное и бесстыдное, а одновременно и робкое, но робость эта насквозь порочна и еще больше возбуждает… Потом пошли фотографии в белье, потом вообще исчезла верхняя часть одежды, у Степы чуть не вылезли глаза, когда он увидел супругу вице-президента компании Бенаму, держащую снизу руками свою грудь и как бы предлагающую ее всем желающим… Затем, разнообразно поднимая ножки, на нескольких снимках мадам играла со своими трусиками… Степа боялся поверить своему счастью, но на очередной фотографии мадам, грациозно и шаловливо улыбаясь, стягивала с себя эту последнюю деталь туалета и дальше, лежа на кровати, демонстрировала уже все! На снимках появились некоторые атрибуты и приспособления, предназначение которых Степан мог только предполагать, но от этих предположений во всем его сознании не оставалось больше ничего, кроме одного пульсирующего органа, который сейчас единолично принимал решения, и будь это решение несовместимым с жизнью, оно без секундной задержки было бы исполнено безоговорочно. Фотографий было много, штук пятьдесят или больше, Савраскин рассматривал их минут пятнадцать, не думая, что именно теперь все его будущее ставится под угрозу. Мадам была воплощением соблазна! Степан не удержался и, оглянувшись зачем-то по сторонам, спрятал одну из фотографий себе в карман. Там мадам была крупным планом и в такой позе, которая позволяла видеть гораздо больше, чем на тренингах, а выражение лица ее было сладострастнейшим. Она пронизывала Степу взглядом и была такая бесстыдно зовущая, что не было в тот момент силы, которая заставила бы вернуть эту карточку на место! Он хотел было еще раз просмотреть все фотки, как вдруг в смежной комнате зажегся свет и замерший от ужаса Степан увидел мсье Франциска с супругой. Они вошли и расселись на креслах. Начальство вольготно расположилось в двух метрах от Степана, и он почувствовал, что застигнут, что сейчас его задушат здесь как мыша, а он и не подумает сопротивляться. Все внутри него похолодело, в голове произошел звон, и в дополнение на Степу напал столбняк – он даже фотографии так и держал в руках, не убирая их в конверт! Так он просидел с минуту, пока начало понемногу возвращаться сознание, и Степан понял, что он-то их видит, а они его – нет! У него была надежда тихонько улизнуть. Савраскин покрылся потом еще больше, губы и руки его задрожали, он начал убирать фотографии, лишь изредка поглядывая на них и боясь оторвать взгляд от мсье Франциска и Джессики, ему казалось, что пока он смотрит на них, его не видно, а чуть он отведет взгляд – и зеркало для Франциска и Джессики тоже станет прозрачным! Он кое-как убрал фотографии, но потом вспомнил, что порядок был другим, снова достал, чуть надорвав при этом конверт, и принялся перекладывать, смотря уже только на конверт и на фотографии и теперь, наоборот, боясь поднять глаза, потому что казалось, он увидит там устремленный прямо на него страшный взгляд! Один раз он увидел этот взгляд! Степа весь сжался и хотел уже виновато заплакать от отчаяния, но взгляд Франциска только скользнул по Савраскину и миновал его. Он там, в комнате, смотрел на себя в зеркало! Степа вытер пот рукой, аккуратно положил конверт так, как он и лежал, теперь оставалась одна проблема – закрыть ящик. Для этого нужно было его тряхнуть еще раз, но звук… Этот звук неизбежно был бы слышен в соседней комнате!






























