Текст книги "Сократ. Введение в косметику"
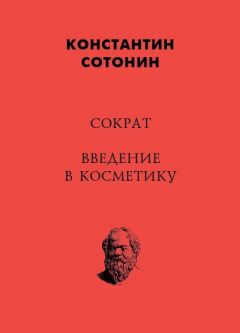
Автор книги: Константин Сотонин
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
«Мудрость есть знание? Я думаю – … Человеку невозможно быть мудрым во всём? – Разумеется, нет. Следовательно, кто что знает, в том он и мудр? – Я думаю, что так. – Евтидем, не следует ли таким же образом рассмотреть и благо? Думаешь ли ты, что одно и то же полезно для всех? – Конечно, нет. – Стало быть, не находишь ли ты, что полезное для одного для другого может быть вредно? – Даже очень часто. – Но скажешь ли ты, что благо есть иное, чем полезное? – Нет. – Следовательно, полезное есть благо для того, для кого оно полезно? – Кажется, так» (из разговора Сократа с Евтидемом. Ксенофонт. Воспоминания. IV. 6 8–9). Едва ли нужны более веские доказательства полной непричастности Сократа к приписываемым ему исканиям абсолютного, объективного блага, – к приписываемым ему на почве досадного и ничем не оправдываемого смешения с действительными исканиями Сократа объективных, общезначимых, «абсолютных» определений этических понятий, в частности и особенности, понятий блага и добродетели. Насколько эти вещи – объективное благо и объективное определение понятия блага – чужды друг другу, – явствует из того, что определение ультра-субъективистического представления о благе как о состоянии удовлетворённости данного человека в данный момент может быть дано ничуть не в менее объективной, общезначимой форме, чем и определение блага, которое будет благом для всех существ; дело только в том, что первое определение будет иметь гораздо меньшее количество указаний на конкретное содержание блага, чем второе определение, исчерпывающее (в идеале) всю конкретную сущность блага. Но ведь у нас нет никаких фактических указаний на то, что Сократ якобы искал определений, исчерпывающих конкретное содержание определяемой вещи; больше того, у нас есть прямые указания на то, что Сократ не признавал возможности определить благо и добродетель исчерпывающим образом, так, чтобы определение включало в себя всё конкретное содержание блага и добродетели, а это есть новое доказательство того, что Сократ не признавал абсолютного блага, – оно ведь, как абсолютное и неизменное, могло бы целиком быть исчерпано определением. Наиболее решительное отрицание абсолютного блага в смысле идеалистов Сократ даёт у Ксенофонта (III 8.3): на вопрос Аристиппа: признаёт ли Сократ что-либо благом, Сократ ответил вопросами: спрашивает ли Аристипп о благе против лихорадки, против глазной болезни, против голода, и получив отрицательный ответ, говорит: «А если ты меня спрашиваешь, знаю ли я такое благо, которое служит благом против ничего, такого блага я не знаю и мне его знать не надо». Здесь благо признаётся относительным с точки зрения даже не разных личностей, а одной и той же личности, но в различных её потребностях.
Другое такое же прямое доказательство – учение Сократа, что добродетели нельзя обучать, несмотря на то, что добродетель (и благо) может быть предметом знания, – нельзя обучать добродетели так, как обучают игре на лире, врачебному и другим искусствам – путём простой передачи знания от учителя к ученику. Это учение, наиболее ярко запечатлённое в диалоге «Протагор», отразившем несомненно действительные насмешки Сократа над софистами, берущимися обучать добродетели, стоит в решительном противоречии с признанием Сократа основателем объективной этики и, наоборот, чрезвычайно гармонирует с признанием его крайним субъективистом в этике и даёт новые доказательства этого его субъективизма. Если существует единое неизменное для всех абсолютно-значимое благо, если существуют постоянные, для всех одинаковые нормы нравственного поведения и если они могут быть познаны, то бессмысленно утверждать, что им нельзя обучить. Наоборот, если не существует таких абсолютных норм, если благо для одного может быть злом для другого, если нормы поведения одной личности отличаются от норм поведения другой, поскольку сами личности отличны друг от друга, если сущность блага определяется субъективными свойствами каждой личности, – то обучение добродетели в смысле простой передачи знаний от учителя к ученику ещё оставалось бы возможным при условии, что все личности совершенно однородны по своим свойствам; если же личности разнообразны, если они отличаются своими способностями, потребностями, свойствами, – а Сократ прекрасно видел, что они отличны, – то попытка такого обучения действительно должна была казаться безрассудной, потому что то, что для учителя является благом и добродетелью и чему он стал бы учить ученика, для последнего могло бы оказаться злом и злодеянием. Для Сократа было несомненным, что правильно одно из двух: или добродетели вообще обучать невозможно, или для обучения ей должен быть употреблён существенно иной приём, чем какие употребляются софистами; если такой новый приём найдётся, то делание людей добродетельными этим методом было бы правильнее вообще называть не обучением, а как-то иначе. И Сократ нашёл такой метод; он назвал его – майевти-кой, повивальным, акушерским искусством, говоря, что этому искусству он научился у своей матери, повивальной бабки. Майевтика Сократа отличается от обучения так же сильно, как работа повивальной бабки, лишь помогающей родить беременной женщине, от акта родов, как он происходит у беременной, или, лучше, от акта зарождения, в котором ученик является матерью, учитель – осеменяющим отцом того знания, которому обучается ученик; Сократ не признаёт себя отцом тех знаний добродетели и блага, которые будут у его учеников; он ничего не внедряет в учеников, не осеменяет их, – нет, наоборот, он помогает появлению на свет, наружу из недр ученика того плода, которым ученик уже беременен; ребёнок может появиться на свет с большими или меньшими страданиями матери; и ребёнок и мать могут понести больший или меньший ущерб в зависимости от искусности повивальной бабки; но в ребёнке всё же не будет ни капли крови, ни крошки плоти от повивальной бабки, и она не может ручаться за то, что воспринятый ею ребёнок не окажется впоследствии злодеем; её дело – помочь родам, кто бы ни родил и кто бы ни родился.
Благо личности должно быть определено изнутри её самой и не может быть внедрено другим человеком; не присматриваясь к человеку, сказать ему, что для него будет благом, – это хуже, чем если бы врач стал лечить больного, совершенно не посмотрев, чем он болен и болен ли вообще. Только на почве всестороннего изучения данного человека, его потребностей, способностей, свойств можно ещё было бы сказать, что для него будет благом, как он должен поступать, но и это в действительности невозможно, потому что жизнь и поступки человека до бесконечности многообразны, и нельзя заранее предрешить способ наилучшего поведения данного человека при всех случайных стечениях обстоятельств, которые у него будут; обучить добродетели, таким образом, вообще невозможно, раз благо для одного может быть злом для другого, раз благо для каждого человека то, что находится в соответствии с его личными потребностями. Возможно только обучить человека умению во всех новых стечениях обстоятельств разбираться, самостоятельно узнавать, что для него будет благом, какой его поступок будет добродетельным. Помощь, которую Сократ признавал возможным оказать человеку при первых его попытках выяснить своё благо и которую он действительно оказывал каждому встречному, он и называл майевтикой.
Но майевтика Сократа – довольно сложная работа, включающая в себя и обучение, хотя при желании и его можно было бы осветить как только воспринимание чужого плода. Это обучение умению определять своё благо начиналось с вкоренения (с пробуждения, если угодно) в ученике сознания того, что благо не существует вне личности, что благо – то, что удовлетворяет личность, что люди различны и по своим свойствам и по условиям, в которых находятся, и потому благо для одного может быть злом для другого. Здесь начинался второй этап обучения, второй класс Сократовой школы добродетели; если программа первого класса может быть определена как этический релятивизм, то обучение во втором классе проходило под лозунгом: «познай самого себя» и программой его был психологистический индивидуализм в этике: благо одной личности потому не совпадает с благом другой, учил здесь Сократ, что благо есть полезное для удовлетворения имеющихся у человека потребностей, а люди различны по своим потребностям; поэтому для того чтобы данный человек мог знать, что для него будет благом и добродетелью, он должен знать свои потребности, свои свойства, свои способности; только самопознание может дать тебе знание того, что для тебя будет благом и добродетелью, как ты должен жить и действовать; никто другой не сможет сказать тебе об этом, потому что твоё благо неразрывно связано с твоей природой, с твоим самочувствием, с твоей душой. Познай, чего ты хочешь, что для тебя важно и что совсем не важно, что даст тебе устойчивую радость и что за короткую радость заставит тебя претерпеть много страданий; познай, что ты можешь и чего не можешь, чего ты в силах добиться и что превышает твои силы; познав всё это, ты будешь знать, что для тебя будет благом и что злом, какой твой поступок будет добродетельным и какой дурным; ты сможешь построить свою жизнь так, чтобы взять из неё наибольшее количество радости и избежать ненужных, вызываемых ошибкой страданий. Третий этап обучения, третий класс Сократовой школы был собственно майевтическим. Здесь Сократ занимался практической помощью своим ученикам в деле их самопознания, в определении их склонностей, влечений, способностей в нахождении наиболее пригодных для них форм поведения. Здесь готовились люди, живущие сознательно, зная, почему они делают так, а не иначе, контролирующие каждый свой шаг; здесь готовились крайние индивидуалисты, знающие, что чем бы они ни были, они не будут ни хуже, ни лучше, если только они таковы сознательно; здесь готовились теоретические учёные, с головой сознательно ушедшие от жизни в науку, и люди практики, ни одного шага не делающие без надежды на материальные выгоды; святые простецы, за бесполезную правду готовые отдать жизнь, и увёртливые хитрецы, вся жизнь которых построена на лжи и обмане; сластолюбцы и аскеты; честнейшие государственные деятели, бескорыстно жертвующие собой ради любимого отечества, и самые беззастенчивые демагоги, своекорыстнейшие политиканы, государственные преступники, за тридцать серебренников готовые продать отечество. Лишь бы они были таковыми сознательно, лишь бы они изнутри себя поняли, что в этом их наибольшее благо!
Итак, призыв Сократа к самопознанию имеет только один смысл – смысл утверждения этического индивидуализма, или, что то же самое, ниспровержения всякой этики, как учения о чём-то должном и, следовательно, авторитарном. Авторитарные этические нормы должны быть заменены автономными психологистическими нормами, устанавливаемыми каждой личностью для себя изнутри себя путём самопознания; философия не может существовать как наука о благе и способах её достижения; она может быть только методом, пользуясь которым, каждая личность самостоятельно решает для себя вопрос о благе, – таков смысл и итог всей Сократовой деятельности – деятельности одного из величайших софистов, важнейшей заслугой которых была борьба с авторитарной этикой. Своим учением о невозможности обучения добродетели Сократ не разрушал софистики, он развивал и упрочивал её, устраняя её слабые пункты, таившиеся в ней сначала противоречия. Положения, к которым пришёл Сократ, его требование самопознания – не только не противоречат учению софистов, в частности Протагора, но находятся в полном соответствии с ним, и уже из положений Протагора можно было бы вывести требование самопознания, к которому пришёл Сократ; если Протагор не сделал таких выводов, то это только упущение, которое восполнил Сократ. А что Сократ сам (по крайней мере, у Платона) освещает своё учение как противовес софистам, так ведь софисты – это не партия; вражда и борьба, расхождения между ними в отдельных пунктах не представляют ничего удивительного.
Но Сократ не только разбивает общие софистам взгляды этического релятивизма, но приходит даже к наиболее крайним выводам этического индивидуализма – к установлению абсолютной эгоистичности человека и к признанию полной правомерности эгоистических притязаний личности, – вполне сов падая с Полосом, Калликлом и Фразимахом; это учение выявлено прекрасно в диалоге Платона «Гиппарх» (см. ниже в главе «Сократ скептик»).
Впрочем, этический релятивизм Сократа мог происходить и не от софистов: как ученик Архелая, он уже и у него мог приобщиться релятивизму: Диоген Лаэртский сообщает, что Архелай «философствовал о законах, о прекрасном и справедливом», что по его мнению «справедливое и постыдное существуют не по природе, а установлены людьми», и что Сократ был продолжателем этической работы Архелая (Дильс 47 А1). Возможно также, что Архелай является общим источником релятивизма софистов и Сократа, как это можно думать и по характерной для софистов постановке вопроса: по природе – по установлению.
5. Сократ – теоретик софистической риторикиМы уже видели, насколько прекрасно Сократ владеет техникой софистического построения речей, если понимать под таковым построение не в целях дать строго научное, серьёзное представление о рассматриваемом предмете, а в своекорыстных целях убедить слушателей и собеседников в своей правоте, независимо от того, считает ли говорящий правильным или неправильным защищаемое положение; насколько свойственно было Сократу пользоваться в своей практике такой софистической техникой, – это мы уже видели. Но Сократ не был в этом отношении подражателем софистов, он не заимствовал у них отдельных их приёмов. Нет, сам он – один из родоначальников софистической риторики, разрабатывающий, наряду с Протагором и Горгием и почти независимо от них, основные приёмы софистического доказательства любого положения, внёсший большой вклад в теорию софистической риторики, – а она и до сих пор постоянно употребляется.
Сам Сократ, у Платона, неоднократно называет своим учителем софиста Продика в деле различения близких по смыслу слов. Это искусство Продика Сократ усвоил прекрасно и, как мы уже видели в анализе «Апологии» и как можно было бы показать на примерах из других сочинений Платона, очень ловко использует его в софистической своей практике, зная, что слушатели и собеседники не уловят такой тонкости; на неспособности собеседников достаточно точно различать смысл близких друг к другу по значению слов строится очень часто и изобличение Сократом невежества собеседников; в направлении выработки такого умения у учеников развивается и значительная часть педагогической практики Сократа. И завершением развития искусства Продика является Сократово осознание соподчинённых понятий, которые и нуждаются особенно в различении, а отсюда открытие общих понятий вообще и их определений. Это открытие Сократа, значение которого выходит, конечно, далеко за пределы нужд одной только софистической риторики, было всё же, у Сократа, тесно связано с развитием риторики, с выработкой техники словесного выражения своих мыслей. Ведя в дальнейшем к возникновению логики, это открытие как будто в корне подрывало всякую софистику; но с другой стороны, особенно на первых порах, когда открытие Сократа было ещё совершенно чуждо широкой публике, оно же давало в руки софистам новое очень ценное оружие, и сам Сократ дал массу примеров его софистического использования. Но не это открытие общих понятий, не специфически софистическое и даже не специфически риторическое, лишь побочно полезное для софистической риторики как логический фундамент для риторики вообще, – составляет главный вклад Сократа в теорию софистической риторики; этот вклад имел своей основой тот же фундамент, осознание Сократом того же факта, на котором он строил свою релятивистическую этику и пришёл к требованию самопознания как метода нахождения своего блага; этот фундамент Сократовой теории риторики – факт различия личностей.
Много позднее написания «Апологии», «Менексена» и других сочинений, в которых выявилась софистическая ловкость Сократа, Платон вспомнил, что Сократ действительно прекрасно знал технику построения софистической речи и сам разрабатывал один из существеннейших моментов теории ораторского (софистического) искусства – вопрос о массовой психологии слушателей и об использовании её оратором. В «Федре» (261–273) в уста Сократа Платон вкладывает замечательное рассуждение об ораторском искусстве; изложенные здесь мысли Платон освещает как новые, отличные от учений предшествующих Сократу теоретиков риторики, как Тисий, Феодор, Эвен, Горгий, Протагор и все софисты, а также Лисий; может быть, эти мысли были в зачаточном состоянии только у «медоустого Адраста» (вероятно, имеется в виду ритор Антифонт – 269 А), да в своей ораторской практике Перикл приближается к идеалу оратора, каким он должен быть сообразно развиваемой в «Федре» теории (о Перикле Сократ говорит здесь: «Кажется, Перикл … достиг наивысшего совершенства в риторическом искусстве» – 269 Е; см. также 270 А). Таким образом, эта теория может принадлежать только или Сократу, или самому Платону; и вопрос об её авторстве без большого труда решается в пользу Сократа на основании её содержания, если отбросить безусловно Платоновские элементы (учение об идеях), которыми дополнена теория и без которых она ничего не теряет; в этом очищенном от идеалистических дополнений виде мы и изложим теорию, перейдя затем к вопросу об её «авторе».
Наиболее частое практическое использование риторики в V веке имело место в суде, и особенно в этом направлении развивалось софистическое искусство. Но «в суде вообще никто нисколько не заботится в каждом данном случае об истине, а заботится только об убедительности речи. Поэтому желающий говорить искусно должен обращать внимание главным образом на правдоподобие. В обвинительных и защитительных речах иногда даже не следует говорить о самих деяниях, если деяния эти стоят в противоречии с справедливостью, но только о правдоподобном. Вообще, оратор должен искать правдоподобия, зачастую сказав истине: прости» (272 Е). Это говорится с намёком, что так думают другие, – но так закруглённо, как выразил здесь задачу софистической риторики Сократ, едва ли другие софисты выражали, по крайней мере, в письменной форме. Впрочем, для Сократа риторика имеет более широкую область, чем только судебные речи; это – «искусство касательно всего, о чём говорят, такое искусство, при помощи которого всякий будет в состоянии всё, что возможно, уподоблять всему, чему возможно, и выводить на свет другого, если он прячется за делаемые им уподобления» (261 Е) – здесь уже вполне явно риторика отожествляется с тем искусством бесед, в которых несравнимо искусен был сам Сократ, и он выдвигает в своём определении риторики именно ту сторону, которую развил он сам и в которой, как он знал, никто не был так силён, как он, – игру на уподоблениях, на близости смысла двух слов. Пусть Сократ относит тотчас же своё определение к риторике софистов, открещиваясь от неё: «ведь я, по крайней мере, вовсе не причастен к искусству красноречия» (262 D), пусть он затуманил этим голову даже Платона, – мы-то теперь прекрасно видим, что Сократ хочет излагать свою теорию риторики, и эта риторика – искусство обманывать, как он тут же заявляет, развивая тонкую теорию техники обмана: указанную игру на уподоблениях, обман с помощью этих уподоблений, приведение слушателей таким путём к мнению противоположному в сравнении с бывшим у них, – это надо делать незаметно, не делая скачков от утверждения одного положения к утверждению другого, расходящегося с предшествующим, а «помаленьку переходить от одного к другому»: обман бывает скорее в малом, чем в большом различии вещей; поэтому «собирающемуся обмануть другого, а самому в обман не попасться, следует тщательно знать сходство и несходство вещей» (262 А); невозможно «человеку, не знающему свойства каждого из предметов, показывать своё искусство в постепенных переходах, при помощи указания сходства, направляя других каждый раз от существующего к противоположному и самому при этом оставаться незамеченным» (262 В). Как возгордился бы Продик, услышав эти слова, делающие его основателем тончайшей теории софистической риторики: ведь Сократ только развивал его, Продиково, искусство различения слов. Но Продик и все софисты обрадуются ещё более, узнавши, что это ещё только незначительное начало, первое, общее положение риторики, гласящее: оратор может ставить какие угодно цели своей речи, – поучать ли тому, что признаёт он сам, сбивать ли слушателей с толку и обманывать их, – но сам он, во всяком случае, должен обладать точным знанием вещей, с которыми имеет дело; говорящий должен знать «истину о том, о чём он собирается говорить, чтобы сказать – это действительно хорошо и прекрасно» (259 Е; сказать хорошо и прекрасно – это значит только: обмануть других и самому при этом оставаться незамеченным в обмане, хотя Сократ, конечно, не поясняет этого напрямик).
Дальше Сократ развивает и конкретизирует это общее положение. По его мнению, существуют два [вида] весьма отличных друг от друга рода понятий: с одной стороны – понятия, содержание которых для всех ясно, понимание которых у всех одно и то же, – как «железо», «серебро»; и с другой стороны – понятия мало определённые, неясные, расплывчатые (при их понимании «один уносится мысленно туда, другой сюда, и мы расходимся друг с другом и сами с собой» 263 А), как «справедливость», «благо». И очевидно, что «мы легче можем попасться в обман» на втором роде понятий, поэтому и риторика «больше силы имеет» при оперировании с такими понятиями (263 В); отсюда возникает новое риторическое требование: «кто собирается заниматься риторическим искусством, тому нужно, прежде всего, методически различать это, т. е. уловить характерные свойства каждого из двух предметов: того, в котором толпа неизбежно заблуждается, и того, в котором не заблуждается… При каждом отдельном предмете нужно не упускать из виду, но зорко наблюдать, к какому роду принадлежит тот предмет, о котором собираются говорить» (263 ВС). Построение речи на строгом учёте массовой психологии, психологии толпы! – вот поистине гениальное софистическое завоевание Сократа! И как он был искусен в этом учёте в своей практике! Это ведь именно та теория, которой Сократ неуклонно следовал в своих беседах: от вполне понятных собеседнику «железа» и «серебра» перевести беседу на расплывчатые понятия «блага» и «справедливости» – какой софист был в этом более искусен, чем Сократ!?
Но Сократ не ограничивается этим общим указанием на психологию толпы как на основу риторики; порассуждавши вдоволь, по воле Платона, на более отвлечённые и прямо не относящиеся к делу, во всяком случае, мало полезные для риторической практики темы об образовании родовых понятий в духе Платона (Сократ учил этому существенно иначе, не выходя за пределы практических потребностей, – см. гл. «Сократ – скептик»), Сократ возвращается к своему конкретному вопросу об основах софистической риторики, связывая уже этот вопрос с обучением риторике. Чтобы быть «знаменитым оратором», надо, по Сократу, «будучи оратором по природе…, присоединить ещё сюда знание и практику» (269 D), и нужные для риторического искусства знания, сходные со знаниями, требующимися во врачебном искусстве: «и в том и в другом нужно уметь различать природу – тела во врачебном искусстве, души – в риторическом, если хочешь – не при помощи рутины только и натасканности, но по всем правилам искусства – телу предлагать лекарства и пищу, которые приносили бы ему здоровье и силу, душе – речи и надлежащие занятия, которые вселили бы в неё желательное для тебя убеждение и добродетель» (270 В)[16]16
Аналогия, как очень часто у Сократа, – далеко не вполне безукоризненная и может служить одним из многочисленных примеров его освещённой им только что софистической игры на уподоблениях и обмана путём незаметных переходов: правильная аналогия риторики с врачебным искусством требовала бы предлагать душе «речи и надлежащие занятия, которые вселили бы в неё» не «желательное для тебя убеждение», а потребное для самой души слушающего, т. е. полезное для него. Но тогда это была бы не софистическая риторика, а методика научного преподавания. Понятно, что софист Сократ в данном случае, развивая теорию софистической риторики, не пошёл по этому пути, хотя там, где ему нужно, он пользуется правильной аналогией, предлагая ученикам самопознание как метод достижения блага, и ученикам в области риторики вселяя не то, что желательно для него, учителя, а то, что действительно полезно им, будущим софистам. Но почему Платон, заинтересованный, как можно судить по его вставкам и окончанию «Федра», не в обмане, а в полезном для слушателей, – всё же не воспользовался и более правильной и более соответствующей его целям аналогией, – это пока не понятно; к этому вопросу мы ещё вернёмся. – К. С.
[Закрыть].
Поясняя смысл проведённой аналогии, Сократ ещё раз указывает на душу слушателей как на главный предмет изучения будущего оратора: «тот, кто при помощи искусства наставляет другого в составлении речей, точно укажет ему сущность природы того, на что он направит свои речи. А это будет, конечно, душа» (270 Е) и разъясняет, в чём заключается необходимая для практики сущность вещи, с которой мы имеем дело: следует «размышлять о природе каждой вещи таким образом: во-первых, просто ли, или имеет много видов, то, в чём мы сами пожелаем быть искусными и в чём в состоянии сделать таковым другого; затем, если оно просто, надо исследовать его природную силу, какова она и к чему служит, может ли она действовать активно и какому влиянию и в зависимости от чего она может подвергаться. Если она имеет много видов, то, сделав подсчёт им, следует рассмотреть каждый из них в отдельности… именно: каков этот вид, в чём он сам по себе может проявлять, по природе, своё активное действие, какому влиянию и в зависимости от чего он может подвергаться» (270 D)[17]17
Это – несомненно платоновское переложение несомненно же сократовых слов об изучении вещей, особенно души, к которой эти мысли прилагаются дальше и Платоном, и с подобным изучением которой мы уже встречались в Ксенофонтовом изложении призыва Сократа к самопознанию. – К. С.
[Закрыть].
«Итак, все усилия его (оратора) направлены на неё (на душу), потому что в неё именно он и стремится вселить убеждение» (271 А). Приближаясь к установлению наиболее рискованных с точки зрения общественного мнения, наименее социальных и наиболее демагогических правил софистической риторики, Сократ (Платон?) принимает меры самообороны против возможных упрёков и обвинений – в приведённой фразе Сократ переходит от нормативной формы изложения к описательной: раньше было: «следует», «нужно»; в непосредственно предшествующей разбираемому месту фразе 270 Е, цитированной выше, имеем уже более мягкое: «кто наставляет… точно укажет»; и теперь совершенно описательно: все усилия оратора направлены… Следующей фразой, подготовивши таким образом читателя, Сократ всю ответственность за развиваемые мысли переносит с себя на Фразимаха и софистов вообще: «ясно, следовательно, что Фразимах и всякий другой, кто ревностно преподаёт риторическое искусство, во-первых, со всею тщательностью опишет душу и выяснит, есть ли она, по своей природе, единое и схожее, или же она, в соответствии с видом тела, имеет много образов. Это-то мы и называем «вскрыть природу”… Во-вторых, в чём и на что душа от природы способна активно действовать и в зависимости от чего подвергаться влиянию, в-третьих, он определит виды речей и душ, рассмотрит их свойства, установит их причинную связь, приноравливая каждый вид к соответствующему и поясняя, при каком свойстве, в зависимости от каких речей, по какой причине, неизбежно, одна душа поддаётся убеждению, другая не поддаётся» (271 АВ). Но Фразимах сделал своё дело, его имя использовано в качестве самообороны Сократа и Платона; не оставлять же за ним авторство на такую чудную теорию! Дело, конечно, не в учёной объективности, не в нежелании вызвать у читателя ложное представление об исторических фактах, – нам, Сократу, а тем более его ученику Платону, наплевать на эту объективность: мы делали и не такие исторические подмены; но отказаться от авторских прав на такие замечательные мысли, могущие составить славу у потомства, да ещё отказаться в пользу какого-то презираемого нами софиста Фразимаха, – нет, это слишком! Открыто заявить свои авторские права? Это рискованно. Но недаром же мы, по крайней мере один из нас, софисты! Выход очень прост, и подготовку к нему мы сделали уже раньше (266–269), авторские права на имеющие быть изложенными мысли, совершенно отвергнувши в отношении ко всем этим софистам, компрометирующим обществом которых мы гнушаемся; немного ближе к этим мыслям мы поставили Антифонта (впрочем, хотя это личность и почтенная, но всё же приговорённая афинянами к смерти, – поэтому мы предпочли не называть его собственным его именем), и наиболее близким к нашим мыслям признали Перикла, – раз Перикл, последний общеафинский герой, разделял такие мысли, так это достаточная гарантия их общественной безопасности и безукоризненности; а с другой стороны, Перикл не опасен и как претендент на авторские права в отношении к излагаемым мыслям: он же не был теоретиком, и никто достаточно образованный не скажет, что наши мысли принадлежат ему; самое большее, он бессознательно руководился ими в практике. А что мы упомянули Фразимаха и других в связи с нашими мыслями, так это не только можно исправить на основании изложенной подготовки, но ещё и использовать в наших же целях. Вот он, выход: «Если объяснять или говорить иначе [чем как излагалось перед тем об изучении души], наверно никогда не удастся искусно ни сказать, ни написать ничего. А нынешние составители – ты слышал о них – руководств по составлению речей, – хитрецы и скрывают всё это, хотя и обладают прекраснейшими сведениями о душе» (271 ВС). Фразимах и другие – ты слышал о них (с такими софистами, как Сократ и Платон – теперь мы видим, что если чему Платон и научился у Сократа, так это софистике, и как блестяще он научился ей! – надо держать ухо очень остро: это «ты слышал о них» имеет, конечно, прежде всего смысл отрицания авторства за упомянутыми раньше риторами; но эта вставка не имеет ли ещё и другого предназначения – отвести глаза от совершаемой здесь самим Платоном литературной кражи, от присвоения им авторских прав кого-то другого, не упомянутого: если кражи не заметят – хорошо; а если обвинят в ней Платона, он с негодованием укажет, что отрицал авторство только упомянутых лиц); так эти теоретики риторики скрывают из хитрости важнейшее используемое ими средство при составлении речей – массовую психологию, хотя они и обладают прекраснейшими сведениями о душе. Раз они скрывают – значит не они авторы изложенных мыслей; а что они их всё же знают, – так за скрытые мысли венков не присуждают; мы – Сократ и Платон – первые высказали их, мы и получим лавры от тех, кто склонен увенчивать; а кто больше склонен обвинять и сжигать на костре, злоба тех за наши мысли падёт скорее на вас, лишённых авторства, чем на нас, – мы даже ещё можем получить от них лишний лист в наш венок: мы же изобличаем, мы указываем на ваши хитрые затаённые мысли, которых вы не высказываете, но которые в своей затаённости ещё более опасны. Гениальное софистическое построение! Но как странно, что этим дьяволом в маске святости, этим преступнейшим злодеем-софистом в хитоне невинности оказывается – Платон! Поистине, в тихом омуте… да и не в омуте, а в светлых, божественных сверхнебесах идеализма – черти водятся!
Обезопасив себя от обвинений тогой цензора нравов, беспощадного изобличителя, Сократ (рваный плащ которого, кстати, очень подходил для исполнения в нём, за неимением тоги, роли цензора нравов) мог спокойно вернуться для окончания своей теории риторики к более пригодному в этом практическом руководстве нормативному способу изложения: «я хочу сказать о том, как следует писать тому, кто собирается, насколько это возможно, быть искусным в своём деле» (271 С). И вслед за этим Сократ делает наиболее детальные указания о психологических основах софистической риторики, прекрасные, тонкие, но несколько испорченные, сознательно (из осторожности) затуманенные Платоном: «Так как сила речи состоит в “душеводительстве”, то будущему оратору непременно нужно знать, сколько видов имеет душа. Их столько-то и столько то, они такие-то и такие-то. Отсюда одни люди бывают такие то, другие такие-то. Когда это разобрано, следует указать, что и речей бывает столько-то и столько-то видов, причём каждый вид таков-то. Такие-то люди легко поддаются убеждению такими-то речами, по такой-то причине, в таком-то направлении; другие люди такого-то рода, они с трудом поддаются убеждению такими-то речами, по такой-то причине. Когда всё это в достаточной степени обдумано, следует затем применить это наблюдение к текущей действительности, быть в состоянии остро подмечать это в своём чувственном восприятии. В противном случае никакой большой помощи, по сравнению с теми речами, какие будущий оратор слышал ранее, он не получит. Когда он будет достаточно сведущ, чтобы сказать, какой человек и в зависимости от чего поддаётся убеждению; когда он будет в состоянии, различая данное лицо, объяснить себе, что оно именно таково и что природные свойства его, о которых речь была ранее, именно таковы и теперь являются существующими для него в действительности; что к этим природным свойствам в данном случае нужно обращаться с такими-то речами для убеждения в том-то, – когда он всё это усвоил, а сверх того сообразил, при каком удобном случае и когда следует говорить и воздерживаться; распознал, когда своевременно и несвоевременно говорить кротко, жалостно, преувеличенно, применяя все виды речи, какие только он изучил, – тогда и только тогда разработка искусства доведена до прекрасного совершенства» (271 D‑272 А).
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































