Текст книги "Сократ. Введение в косметику"
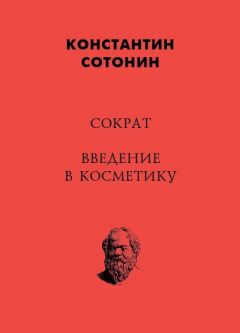
Автор книги: Константин Сотонин
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Но кажется, старшие софисты, по крайней мере Протагор, сделали другой чрезвычайно важный и смелый шаг – утилитаристический фундамент они расширили вплоть до обоснования на нём и гносеологии; при скудости сведений о софистах нельзя в суждениях по этому вопросу говорить с уверенностью; но анализ Платоновского «Теэтета», произведённый Лаасом (Idealismus und Positivismus часть I, имеющая ся в русском переводе[10]10
Лаас Э. Идеализм и позитивизм. М.: Изд-во Ефимова, 1880.
[Закрыть]; см. в нём особенно стр. 210–216), кое-что даёт в этом отношении. Что софисты действительно выдвигали в качестве критерия мудрости полезность, это почти несомненно и легко понятно уже из их методологического утилитаризма в области разработки и преподавания науки, на это же мы имеем прямое указание в «Теэтете» 167 А и сл. и в других местах (относительно Протагора). Но надо поражаться, что по поводу этого же места в «Теэтете» исследователи не высказали даже предположения о совершенно новом, замечательном шаге Протагора, и совсем не поняли чрезвычайной важности этого места для освещения Протагоровой гносеологии; даже Лаас, опираясь на это место «Теэтета» больше, чем на какое-нибудь другое в освещении утилитаризма и позитивизма Протагора, усмотрел в нём далеко не существеннейшее. Из того, как Платон критикует изложенное им перед тем учение Протагора, ясно, что он совершенно не понимал того, что изложил, а это в свою очередь делает ясным, что Платон основные фразы, которыми излагает Протагора, взял из его сочинения, но ввиду их большой краткости (вся книга, видимо, была написана афористически), он должен был самостоятельно разъяснять их, и критикует свои же разъяснения. Сущность излагаемого здесь учения Протагора следующая: истолковывая положение о человеке как мере всех вещей, Платон тотчас же по цитировании его говорит: «таким образом, он (Протагор) как бы (πως – «как-то так», «вроде как») говорит, что какой каждая вещь мне представляется, такова она и есть для меня, какой она представляется тебе, такова она и есть для тебя» (152 А, также 169 Е), и позднее вкладывает в положение Протагора смысл: «для меня истинно моё ощущение» (ἀληθὴς ἄρα ἐμοὶ ἡ ἐμὴ αἴσθησις – 160 D), а ещё далее Платон приписывает Протагору учение, что ощущение есть единственный источник познания, оговариваясь, впрочем, что «Протагор говорил то же самое, хотя и в какой-то другой форме»; и сам Платон, таким образом, а вслед за ним и большинство философов и исследователей понимали положение Протагора как формулу сенсуализма; но с другой стороны, указанная оговорка Платона дала ряду исследователей основание отрицать принадлежность Протагора к сенсуалистам; в этой плоскости и рассматривают обыкновенно Протагора. Но сущность Протагорова учения в действительности Платон изложил дальше, и при том изложил случайно, совершенно не думая, что излагаемое составляет важнейший момент его учения, а поэтому и в своей критике Протагора Платон на этом моменте останавливается очень немного. Представляя себе, что Протагор стал бы защищаться против критики Платоном изложенного перед тем его учения, Платон представляет эту защиту Протагора в виде следующего знаменательного положения (167 А и сл.): «вы различаете в суждениях истинное от ложного, я же рассматриваю суждения с точки зрения большей ценности одного в сравнении с другим, и никогда не с точки зрения истинности» – ἐγὼ δὲ βελτίω μὲν τὰ ἕτερα τῶν ἑτέρων, ἀληθέστερα δὲ οὐδέν (167 В), причём из дальнейшего вполне ясно, что βελτίω здесь имеет смысл полезности. Ни об одной другой мысли, приписываемой в «Теэтете» Протагору, нельзя сказать с большей уверенностью, что она действительно принадлежит Протагору, как об этой мысли, совершенно неожиданной, чуждой и непонятной Платону, непонятной настолько, что представляется невозможным допустить, что Платон выдумал её в качестве защиты Протагора, эту мысль можно ещё было бы приписать Аристиппу, с которым Платон и полемизирует в «Теэтете», прикрывая его Протагором, и Аристипп действительно приближался к такого рода воззрению; но для отнесения этой мысли к Аристиппу как к её творцу у нас нет никаких фактических данных, тогда как позиция Протагора, при принадлежности этой мысли ему, становится совершенно ясной. Знание характеризуется не истинностью, а полезностью – вот вполне определённый бесспорный смысл вычитанных Платоном (почти без понимания) слов в книге Протагора. Под гносеологию, так же, как и под этику, Протагор подвёл утилитаристический фундамент; в V веке до Р. X. Протагор один прошёл тот путь, который потребовал в новейшее время работы ряда мыслителей от Бентама до Джемса и Шиллера. Пусть от Протагора осталось несколько фраз, его почти несравненная сила гениальности всё же вполне ясна из этого гениального шага на 25 веков вперёд, к прагматизму; и нет ничего удивительного, что тогда его не оценили; постоянно не оценивали и лиц, забегавших вперёд только на столетие. Я говорю: прагматизм; но у Протагора это не был прагматизм, подобный современному англо-американскому; я с некоторым удивлением, сознавая, что при освещении воззрения Протагора я отнюдь не делаю натяжек, констатировал перед самим собой совпадение теперь раскрытого мной смысла учения Протагора с ранее опубликованной мной[11]11
Сотонин К. И. НОТ [Научная организация труда] как философия трудящихся масс. Казань, 1924.
[Закрыть] и значительно ранее разработанной позицией прагматического реализма: мы имеем у Протагора отчётливое различение понятий истины (ἀλήθεια) и знания (ἐπιστήμη, σοφία); он отвергает первую и признаёт последнее; лишь для знания он выставляет критерием полезность, и при том не в смысле прагматистов (полезность есть критерий оценки наличного суждения как «правильного» или «неправильного», т. е. критерий признания его знанием, но не метод приобретения знаний); и очевидно, что под истиной Протагор понимает какую-то мысль о реальности, как она существует сама по себе, независимо от восприятия её человеком, о «вещи в себе»; это та истина, к которой неустанно стремились философы в громадном большинстве и до Протагора и после него, и в отношении к ней Протагор, а вместе с ним и софисты вообще, вырабатывают новую позицию, которую я назвал бы метафизическим индифферентизмом и сущность которой заключается в полном пренебрежении к метафизическим проблемам как к бесполезным для нашей реальной жизни (эту позицию в указанной работе я выразил словами: «в XX веке что за дело громадному большинству до истины!.. Ценность не в истине, а в радости; мы окружены возможностями радоваться, и нужно только уметь использовать окружающее для увеличения радости и уменьшения печали; но для того, чтобы уметь, вовсе не нужна истина; для умения… нужно знание» и т. д.) Не важно, как обосновывали софисты свой метафизический индифферентизм; они могли и значительно отличаться друг от друга в этом, хотя, видимо, обычно в основе лежал или гносеолого-метафизический релятивизм (учение о несуществовании абсолютных, устойчивых, для всех обязательных истин), как это, может быть, действительно было в книге Протагора, или метафизический нигилизм (отрицание метафизического бытия), или агностицизм (учение о невозможности постичь истину), как это мы имеем в положениях Горгия: «ничто не существует; если нечто существует, то оно непознаваемо; если же оно познаваемо, то оно не может быть разъяснено другим людям»; то же мы имеем (отчасти) и в положении Протагора: «О богах я не могу знать ни того, что они есть, ни того, что их нет; многое мешает знать это, – и неясность предмета и краткость человеческой жизни». Во всяком случае, гносеологические взгляды софистов на истину не приходится рассматривать как существенный момент в их учении: единственно важным было для них отбросить метафизические проблемы как бесполезные; гносеологическое обоснование индифферентизма разрабатывалось лишь постольку, поскольку в нём нуждались другие, и очень вероятно, что сами софисты не придавали серьёзного значения своим гносеологическим рассуждениям, критиковать эти суждения, – значило, во всяком случае, совершенно не понимать позиции софистов.
Несравненно большее значение имеет у софистов их гносеологический релятивизм, распространённый на знание, на суждения о практических ценностях земного человека. К этого рода релятивизму, могущему быть названным также и этическим релятивизмом (не совсем точно, так как наряду с признанием относительности этических ценностей, здесь имеет место и признание относительности ценностей политических, эстетических и других; лучше поэтому назвать его аксиологическим), софисты могли бы и не прийти, но если они пришли к нему, то это значит, что в V веке антропоцентризм создал психологию, и софисты уже стали на единственно правильный путь решения философских проблем на почве изучения стремящейся к благу (т. е. в конечном счёте к радости) личности. У софистов мы действительно находим немало психологических наблюдений; эти наблюдения и привели их к сознанию того, что различные люди удовлетворяются разными ценностями, и отсюда впервые положение «человек есть мера всех вещей» приобретает также субъективистическое значение: каждый человек есть мера всех вещей; но развитие этих субъективно-индивидуалистических выводов из общих позиций софистов есть дело преимущественно уже младшего поколения софистов.
Тот же факт относительности всех или большинства знаний, т. е. ценностей приводит софистов первоначально к теоретическому осознанию другого факта, – что при рассмотрении и обсуждении одной и той же ценности возможно с полным правом и основательностью высказывать различные, даже противоположные суждения, поскольку мы будем становиться на точку зрения то одной, то другой воспринимающей эту ценность личности. Этот факт Протагор выразил другим замечательным положением: «Относительно всякой вещи возможны два противоположные друг другу рассуждения». Здесь теоретические основы последней характерной черты софистов с единственной, освещённой достаточно правильно в литературе, почти единственной, на основании которой оценивали софистов и их современники и позднейшие писатели, – их эристики, искусства споров, их диалектики, искусства вести беседу, их риторики, искусства произносить публичные речи. Навстречу этому искусству шли практические потребности Греции того времени (см. начало главы), и теоретические основы эристики софистов привели к тому, что на практике софисты стали действительно учителями искусства «неправое дело представлять правым, хорошее – дурным», – с помощью искусной речи, с помощью сбивания с толку своих собеседников и слушателей; неважно, сами ли софисты открыто заявляли, что они учат этому, или их охарактеризовали так их враги; во всяком случае, их практическая деятельность действительно развивалась в этой плоскости и не ограничивалась серьёзными аргументами в пользу защищаемой позиции, как они предполагаются и допускаются в теории, основывающейся на факте различия человеческих потребностей, и как они могли бы быть использованы для защиты противоположных точек зрения без всяких натяжек, словесных ухищрений, подтасовок и прочего. Но практические потребности, особенно в защитительных и обвинительных речах, были сильнее потребности оставаться правдивым. Социальная жизнь заставляет лгать, быть хитрым, быть шулером. Софисты, сведшие философию с неба на землю, понимали это лучше других, понимали наивность желания делать человека практическим адвокатом, не делая его шулером. И они приняли вызов жизни, провозгласивши (или осознавши) себя шулерами и учителями шулерства.
* * *
Так как эристика софистов была единственным пунктом, который замечали у них их современники, и так как Сократ был обвинён в принадлежности к софистике именно по этому пункту, то я и начиняю рассмотрение Сократа как софиста с вопроса о его эристике или диалектике.
2. Сократ-эристикНачало софистики падает на молодые годы Сократа, которого традиция изображает врагом софистики. Сицилийская риторика, лёгшая в основу софистического искусства «правое дело представлять неправым», возникла около 465 года; оратор Антифонт родился в 480 г. и действовал в Афинах в том же направлении; Протагор начал, видимо, свою деятельность около 450 года, когда Сократу было 20 лет, нередко бывал в Афинах и притом был там уже до 443 г., когда он получил от Афин почётную командировку в Фурии. Очевидно, что Сократ ещё в молодые годы ознакомился с софистикой и, как показывает его дальнейшая деятельность, усвоил приёмы и принципы софистов настолько хорошо, что вскоре, вступивши на путь самостоятельной деятельности, снискал себе у сограждан славу одного из виднейших софистов в Афинах. И это отнюдь не было ошибкой: деятельность Сократа в течение всей его жизни во всём основном совпадала с деятельностью софистов.
Вместе с софистами Сократ низводит философию с неба на землю, делает основным предметом философского исследования человека, основной наукой – этику, основной задачей выяснение условий достижения блага здесь, на земле и именно в условиях социальной жизни, но исходя, как и прочие софисты, из интересов личности, а не общества. Крайний прагматизм Сократа, забота о реальной пользе наиболее ярко выявился в «Воспоминаниях» Ксенофонта, особенно IV. 7 (см. о геометрии: Сократ рекомендовал заниматься ею, поскольку она полезна в жизни, но не одобрял занятий геометрией за пределами ясной полезности).
Вместе с софистами Сократ хочет сделать людей хорошими гражданами, хорошими правителями и т. д.: вопреки собственным заявлениям Сократа и его учеников, что он ничему не учит, сам же Сократ в «Апологии» (или Платон за него), противореча себе, подчёркивает свою деятельность как высшее благо для афинян, потому что вся она сводится к тому, что он ходит по городу и убеждает и молодых и старых заботиться о добродетели, так как она рождает людям и деньги и все другие блага в частной жизни и в общественной (30 АВ; слово «добродетель» не может смущать, как и забота о душе, упоминаемая в этом месте: все софисты были, по их собственной рекомендации, учителями добродетели и воздействовали, конечно, на душу); та же мысль развивается и дальше, 30 C–31 С, также и во второй речи 36 В–Е (заключение: наградить Сократа содержанием в Пританее). Также и «Воспоминания» вполне отчётливо характеризуют Сократа учителем практической жизни (см. особенно I 613, где Сократ признаёт себя учителем политики, т. е. учителем искусства управлять государством). Но также и Аристофан изображает Сократа преимущественно учителем практической жизни; а что вместе с тем Аристофан изображает Сократа натурфилософом, то это отнюдь не противоречие у Аристофана: ведь и другие софисты оставались и должны были оставаться частично натурфилософами, поскольку именно для сосредоточения внимания ученика на заботах о земной жизни необходимо было освободить его от предрассудков, суеверий и традиций в суждениях о природе и небесном мире; дело только в том, что натурфилософия стала и у Сократа и у прочих софистов не центральной, а пропедевтической частью философии.
Вместе с софистами Сократ развивает начавшуюся с элеата Зенона диалектику, искусство вести (научную) беседу, и вместе с софистами превращает её в эристику, искусство спора, в искусство во что бы то ни стало убедить слушателей и собеседников в своей правоте, следовательно, в искусство «правое дело представлять неправым» и наоборот. Что Сократ был очень опытен в этом искусстве и постоянно пользовался им, в этом убеждает нас Платон, тот самый Платон, который изображает и себя и Сократа решительным врагом эристики (см. «Федр» 267, 272 и др.) Проанализируем любое из ранних (следовательно, и наиболее близких к Сократу) произведений Платона – и мы увидим, что вопреки и заявлениям Сократа и, вероятно, мнению Платона, Сократ ведёт беседу совершенно в духе софистов и единственной целью имеет опровергнуть собеседника во что бы то ни стало, представить его в смешном виде, поставить его в тупик, «одурачить», правое дело изобразить неправым. Мы ограничимся анализом «Апологии», этого сочинения, которым Платон искренне хотел защитить своего почти боготворимого учителя от «нелепого» обвинения в принадлежности к софистам, и в котором, поэтому, он должен был быть особенно щепетильным в выборе средств, чтобы ничем не скомпрометировать Сократа. Несмотря на немалые, вероятно, старания Платона решительно отгородить Сократа от софистики, «Апология» оказалась чисто софистической речью, даже блестящим образцом таковой, и это обстоятельство можно использовать как лишнее доказательство того, что «Апология» не есть свободное создание Платона, а выражает дух истинного сократизма, т. к. взрослый Платон был как будто чужд софистическим приёмам, и уж если прибегнул к ним, то незаметно для себя и, конечно, только потому, что находился под обаянием действительной речи Сократа на суде, что, в свою очередь, делает несомненным написание «Апологии» вскоре после смерти Сократа (в связи с этим стоит припомнить аргумент Риттера[12]12
Далее следует цитата из книги историка античной философии Константина Риттера (1859–1936) «Платон, его жизнь, произведения и учение»: Ritter C. Platon: sein Leben, seine Schriften, seine Lehre. Bd. I–II. München: C. H. Beck, 1910.
[Закрыть] в защиту того, что «Апология» выражает дух истинного сократизма, а не только учение молодого Платона: «Sie sich eng an die wirklich von Sokrates geführte Verteidigung halte: wenn dem so ist, dann ist sie selbstverständlich auch sehr bald nach dem Tode des Sokrates niedergeschrieben. Und umgekehrt: je näher man die Apologie an die Prozeßverhandlung und die ihr nachfolgende Vollstreckung des Urteils heranrückt, als desto enger muß man ihren Anschluß an die eigenen Worte des Sokrates sich vorstellen»[13]13
«[Можно утверждать, что] “Апология” строго держится той защитной тактики, которую Сократ в действительности пускал в ход. Если это так, то само собой разумеется, что записана была она, когда после смерти Сократа прошло ещё очень мало времени. Верен будет и обратный ход мысли: чем ближе мысленно придвигаешь “Апологию” к ходу судебного процесса и последующему вынесению приговора, тем неизбежнее понимаешь, почему в словах самого Сократа о них нету ни слова».
[Закрыть] (Ritter C. Platon: sein Leben, seine Schriften, seine Lehre. Bd. I. München, 1910. S. 368).
Первая речь Сократа (собственно защитительная) в «Апологии» начинается с прекрасного риторического вступления, которое могло бы сделать честь речи любого софиста и в котором Сократ старается создать у судей впечатление, что обвинители сплошь лгали, и что он, Сократ, не обладает красноречием, но зато отличается непреклонной правдивостью: «теперь вы от меня услышите всю правду»; «вы услышите бесхитростную речь, составленную из первых попавшихся слов, ибо я верю, что в моих словах правда, и пусть никто из вас не ждёт от меня ничего другого»; «добродетель оратора в том, чтобы говорить правду». Всё это, конечно, только риторический приём, и мы можем ожидать, и не ошибёмся, ожидая этого, сплошной лжи, хитрых словосплетений, ловких софистических подтасовок тотчас же после торжественного обещания говорить только бесхитростную правду[14]14
Интересно сопоставить это начало «Апологии» с защитительной речью убийцы Герода, написанной для убийцы ритором Антифонтом, этим наиболее искусным теоретиком и практиком построения речи: здесь во вступлении обвиняемый также прикидывается простецом, не имеющим дара красноречия, правдивым, всецело полагающимся на совесть судей. Да и вся первая речь «Апологии» напоминает построение Антифонтовой речи, наводя на мысль, что Сократ прекрасно знал и владел техникой риторического искусства; см. об этом также далее. – К. С.
[Закрыть].
Сократ решает защищаться сначала против старых обвинений, с которыми «многие выступали пред вами против меня и прежде, в течение уже многих лет, и ни слова правды они не говорили» (что многие обвинители не сказали ни слова правды, – это уже невероятно и представляется ложью; и почему Сократу понадобилось вспоминать старые обвинения, которые теперь не предъявлены к нему? На слушателей напоминание самим обвиняемым об ещё других обвинениях против него должно было произвести впечатление особенно большой искренности обвиняемого и желания дать в руки судьям как можно больше материалов для правильного суждения, Сократу же это отступление было нужно, чтобы скомпрометировать предварительно обвинителей). Сократ формулирует старые обвинения так: «Вина и преступление Сократа в том, что он испытует подземное и небесное и неправое дело превращает в правое и других учит тому же», и напоминает комедию Аристофана, «где какой‑то Сократ носился по воздуху, объясняя, что он занимается воздухоплаванием и болтая всякий вздор о вещах, в которых я ровно ничего не понимаю»; дальше идёт риторический, как будто мимоходом и случайно, выпад против обвинителя Мелета, и затем Сократ продолжает: «я-то не имею ко всему этому ровно никакого отношения», призывая самих судей быть свидетелями друг перед другом, что он, Сократ, никогда не беседовал на эти темы (такой призыв был безопасным: Сократ знал, что вслед за его речью будет закрытое голосование по поводу его виновности без предварительного совещания). И конечно, свидетелей того, что Сократ носился по воздуху или исследовал подземное, не нашлось бы; Сократ очень неопределённо говорит обо «всём этом», к чему, по его словам, он не имеет отношения; он не напомнил о более определённых и серьёзных обвинениях, брошенных уже и Аристофаном.
Отделавшись таким образом от обвинений в занятиях натурфилософией и не рассмотрев более щекотливого обвинения в превращении неправого дела в правое, Сократ переходит как будто к этому последнему обвинению, но формулирует его уже существенно иначе: «если вы слыхали от кого-нибудь, что я берусь воспитывать людей и зарабатываю на этом деньги, то и это неправда» (ход мыслей, который он внушает судьям: Сократа обвиняют в том, что он учит неправое дело превращать в правое; этим его сопоставляют с софистами; софисты – берущиеся в целях заработка воспитывать людей; Сократ о заработке не заботится, и т. д.), – ловкое передёргивание в виде подмены действительного обвинения мнимым, выдуманным, ложность которого ясна для всех, знающих Сократа; сознательно сделано слияние воедино двух отличных моментов: воспитывать и зарабатывать на воспитании, с подчёркиванием последнего путём дальнейшей тонкой насмешки над софистами, зарабатывающими на воспитании, в сопоставлении с которыми Сократ, не заботящийся о заработке, в глазах судей ставится в особенно выгодное освещение, наряду с возмущением судей против софистов; это перенесение возмущения с Сократа на софистов становится ещё более вероятным после прослушания судьями заключительных фраз Сократа в этом отделе речи: «И я подумал: блажен Эвен (софист, о котором перед тем Сократ рассказывал как о берущемся за пять минут обучить добродетели, нужной человеку и гражданину – К. С.), если он на самом деле владеет этим искусством и преподаёт за такую подходящую плату. Я бы и сам кичился и хвастался, если бы у меня было это знание; но у меня нет его, афиняне». Если в юноше мила скромность, то в старике тем более: если Сократу и не поверят, то за такую необычайную скромность всё же многое простят.
Дальше Сократ переходит к объяснению того, каким образом возникли против него эти обвинения, – намерение, вполне понятное у обвиняемого, который считает обвинения клеветой. Но здесь Сократ (или Платон) допускает столь явную ложь, что кажется непонятным, как мог он рассчитывать сделать эту центральную часть своей речи орудием защиты: по его объяснению, философская его деятельность указана была ему Аполлоном через прорицание Пифии: на вопрос друга Сократа Херефонта, есть ли кто мудрее Сократа, бог ответил, что Сократ мудрее всех (более точно, прорицание было таково: мудр Софокл, ещё мудрее Еврипид, но самый мудрый из всех людей – Сократ; впрочем, я думаю, что, как обычно, прорицание было более двусмысленным; очень возможно, оно было таково: «мудр Еврипид, мудрее Софокл, самый мудрый – Сократ». Пифия схитрила, выразивши только, что Сократ был мудрее Софокла и Еврипида, – положение, которое ни для кого не могло бы быть особенно удивительным, – и вместе с тем предоставляя возможность истолковать прорицание, снимая ответственность с оракула, так, как его истолковали сторонники Сократа, уже в устной передаче изменившие, согласно своему пониманию прорицания, последнюю часть фразы, вставив: ἀνδρῶν δ' ἁπάντων – «из всех людей»). Так вот, Сократ утверждает, убивая двух зайцев за раз – выставляя себя традиционно религиозным и слагая ответственность с себя на богов, – что это-то прорицание оракула и заставило его обратиться к той философской деятельности, которой он с тех пор и занимается исключительно, ради служения богу пожертвовав всеми благами жизни и наживая себе врагов («живу я в величайшей бедности из-за этого своего служения богу» – 23 В): удивившись такому прорицанию, говорит Сократ, так как сам он, Сократ, отнюдь не считал себя мудрым, он долго недоумевал и, наконец, решив показать богу на опыте, что есть люди мудрее его, Сократа, пошёл к одному из тех людей, которые славились своей мудростью, и беседуя с ним, обнаружил, что по мнению большинства людей, а главное, по своему собственному, этот человек мудр, на самом же деле вовсе нет; обнаружив это, Сократ постарался показать своему собеседнику, что он только считает себя мудрым, не будучи таковым. Затем Сократ стал ходить от одного человека, слывшего в какой-либо области мудрым, к другому, и всюду обнаруживал то же самое. Он наживал себе этим врагов в лице тех, лжемудрость которых изобличал; в частности, и теперешние обвинители Сократа выступили из среды этих его врагов (третий заяц и основная цель!): «Мелет – потому что ненавидит меня за поэтов, Анит – за художников и государственных людей, Ликон – за риторов» (23 Е): те, с кем беседует Сократ, изобличая их невежество в вопросах, в которых они считали себя мудрыми, озлобляются, думая, что сам Сократ мудр в этих вопросах; это озлобление против Сократа ещё более увеличивается от того, что «сопровождающие меня юноши… с удовольствием прислушиваются к тому, как я испытываю людей, и часто берутся подражать мне и пробуют сами испытывать кого-нибудь; при этом, я полагаю, они находят огромное количество людей, воображающих, что они что-нибудь знают, но знающих мало или вовсе ничего не знающих. В результате те, кто подвергся такому испытанию, сердятся на меня, вместо того, чтобы сердиться на самих себя, и говорят, что этот Сократ самый зловредный человек, и что он развращает юношей» (23 С). Но Сократ не может прекратить эту деятельность, так как, «хотя замечал, с огорчением и страхом, что вызываю ненависть, однако считал необходимым выше всего этого ставить дело бога: надо было, исследуя смысл оракула, идти ко всем, кто считался знающим в какой-нибудь области» (21 E), выполняя это, по указанию бога, как тяжкий труд (22 А). И всё более и более Сократ убеждался в истинности изречения оракула: он видел, что действительно на самую малость превосходит мудростью других, – тем, что другие считают себя мудрыми, знающими, не будучи таковыми, а он, не будучи мудр и знающ, и не считает себя таковым (21 D). При принятии такого объяснения (что возможно, если судьи не успели вовремя сообразить и поставить перед собой вопрос: что же делал Сократ до прорицания Пифии? – очевидно, что-то такое, что заставило и Херефонта обратиться к оракулу с вопросом о мудрости Сократа, и оракула признать Сократа мудрейшим; что же это? «Испытание небесного и подземного» или «испытание мудрости других»?) у судей легко мог возникнуть вопрос: если Сократ хотел, как он говорит, проверить прорицание бога и выяснить для себя его смысл, то зачем же Сократу понадобилось изобличать других в невежестве? Почему он не мог удовлетвориться вынесением из беседы внутреннего убеждения, без обиды для других, в правильности прорицания? Сократ предвидит это и новым софистический приёмом заставляет слушателей забыть первоначальное объяснение, по которому он хотел проверить прорицание, подтасовывая вместо этого объяснения другое: «когда мне покажется, что кто-нибудь не мудр, я, исполняя волю бога, доказываю ему, что он не мудр» (23 В), с предварительным пояснением: оракул хотел сказать, что мудр только бог, а человеческая мудрость малого стоит или не стоит ничего, и среди людей тот самый мудрый, кто, подобно Сократу, понял, что он ничего не стоит в отношении мудрости. Вопрос о том, зачем Сократу при выяснении смысла оракула понадобились «сопровождающие его юноши», Сократ совсем обошёл молчанием, тогда как обвинение прямо указывало, что он развращает юношей (очевидно, этих самых сопровождающих). Заканчивает Сократ защиту против старых обвинений вторичным заявлением, что он сказал всю правду, ничего не утаив; – если в начале речи такое заявление могло казаться ничего не значащим риторическим вступлением, то теперь оно должно было показаться более критичным слушателям нахальным издевательством.
Переходя к защите против «теперешних» обвинителей, Сократ с первых же слов главной своей задачей ставит скомпрометировать Мелета, главного обвинителя, прекрасно учитывая, что объективные доказательства виновности или невиновности для суждения массы (а суд, состоящий из 500 человек, был массой) значат гораздо меньше, чем симпатичность или антипатичность образов обвинителя и обвиняемого. Формулировав обвинение [Сократ виновен в том, что он развращает юношей и не чтит богов (θεούς), которых чтит государство, а (почитает) другие, новые божества (δαιμόνια)], Сократ вступает по поводу обвинения в беседу с Мелетом, предварительно саркастически бросив по поводу Мелета: «хороший и любящий отечество, как он сам говорит», и: «я утверждаю, что виновен Мелет, потому что он шутит серьёзными вещами, легкомысленно привлекая людей к ответственности, делая вид, что серьёзно занят и озабочен тем, о чём никогда нисколько не заботился; что это так, я попытаюсь показать вам». Так как обвинитель мог только отвечать на вопросы и не имел права говорить после защитительной речи обвиняемого, то для Сократа, при его громадной опытности в диалектике, было чрезвычайно важно действовать наиболее привычным путём – затянуть обвинителя в беседу и показать его таким, каким захочется. Дальше идёт обычная для софистов вообще, а для Сократа в особенности игра на неумении собеседника достаточно ясно и быстро выразить словами внутренние, даже если они очень устойчивы и выработаны, мотивы поведения, и на подтасовке вместо прямо относящихся к делу вопросов – вопросов лишь кажущихся относящимися к делу или лишь косвенно связанных с ним и не имеющих большого практического значения (о софистичности беседы Сократа с Мелетом высказывались и некоторые прежние исследователи). Обращаясь к Мелету, Сократ спрашивает: «Не правда ли, для тебя очень важно, чтобы молодые люди были как можно лучшими?» – вопрос поставлен так, что перед судом приходится ответить на него простым подтверждением, что и делает Мелет, хотя между утверждением и отрицанием остаётся много возможных позиций, одну из которых Мелет и занял бы, если бы ответ не был навязан. Получив ответ, Сократ настаивает, чтобы Мелет ответил, кто же делает юношей лучшими: «ясно, что ты это знаешь, раз это так важно для тебя», – хотя, во-первых, из того, что для Мелета важно, чтобы юноши были лучшими, ещё отнюдь не ясно, что он должен знать, кто делает их лучшими; во-вторых, вопрос поставлен в очень неопределённой форме и должен был вызвать замешательство у Мелета, чем Сократ пользуется, насмехаясь над ним и указывая в этом подтверждение своих слов, что Мелет совершенно не озабочен подобного рода делами; в третьих, вопрос не имел практического отношения к делу и был только подтасовкой, на которой строится дальнейшая защита. Поиздевавшись, Сократ всё же вынуждает у Мелета ответ: юношей делают лучшими законы, – ответ с точки зрения социальной очень ценный, но Сократ тотчас же сбивает Мелета с позиции, ставя вопрос: «кто лучше всего знает законы?», и получив естественный ответ – «судьи», – делает новую подтасовку и к тому же ещё, разыгрывая удивлённого, приписывает её самому Мелету: «что ты говоришь, Мелет? Вот они (указывая на судей) могут воспитывать и делают юношей лучшими?» – Даже если бы Мелет заметил подтасовку понятия «знающих законы» понятием «умеющих использовать знание законов для воспитания», то он не решился бы исправлять Сократа, так как это могло бы показаться отрицательным ответом на последний вопрос, оскорбило бы судей и сделало бы исход судебного процесса отрицательным для Мелета. Но Мелет не заметил, видимо, подтасовки, потому что решительно поддаваясь внушающей силе вопроса, отвечает: «несомненно», давая тем самым Сократу материал для ряда курьёзных выводов, делающих Мелета смешным, но которые Мелет принуждён подтверждать, как логически вытекающие из сказанного им; эти выводы таковы: юношей делают лучшими:









































