Текст книги "Сократ. Введение в косметику"
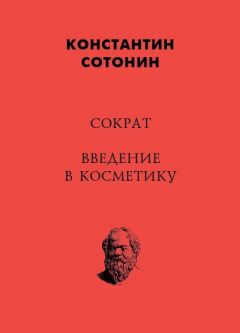
Автор книги: Константин Сотонин
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Часть первая для историков философии
Сократ – софист, скептик, циник
Эту часть я хотел бы посвятить моему дорогому, светлому учителю по истории философии, с работой у которого связаны мои лучшие, может быть, единственные ничем не омрачённые воспоминания, к мыслям о котором я всегда возвращаюсь с радостью и благодарностью за те строго научные методологические навыки, которые он дал мне, и ещё более за ту необычайную чуткость и терпимость, с которой он относился ко мне.
Хотел бы… Но не слишком ли я злоупотреблю его терпимостью, не оскорблю ли я его, посвящая ему часть книги, столь «легкомысленной», что многим могут показаться насмешкой слова о методологических навыках автора? О, если бы для всех было ясно, что высшая серьёзность – в том, чтобы не быть слишком серьёзным! Учёный будущего – смеющийся философ; даже науку он творит – полушутя: серьёзно – поскольку наука для жизни других; играя – поскольку его жизнь для науки; потому что к своей жизни он может относиться только как к игре, – иначе он был бы слишком серьёзным.
Книгу о Сократе, об этом наиболее смеющемся философе, написать не улыбнувшись, застегнуть её на все пуговицы в профессорский сюртук, – значило бы быть слишком серьёзным, значило бы неумело использовать методологические навыки.
Вот почему, несмотря на «легкомысленность» книги, эту первую часть её я решаюсь посвятить – профессору Александру Дмитриевичу Гуляеву[2]2
Выпускник Казанской духовной академии (1895 г.) А. Д. Гуляев (1870–1930) закончил историко-филологический факультет Казанского университета (1899), где позднее преподавал как приват-доцент и профессор (1902–1919) и был деканом (1914–1915). С 1920 г. и до смерти – профессор Азербайджанского государственного университета в Баку, в 1923–1926 гг. его ректор. Автор ряда работ по логике и истории философии. Наиболее крупной работой Гуляева по истории античной философии были «Лекции по истории древней философии. [Выпуск первый: Основные моменты эволюции греческого мировоззрения]» (Казань: Издание книжного магазина братьев Башмаковых, 1915, переиздание: Гуляев А. Д. Основные моменты эволюции греческого мировоззрения. М.: УРСС, 2011). – здесь и далее примеч. М. Фиалко, если не указано иное.
[Закрыть].
I. Введение
Как известно, Сократ, древнегреческий философ, живший от 470 до 399 г. до Р. X., не писал сочинений, и сведения об его учении мы можем почерпнуть только из сообщений его современников, слышавших его беседы и устные поучения, и из сообщений более поздних авторов, слышавших рассказы лиц, знавших Сократа. Наиболее раннее из дошедших до нас сведений о Сократе относится к 423 году, когда Аристофан поставил свою комедию «Облака», осмеивавшую Сократа и его учение (есть сообщение, что Сократ смотрел эту комедию и сам смеялся вместе с другими). Прочие сообщения современников Сократа относятся к последнему периоду его жизни и были написаны, вероятно, уже после его смерти, принадлежа его ученикам; такими источниками являются сочинения Ксенофонта, особенно «Воспоминания о Сократе» и сочинения Платона, в большинстве которых, написанных в форме разговора, главным собеседником выступает Сократ. Из более поздних источников наибольшим вниманием пользуются сочинения Аристотеля, ученика Платона: прежде чем приступить к изложению своих мыслей, Аристотель обычно излагает учения своих предшественников, в том числе и Сократа.
Но три основных источника – сочинения писателей, знавших Сократа лично, – весьма сильно расходятся в характеристике Сократа и его учения, расходятся настолько, что получается впечатление, будто речь идёт о трёх лицах, не имеющих друг с другом ничего общего.
У Аристофана Сократ – это летающий в облаках философ, занимающийся вопросами о природе вещей, исследующий небесные и подземные силы натурфилософ, отвергающий существование богов и ставящий на их место природу; вместе с тем он – софист, берущий к себе в обучение юношей, обучающий их тому, как правое дело с помощью искусных речей сделать в глазах слушателей неправым и наоборот. Эта характеристика, если отбросить комические преувеличения, в общем совпадает с обвинением, предъявленным Сократу на суде 24 года спустя: «вина Сократа в том, что он развращает юношей и не чтит богов, которых чтит государство, а вводит какие-то новые божества»; а так как Сократ защищался на суде (по Платону), хотя как будто и по собственной инициативе, ещё и против обвинения: «Преступление Сократа в том, что он испытует подземное и небесное, неправое дело превращает в правое и других учит тому же», то, видимо, это обвинение, ещё более совпадающее с Аристофановой характеристикой, имело силу, может быть неофициально, ещё и во время суда. Наряду с Аристофаном и одновременно с ним в том же духе Сократа изображали и другие комики (Амипсий в комедии «Конн», не сохранившейся; также и у Платона в «Апологии» намекается на нескольких сочинителей комедий, изображавших Сократа).
Но Платон и Ксенофонт решительно отрицают, что Сократ был хотя бы сколько-нибудь схож с образом, созданным Аристофаном и обвинениями на суде; в изображении Платона и Ксенофонта, а вслед за ними и Аристотеля, Сократ был совершенно чужд и натурфилософским исканиям, и расшатыванию устоев традиционной религии, и софистическим приёмам речи, с помощью которых можно было бы правое дело представить неправым. Сократ, по изображению Платона и Ксенофонта, погиб совершенно невинным мучеником за одно своё нежелание слёзно умолять судей о помиловании, и этот ореол мученичества, придавши жизни Сократа облик трагизма, в связи с положительной характеристикой Сократа Платоном и Ксенофонтом привёл к тому, что в глазах потомства истинным Сократом оказался Сократ Платона и Ксенофонта, Сократ же Аристофана был отвергнут, как продукт клеветнической фантазии.
Однако положительные характеристики Сократа Платоном и Ксенофонтом также чрезвычайно сильно, до несличимости расходятся во всём, кроме одного: помимо своего желания, даже сами этого не замечая, они оба придают Сократу свойства Аристофановского Сократа, того Сократа, который действительно «развращал юношей и учил правое дело показать неправым», хотя на первый взгляд кажется, что Сократ Ксенофонта – рутинный моралист, не идущий дальше поучений поступать по законам страны, приносить жертвы богам, не пить, если нет жажды, чтить родителей и т. п. – так что становится удивительным, почему при такой беспросветной шаблонности Сократ мог привлечь внимание столь многих. А Сократ Платона – это как будто человек, всю свою жизнь посвятивший бескорыстному исканию и служению истине и кроме истины не интересующийся ничем. Впрочем, общеизвестно, что Платон всю свою жизнь путал себя с Сократом и не считал пороком приписывать Сократу всё, что понравится; поэтому единственным основанием, руководящим историками философии в их желании восстановить образ и учение Сократа по сочинениям Платона, является надежда, что вероятно в ранних своих сочинениях, видимо написанных в период близкий к смерти Сократа, Платон был ещё весь под обаянием и влиянием своего учителя и потому не мог значительно исказить его образ.
Из всех сочинений, дошедших до нас под именем Платона, я считаю, во всяком случае, наиболее надёжным источником для восстановления облика Сократа те диалоги, принадлежность которых Платону современная нам критика отвергла, признала их подложными, особенно «Клитофон», «Гиппарх», «Менексен», – потому что критика отвергла их только под обаянием идеализма Платона и идеалистического Сократа, созданного более поздним Платоном. Нет ничего невероятного, что эти сочинения принадлежат действительно Платону, но являются наиболее ранними, относясь, возможно, ещё ко времени жизни Сократа. Идеализм Платона развивается лишь постепенно; во время общения с Сократом Платон ещё не имел сколько-нибудь ясных идеалистических воззрений; «Апология», «Критон», «Протагор», «Эвтифрон» – период первых зачатков идеализма; последующий «Лахет» вносит уже явно чуждую Сократу струю; «Хармид» – первая явная вспышка идеализма; за ним следует «Менон», – и Платон быстрыми шагами идёт к пифагорейству; начиная с «Хармида», очень опасно пользоваться Платоном в качестве источника суждений о философии Сократа.
Итак, с одной стороны, писатели комедий, ставящие своей целью бороться с разлагающими общество, по их мнению, новыми идеями, и в связи с этим почему-то (должно быть, не без объективных причин) избирающих мишенью своих нападок Сократа; с другой стороны – ученики и ярые поклонники Сократа, по субъективным причинам (симпатия к учителю, восторженное отношение к нему, дающее замечать в нём лишь положительные качества) оправдывающие его от обвинений. Кто из них может вызвать больше доверия?
Но традиция запрещает пользоваться Аристофаном как источником для выяснения образа и учения Сократа. Что ж; подчинимся ей и последуем более надёжным источникам, чтобы рассмотреть пока маловажный вопрос о Сократе как натурфилософе.
* * *
Даже самые надёжные источники указывают, что когда-то, может быть, в молодые годы, Сократ испытал значительное влияние со стороны Анаксагорова учения путём соприкосновения с самим Анаксагором или с его последователем Архелаем: наиболее прямое указание даёт Аристоксен; далее см. «Федон» Платона 97 С и сл., где, однако, Платон явно старается создать впечатление, что увлечение Анаксагором было у Сократа минутным, только до достаточно детального изучения его сочинений, и прошло бесследно; то же он делает и в «Апологии» 26D. Ксенофонт в «Воспоминаниях»[3]3
Здесь и далее ссылки на «Воспоминания [о Сократе]» (Memorabilia) Ксенофонта даются К. И. Сотониным в принятом формате с указанием номера книги, главы и раздела главы. Деление на книги и главы сохранено в академическом издании «Воспоминаний» на русском языке (Ксенофонт. Воспоминания о Сократе / Пер. С. И. Соболевского // Воспоминания о Сократе. М.: Наука, 1993. С. 5–152). Ссылки на «Апологию Сократа» и другие произведения Платона, пассажи из которых Сотонин приводит в собственном переводе, иногда вместе с греческим оригиналом, даются им по принятой пагинации, сохраняемой в академических изданиях диалогов Платона. Ссылки на антологию досократиков Дильса (Diels), отсылают к изданию: Diels H. Die Fragmente der Vorsokratiker. Bd. I–II. Berlin: Weidmann, 1906, доступному в переводе: Лебедев А. В. (ред.) Фрагменты ранних греческих философов. М.: Наука, 1989.
[Закрыть] IV. 7. 6–7 также старается поставить Сократа подальше от опасного соседства с Анаксагором, изгнанником из Афин за безбожие.
И конечно, было бы безрассудно ждать, что апологеты Сократа сознательно укажут на связь его учения с Анаксагором там, где упоминают последнего; гораздо более интересными представляются невольные их подтверждения этой связи, а таковые имеются. В «Воспоминаниях» Ксенофонта (I, 4) Сократ, шаблонно поучая перед тем в длинной речи, что боги заботятся о людях, вставляет постепенно, незаметно для Ксенофонта (иначе он зажал бы Сократу рот), фразы в совершенно Анаксагоровом духе: всё существующее существует так, а не иначе, не в силу случая, а по мысли кого-то (I. IV, 6); «разум всего (ἡ ἐν τῷ παντὶ φρόνησις, мировой разум) делает всё так, как хочет» (I. IV, 17); божество всё видит, всё слышит, находится повсюду и обо всём заботится (I. IV, 18). Всё это не более, чем свободное изложение учения Анаксагора об Уме (νοῦς). Та же мысль о целесообразности всего, о разумности в творении всего мира создателем всего, в духе Анаксагора, развивается Сократом в «Воспоминаниях» IV. 3, 13. Эти мысли совпадают и с учением Диогена Аполлонийского (согласно «Фрагментам досократиков» Дильса), с которым, по традиционному мнению, Аристофан спутал Сократа. В действительности, как говорит Майер, автор одного из наиболее новых и обширных исследований о Сократе[4]4
Вышедшая в 1913 г. книга немецкого историка философии Генриха Майера (1867–1933) «Сократ, его творчество и место в истории»: Maier Н. Sokrates: sein werk und seine geschichtliche stellung.Tübingen: J. B. Mohr, 1913.
[Закрыть], «der Dichter (Аристофан – К. С.) wusste was er wollte»[5]5
Нем.: «Поэт знал, чего хотел».
[Закрыть] (S. 160): задача Аристофана была не дать карикатурный образ Сократа как такового, а в лице Сократа дать тип вновь народившихся в Афинах людей, даже, по мнению Майера, вопреки Шанцу[6]6
Майер полемизировал с историком античной философии и литературы, автором комментария к немецкому изданию диалогов Платона Мартином Шанцем (Schanz, 1842–1914).
[Закрыть], не один, а два типа – тип непрактичного, далёкого от мира натурфилософа, исследующего небесные и подземные вещи и остающегося всегда чужим на земле, и тип софиста, мастера на все руки, блестящего светского человека, безошибочного практика, презирающего бесхлебные искусства, выменивающего славу и богатство за свою полезную в жизни мудрость (там же); наиболее известные в Афинах представители этих типов были Диоген Аполлонийский и Протагор (S. 161). Но и Майер не возвысился над традицией: он полагает, что Аристофан знал так же хорошо, как и зрители его комедий, что действительный Сократ отнюдь не был таким «гермафродитом» (S. 161) (т. е. не соединял в себе эти два противоречивых, по мнению Майера, типа), и если Аристофан объединил оба типа в не принадлежащем ни к тому, ни к другому типу Сократе, то это объясняется главным образом тем, что для Аристофана оба ненавистных типа были связаны с просветительным движением, а Сократ был для него главой просветительного движения в Афинах (S. 162–163), впрочем, дальше Майер говорит, что Сократом Аристофан воспользовался также и потому, что широкой публике того времени Сократ казался именно представителем общеизвестных типов натурфилософа и софиста, так как большинство даже образованных людей не возвышалось до понимания нравственной тенденции Сократовой деятельности (S. 164). Против предположения, что Сократ во время написания «Облаков» был натурфилософом, а через 20 лет, когда его знали Ксенофонт и Платон, уже чуждался натурфилософским исканиям, и что, следовательно, и Платон и Аристофан могли быть правы, Майер приводит то соображение, что одновременно с «Облаками» был написан «Конн» Амипсия, где Сократ изображается как превосходнейший среди немногих, глупейший среди многих, нищий, не имеющий плаща, без обуви, но который никогда не живёт тунеядцем; и через два года, в 421 году Евполид в своих «Льстецах» изображает Сократа как бедного болтуна, который заботится о чём угодно, но только не о том, как бы ему поесть; «это ни натурфилософ, ни софист; мы узнаём здесь ясно того Сократа, которого испортил Ксенофонт, Сократа “Апологии”» [S. 158]. Отсюда Майер делает вывод, что Сократ уже в то время, когда писались «Облака», был тем, каким его знал Платон (Ss. 158–159).
Это так, несомненно; несомненно и то, что Аристофан, как, впрочем, и Платон и Ксенофонт, к действительным чертам Сократа присочинил несколько чуждых ему; но столь же несомненно, что Сократ не чужд был натурфилософии, и именно натурфилософии Анаксагоровского направления; и Аристофан не подсунул Сократа вместо Диогена Аполлонийского, а отметил те черты, которые у Сократа были общи с Диогеном и имели у того и другого своим источником Анаксагора, хотя и непосредственное влияние Диогена на Сократа вполне возможно. Если во время написания «Облаков» Сократ был таким, каким знал его Платон, то и во время общения с Платоном и Ксенофонтом Сократ был таким, каким знал и изобразил его в «Облаках» Аристофан, – натурфилософом Анаксагорова толка, расшатывавшим устои традиционной политеистической религии путём проповеди о едином, вездесущем и всепроникающим уме, от которого было меньше одного шага до пантеизма и следующего за ним атеизма. Можно ли отрицать за Сократом такое его «развращающее» влияние на юношей, если даже недалёкий, консервативный, чуждый философскому образованию и философским исканиям солдат Ксенофонт немного усвоил от Сократа расходящееся с традицией воззрение на божество. Да и разве мог Сократ, со своим громадным умом, в эпоху расцвета греческого просвещения и будучи сам одним из глав просвещения в Афинах, верить всерьёз в нелепых традиционных греческих богов, как то приписывают ему Ксенофонт и Платон, один искренне, другой, несомненно, фальшивя?! Обвинение в безбожии и разрушении традиционной религии, предъявленное Сократу и Аристофаном и обвинителями на суде, безусловно, было направлено по адресу и вызвано реальными фактами из деятельности Сократа. Нельзя же смотреть иначе, чем как на остроумную уловку, на утверждение, что Сократ вообще ничему не учил и особенно был чужд вопросам натурфилософии: от метода изложения содержание излагаемого не зависит.
Но почти с уверенностью можно сказать, что за тридцать лет до своей смерти Сократ высказывался гораздо определённее, и тогда было больше оснований обвинять его в безбожии; позднее, под влиянием ряда судебных процессов «безбожия» философов бывших в Афинах (изгнание Анаксагора ок. 434 г., преследование Диагора ок. 415 г., процесс против Протагора ок. 410 г.), Сократ стал более осторожным, вернее, более хитрым (об этом ниже) в изложении своих религиозных взглядов, так что у близоруких могло действительно получиться впечатление, что Сократ не затрагивал такого рода вопросов.
Влияние общения с Анаксагором и его продолжателями сказалось, впрочем, на Сократе не только в его натурфилософских взглядах; вспомним пренебрежение Анаксагора к богатству и почестям, отказ от имущества в пользу родственников, равнодушие к жизни, спокойствие в перенесении ударов судьбы, – и мы поймём, какое впечатление эти свойства Анаксагора должны были оказать на Сократа, по натуре склонного к подобного же рода жизни; сопоставим мысль Анаксагора, что познавание высшее благо и конечная цель жизни, – с тем, что влагает в уста Сократа Платон; «жизнь без испытания не имеет цены для человека» (Апология 38 А); сопоставим сообщение об Анаксагоре (Diels 46. А. 1.13): когда одновременно ему сообщили известие о вынесенном приговоре (присуждение к смертной казни) и о смерти его детей, он сказал по поводу приговора: «Право, природа давно присудила к смерти и меня и их (обвинителей)», а о детях сказал, что он «знал, что произвёл их на свет смертными», – со словами Сократа в «Апологии» же (35 А), где он смеётся над людьми, ужасающимися вынесенному в отношении к ним смертному приговору, как будто им суждено было остаться бессмертными в том случае, если бы их не приговорили к смерти (см. также и другие места в «Апологии» и «Федоне», развивающие ту же мысль); сопоставим сообщение об Анаксагоре (Diels А. 1. 10) по поводу приговора: «Сказавшему: “ты лишился афинян”, он возразил: “не я их, но они меня”», – со словами Сократа в «Апологии»: «ещё никогда не бывало для вас в вашем городе большего блага, чем это моё служение городу» (30 А); «если вы приговорите меня к смерти…, вы этим мне повредите не больше, чем самим себе»; «я защищаю себя вовсе не ради самого себя… а ради вас», и предложение Сократа наказать его почётным содержанием его в Пританее. Совпадение ли это только? Не правильнее ли будет признать, что впервые у Анаксагора Сократ научился жить, не смотря на то, что в их натурах было и много противоположного – Сократ был самым смеющимся философом, а Анаксагора «никогда не видели ни смеющимся, ни улыбающимся от самого рождения» (Diels 46 А. 21).
Но Сократ в период своей самостоятельной деятельности не был, конечно, последователем Анаксагора; все учения, оказавшие на него влияние, он переработал в соответствии с основными своими стремлениями; Анаксагор и все прочие были для него только материалом для свободного творчества собственной деятельности; как говорит Майер, «Анаксагор открыл Сократу взор на великую целевую связь космоса; исходный пункт нравственной телеологии Сократа лежит в телеологическом мотиве Анаксагоровой философии» (S. 167). Но более точно отношение Сократа к предшествующим мыслителям и его натурфилософскую позицию можно будет выяснить лишь к концу части.
II. Сократ – софист
1. Сущность софистикиВторое обвинение, брошенное Сократу наряду с обвинением в безбожии, и Аристофаном и, по крайней мере неофициально, на суде, – то, что он учил правое дело представлять неправым и наоборот. Этим обвинением Сократ, несомненно, ставился в один ряд с теми «софистами», которые в V веке в значительном количестве разъезжали по Греции, сделавши впервые своей профессией и средством материального обеспечения своей жизни обучение ораторскому искусству, в частности и особенности искусству адвоката в суде. Нелёгкая задача адвоката – во что бы то ни стало выиграть дело своего клиента в суде, будь оно правое или неправое, требовала большой изощрённости в умении сбивать с толку слушателей (в частности, судей), и эту изощрённость вырабатывали «софисты», кличка, отныне ставшая порицательной в устах широкого круга в отличие от первоначального смысла этого слова – мудрец (последний смысл передавался позднее словом «философ» – любитель мудрости).
Основная задача философии – решение вопроса о том, как наиболее удовлетворительно устроить человеку жизнь, как достичь наибольшего счастья, блага; но до V века в Греции благо личности ещё очень мало зависело от её нахождения в обществе; личность была довольно замкнутым в себе индивидуумом, потому и благо было индивидуалистичным, заключалось в установлении благоприятных взаимоотношений личности с внешним, не-человеческим миром; отсюда преимущественный интерес древнейших философов к вопросам о строении мира (натурфилософии); индивидуалистичность блага личности усугублялась религиозными традициями, делавшими для личности важнейшим источником индивидуального блага – богов и уменьшившими ещё более значение для блага социальной земной жизни, представлявшейся мгновением в сравнении с бессмертной индивидуальной жизнью вне земли. К V веку общественная жизнь в Греции настолько усложнилась, что для личности стала слишком ясной зависимость её блага от её взаимоотношения с другими членами общества и от её положения в обществе; от всечеловеческого мира благо личности зависело теперь в значительно меньшей степени, чем от других личностей; к тому же и рост духовной культуры, развитие той самой натурфилософии, которая была нужна первоначально для достижения индивидуального блага, расшатывало религиозные традиции, делало сомнительными будущие, находящиеся ещё в перспективе блага`, обещаемые традиционной религией, и заставляло более серьёзно позаботиться о достижении блага, здесь, на земле, блага, может быть и кратковременного, мимолётного, но зато бесспорного. Софистика V века и есть философия достижения блага на земле, в реальных условиях социальной индивидуальной жизни. Собственно, не Сократ, а софисты первые свели философию с неба на землю. Софисты это – учителя построения практической жизни вообще; наряду с обучением ораторскому искусству они учили тому, как вести себя в отношении к обществу, т. е. учили быть хорошим гражданином (а это значило в конечном счёте – каким гражданином быть наиболее выгодно, при каких условиях социальная жизнь будет источником наибольшего блага для личности); они учили тому, как быть хорошим (т. е. опять с наибольшей выгодой) правителем, и т. д. Были, конечно, особенности у отдельных софистов и в способах преподавания, и в мерах, которые они предлагали в качестве средства достижения блага, и в пропедевтических предпосылках, которые они считали нужным вкоренить в ученике, прежде чем перейти к основной части обучения. В зависимости от личных потребностей одни софисты брали за обучение вознаграждение, другие его не брали, одни брали больше, другие меньше, и если народная молва отметила софистов как торгашей мудростью, то это, несомненно, было обобщение на основании большинства наблюдавшихся случаев, и во всяком случае не платность обучения характерна для деятельности софистов.
Антропоцентризм – вот основной термин, выражающий сущность переворота, совершённого софистами в философии. Человек (с телом и костьми, земной, реальный, – а не изолированная душа его, не её воображаемое существование до рождения и после смерти) – вот единственная самоценность, из признания которой должно исходить построение философии. Человек есть центр вселенной – это положение стало фундаментальным для философии V века, – не в качестве онтологического факта, не в качестве и рабочей гипотезы, а исключительно в качестве целенаправляющего методологического правила, требования. Эта общая антропоцентрическая тенденция V века нашла блестящее осознание и выражение в знаменитом положении Протагора, с которого начиналась его книга «Об истине»: «Человек есть мера всех вещей». Хотя, как можно судить по данным, имеющимся о книге Протагора у философов, читавших её (Платон, Аристотель, может быть, Секст Эмпирик), главное её содержание было посвящено гносеологическим проблемам, но почти очевидно также, что первое её положение не было теоремой, доказываемой в книге; что гносеологическое содержание книги лишь как-то побочно было связано с исходным положением; что Платон, Аристотель, Секст и все прочие по собственному почину сделали исходное положение книги Протагора выводом из содержания книги; что ещё более они были произвольны, ограничивши почти исключительно гносеологическим смыслом это по самой своей форме чрезвычайно широкое и общее положение. Что дело обстояло действительно так, явствует и из того, что Платон называет это положение загадкой, которую загадал Протагор толпе (Теэтет 152 С), – значит дальнейшее содержание книги не разъясняло и не доказывало положения; и из того, что Аристотель предпочёл процитировать положение Протагора в сокращённой форме, выбросивши вторую половину фразы («существующих, поскольку…» и т. д.), как вероятно, не понятную для него и, значит, неразъяснённую в содержании книги, хотя для разбора мысли Протагора Аристотелю эта половина очень пригодилась бы, если бы в ней несомненно было то содержание, которое внёс в неё Платон; и из того, что указанными тремя мыслителями положение Протагора разъясняется далеко не одинаково, что опять наводит на мысль, что в книге Протагора она не разъяснялась и не доказывалась.
«Человек есть мера всех вещей, существующих, поскольку он существует, несуществующих, поскольку он не существует»[7]7
Оригинал афоризма Протагора, приведённого Диогеном Лаэртским [IX, 51]: Πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος: τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν. В переводе М. Л. Гаспарова: «Человек есть мера всем вещам – существованию существующих и несуществованию несуществующих». (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. М. Л. Гаспарова, ред. А. Ф. Лосева. М.: Мысль, 1979. С 375).
[Закрыть] (я настаиваю на таком понимании и переводе, с отнесением ἔστι к ἂντρωπος вопреки традиции; это выдвигал ещё Гейслер (Heissler), но всё же совершенно не понял Протагорова положения[8]8
О такой радикально-субьективистской интерпретации афоризма Протагора, предложенной в статье 1889 г. немецким историком философии Гансом Гайслером (Гейслером), см.: Ягодинский И. И. Софист Протагор. Казань: Типо-литография Императорского университета, 1915. С. 33.
[Закрыть]. Впрочем, дело не меняется и дальнейшее освещение Протагора остаётся в силе и при традиционном понимании его положения; я считаю возможным даже, что одинаково правильно и отнесение ἔστι к χρήματα, и что Протагор сознательно выразился двусмысленно, но единственное выдерживающее критику понимание тогда будет: «существующих, поскольку он признаёт их существующими, не существующих, поскольку он не признаёт их существования». Понять это можно только при условии понимания личности Протагора, понимания того, что Протагор первый из философов не был слишком серьёзным, что к нему нельзя подходить так, как подходили все и древние и новые толкователи и критики Протагора (и в этом их основная ошибка), как привыкли подходить к другим мыслителям – с намерением рассматривать его положения как строго продуманные с точки зрения истинности; если так подойти к рассматриваемому положению Протагора (в нашем переводе), то в нём легко увидеть отрицание существования внешнего мира, концептуалистический антропологизм с приближением к Беркли и солипсистам[9]9
Английский философ Джордж Беркли (1685–1753), развивая учение о том, что предметы материального мира существуют условно, поскольку они воспринимаются человеческим духом (esse est percipi), тогда как сам дух, их воспринимающий (esse est percipere), – безусловно, стал родоначальником солипсизма, учения о призрачности внешнего мира и реальном бытии только его наблюдателя.
[Закрыть], идеализм и т. д.; но так его рассматривать нельзя, потому что Протагору совершенно чуждо преклонение перед наукой и истиной, признание их чем-то святым. Истина нужна и ценна постольку, поскольку она полезна – мы читаем это между строк первого положения Протагора; острый афоризм, недостаточно точный или даже сознательно неточный с точки зрения истинности и традиционных требований науки, но очень ярко рисующий сущность дела, – вот новый путь для науки не слишком серьёзной, а серьёзной в меру потребности человеческой жизни, – путь, по которому впервые сознательно пошёл Протагор и о котором провозглашает его положение; только как такой афоризм может рассматриваться и само благо. Протагор, конечно, нисколько не сомневался в объективном, вне и независимо от человека существующем мире; и тем не менее он считал себя правым, утверждая, что все вещи существуют лишь постольку, поскольку существует человек; всё дело только в том, что это – острый, сознательно неточный, неточный, потому что гиперболичный и гиперболичный для того, чтобы ярче подчеркнуть существо дела, афоризм. Это существо дела – переворот в принципах философии и всей науки, требование построения их сообразно жизненным, практическим нуждам человека. Положение Протагора имеет не метафизико-гносеологический смысл, дело не в том, что вещи действительно не существуют помимо человека или что их действительное существование есть признание их человеком за существующие, – самый подход такого рода к проблемам отвергается положением Протагора; смысл его – этико-гносеологический или, вернее, практико-гносеологический, ещё вернее, методологический: об истине (заглавие сочинения) стоит говорить, её стоит домогаться, только делая человека центром вселенной, рассматривая человека как единственную самоценность (не метафизический факт, а метафизическое требование!) и все вещи оценивая с точки зрения их значения для человека: человек есть мера всех вещей; и о существовании вещей имеет смысл спрашивать и говорить лишь постольку, поскольку существует человек, иначе говоря, поскольку мы ставим вопрос, говорим, исследуем вещь в целях использования найденных истин человеком; вне соприкосновения с человеком вещи не могут представлять никакого интереса для исследования, такое их существование равно их небытию. Иначе: поскольку мы уже стали на точку зрения: «человек есть мера всех вещей», на точку рассмотрения всех вещей исключительно в их значении для человека, постольку и самое понятие существования вещей должно быть в корне изменено: вещь существует – это значит – она как-то соприкасается с человеком, имеет какую-то положительную или отрицательную ценность для него; вещь существует, поскольку есть человек, соприкасающийся с ней; если нет такого человека, – не существует и вещи. Таким образом, первое положение книги Протагора провозглашает не относительность познания (тем менее – относительность бытия); оно вообще имело не гносеологический и не онтологический смысл, оно вообще не было теоремой, требующей доказательств, или проблемой, которую надо решать. Это скорее аксиома, осознанная философами V века вообще и лишь формулированная Протагором; это – основное методологическое требование, обращённое ко всякому философу и учёному, требование сделать живого, реального, земного человека центром, для которого и с точки зрения которого только и имеет смысл строить любую философию и любую науку. И как прямое следствие антропоцентризма софистов мы имеем их сдвиг общенаучных интересов от внешней природы к человеку: они разрабатывают преимущественно науки о человеке – социологию, политику, грамматику; занимаются проблемами естественной истории религии, нравов и т. д.
Но антропоцентризм – это только методологическая тенденция, руководившая деятельностью софистов; будучи осознана, эта тенденция конкретно выявилась в их философии в виде утилитаризма. Антропоцентризм как тенденция уже сам по себе неразрывно связан с понятием ценности, диктуя научным исканиям целевую установку на земного человека и тем самым, очевидно, задачей всякой науки и всех действий вообще ставя достижение каких-то реальных ценностей для человека. Понятие ценности, вообще говоря, по объёму шире понятия пользы (ὠφέλεια, utilitas) под полезным целесо образно понимать такую ценность, которая ценна не сама по себе, а лишь в силу своей пригодности для достижения другой ценности. И если мы так определим полезность, для нас сразу становится понятным, что сущность антропоцентрического переворота в философии и науке, произведённого софистами, заключается в установке науки на полезность, и именно на полезность для земного человека, в требовании строить науку на принципе утилитарности. И понятие полезности, действительно, является для софистов одним из важнейших. Что они рассматривали разрабатываемые ими науки как полезные, явствует уже из того, что они преподавали свои науки именно в целях принести учащимся практическую пользу в деле устроения своей земной жизни (в частности, они обучали «как лучше управлять своим домом» и «как искуснее действовать и говорить в общественной жизни» – см. напр. «Протагор» Платона 318 Е, «Евтидем» и много других мест); таким образом, свою и научную и практическую деятельность они рассматривали и строили с точки зрения утилитарности. Также и в основу частной и социальной жизни людей они клали понятие пользы, тем самым подводя утилитаристический фундамент под «этику» как науку о построении частной жизни, и под «политику» как науку о построении социальной жизни, также под понятие «доброго» и «злого», рассматривая их преимущественно как «полезное» и «вредное» (как явствует из всех источников о софистах, для них было равнозначно: сделать человека хорошим, добрым (ἀγαθός) в данном отношении и научить его извлекать пользу в том же отношении). Самое понятие добродетели (ἀρετή) для софистов (учителями которой они и провозглашали себя) есть чисто утилитаристическое понятие умения извлекать пользу. Этико-политический утилитаризм софистов может представляться нам теперь не каким-то научным завоеванием и шагом вперёд, а исключительно следованием за общежитейской традицией; в действительности это совсем не так; утилитаризм есть осознание того принципа пользы, который бессознательно полагался в основу практической жизни «здравым рассудком» массы; и как осознание он должен был приводить и действительно привёл софистов к дальнейшим шагам в области реформы этики и политики – к изучению и критике традиционных устоев частной и общественной жизни с точки зрения осознанного критерия полезности – отсюда интересная постановка софистами проблемы в отношении ко многим традиционным правилам поведения: по природе ли (φύσει) или по установлению (θέσει, νόμῳ) существуют эти правила, т. е. проистекают ли они из натуры человека и прирождены ему, или выработаны в процессе социальной жизни; здесь мы имеем уже частичное осознание полезного как прежде всего биологического понятия (полезно то, что удовлетворяет нуждам организма, потребностям натуры человека); но дальше осознаётся существование также и социальной полезности (правила, установленные νόμῳ) и, как показывают немногие сохранившиеся сведения о софистах, они вполне осознают также в этих установленных традиционных правилах различие между действительно полезными и лишь освящёнными традицией, но бесполезными и даже вредными, и таким образом, этико-политический утилитаризм софистов приводит их к стремлению очистить традиционные устои частной и общественной жизни от авторитарных правил. Общий принцип практического утилитаризма софистов можно было бы найти и в основном положении Протагора, придавая ему смысл: полезность для человека есть мера ценности всех вещей, хороших, поскольку они полезны для него, дурных, поскольку они вредны для него; очень возможно, что и сам Протагор придавал своему положению и такой смысл наряду с другими; по крайней мере, приблизительно такой смысл находят (также в числе других смыслов) в положении Протагора и Платон, и Аристотель, и Секст Эмпирик. Но и в этом случае надо предполагать у Протагора сознательную гиперболичность, так как, несомненно, он сознавал, что полезность не исчерпывает всех человеческих ценностей; и в дальнейшем росте софистического антропоцентризма утилитаризм непременно должен был перейти и у отдельных софистов (так называемого младшего поколения) действительно перешёл в гедонизм, поскольку мы будем понимать под ним учение, принимающее единственной самоценностью чувство удовлетворённости, радость человека, полезным для достижения которых только и может рассматриваться полезное. Но этот момент, видимо, ещё не был осознан в достаточной степени старшим поколением софистов, и гедонистический утилитаризм не может быть признан характерной чертой софистики в целом.









































