Текст книги "Одинокий мужчина. Фиалка Пратера"
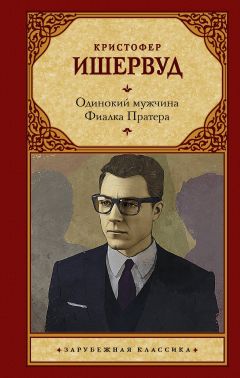
Автор книги: Кристофер Ишервуд
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Тем временем напряжение нарастает. Джордж по-прежнему молчит, вызывающе чувственно улыбаясь болтунам. И наконец, спустя почти четыре минуты, победа за ним. Разговоры стихают. Первые умолкшие шикают на запоздавших. Джордж торжествует. Всего лишь минуту. Ему предстоит развеять собственную магию.
Сейчас буднично, как любой из дюжины преподавателей, он начнет говорить, а они будут слушать, и неважно, велеречив ли он как ангел, или мнется и спотыкается на каждом слове. Слушать Джорджа они обязаны, ибо данной ему штатом Калифорния властью он вправе вбивать им в головы любые твердолобые пережитки, любые ереси собственного сочинения, ведь, по большому счету, их заботит одно: «Как внушить этому вздорному старику желание поставить мне приличные оценки?»
Да, увы, волшебству конец. Он начинает говорить.
– «Лебедь через много лет умрет».
Слова скатываются с его языка с таким преувеличенным старанием, с таким неприкрытым смакованием, что кажутся пародией на чтение стихов У. Б. Йейтса. (Он понижает голос на слове «умрет», уравновешивая «И», отрезанное Олдосом Хаксли от начала оригинальной строки.) Затем, преуспев в намерении озадачить или смутить хоть кого-либо, он, с иронической усмешкой окинув взглядом аудиторию, продолжает деловым энергичным тоном:
– Надеюсь, все прочли этот роман?[5]5
Речь идет о романе О. Хаксли «Через много лет», где эпиграфом стали слова из Теннисона: «Деревьев жизнь пройдет, леса поникнут, / Туман прольется тихою слезою, / И пашня примет пахаря в объятья, / И лебедь через много лет умрет». – Примеч. пер.
[Закрыть] Он был задан три недели назад.
Краем глаза он отмечает явное огорчение на лице Бадди Соренсена, что неудивительно, и возмущенное – впервые слышу – пожатие плеч Эстель Оксфорд, что уже печальнее. Эстель – одна из способнейших студенток. Наделенная умом, она острее ощущает принадлежность к негритянской расе, чем остальные «цветные» студенты класса; точнее, она слишком остро это ощущает. Джордж чувствует, что с его стороны подозревают некую долю дискриминации. Возможно, ее не было на занятии, когда он велел им прочесть роман. Черт, ему следовало это заметить и сообщить ей задание позже. Джордж ее немного побаивается. Но она ему нравится, и жаль, что так получилось. Однако то, что его провоцируют на подобные чувства, ему совсем не нравится.
– Ну ладно, – заключает он как можно дружелюбнее, – если кто-то из вас роман не читал, не страшно. Сейчас послушайте обсуждение, а когда прочтете книгу, решите, с чем вы согласны, а с чем нет.
Улыбаясь, он смотрит на Эстель. Она ему тоже улыбается. Выходит, на этот раз пронесло.
– Названием, конечно, служит фраза из поэмы Теннисона «Титон». Кстати, пока мы не отправились дальше, кто такой Титон?
Молчание. Он всматривается в лица. Никто не знает. Даже Дрейер. Господи, как это типично! Титон их не интересует, потому что до него целых два шага от самой темы. Хаксли, Теннисон, Титон. Один шаг до Теннисона еще терпимо, но ни шагом дальше. Конец любопытству. Как правило, им на все наплевать…
– Серьезно, никто из вас не знает, кто такой Титон? И никто не пожелал выяснить? Что ж, тогда советую всем посвятить часть выходных чтению «Мифов Древней Греции» Грейвса и самой поэмы. Должен сказать, не представляю, как можно изображать интерес к роману, не озаботившись хотя бы смыслом его названия.
Собственное раздражение огорчает Джорджа, едва оно вырывается наружу. Боже, он и правда становится занудой! Хуже всего, он не знает, когда и из-за чего вдруг начинает так себя вести. Не успевает взять себя в руки. От стыда он избегает их глаз – Кенни Поттера в особенности, – зацепившись взглядом за противоположную стену.
– Итак, если начать сначала, то однажды Афродита застала своего любовника Ареса в постели с Эос, богиней утренней зари (советую при случае ознакомиться со всей компанией в словаре). Афродита, конечно, пришла в ярость и в отместку внушила Эос неутолимую страсть к красивым смертным юношам – чтобы впредь неповадно было посягать на чужих поклонников-богов. (Джордж облегченно слышит чьи-то смешки; он боялся, что все сгубил своим ворчанием. Всё так же глядя вдаль, он продолжает с легкой улыбкой в голосе.) Эос, обнаружив, что справиться с собой она не в силах, крайне смущаясь, стала похищать и совращать земных юношей. Титон был одним из них. Правда, она прихватила и его брата Ганимеда, за компанию… (Теперь с разных сторон смех усилился.) К несчастью, Зевс увидел Ганимеда и безумно в него влюбился. (Жаль, конечно, если сестра Мария в шоке. Но Джордж смотрит не на нее, а на Уолли Брайанта, в реакции которого он более чем уверен, и видит: да, Уолли доволен.) Итак, понимая, что Ганимеда ей придется уступить, Эос умоляет Зевса в качестве компенсации сделать Титона бессмертным. Зевс ответил: почему бы и нет? И сделал. Но глупышка Эос забыла попросить для Титона вечной молодости в придачу. Что, кстати, сделать было совсем нетрудно – Селена, богиня Луны, добилась этого для своего возлюбленного Эндимиона. У них проблема заключалась в том, что Селена готова была лишь целоваться, а у Эндимиона были и другие планы, так что она погрузила его в вечный сон – чтобы не дергался. Но что толку в вечной юности, если нельзя проснуться и хотя бы полюбоваться на себя в зеркало? (Улыбаются уже почти все, даже сестра Мария. И Джордж тоже. Он ненавидит неприятности.) Так о чем я? Да, итак, бедняга Титон со временем превратился в безобразного старика. (Громкий смех.) И до такой степени надоел Эос, что она с типичным для богини бессердечием отправила его под замок. Там он потихонечку свихнулся, голос его со временем становился все противнее, все скрипучее, пока однажды он не превратился в цикаду.
Такая убийственная награда. Джордж знал, что им не понравится – так и есть. Мистер Стессел, ничего не понимая, отчаянным шепотом требует от Дрейера пояснений. Дрейер шепотом ему отвечает, но это приводит к еще большему непониманию. Наконец мистер Стессел восклицает:
– Ах вот что – eine Zikade!
Он говорит таким тоном, чтобы все поняли: всему виной невозможное англо-американское произношение.
Но в этот момент Джордж переходит к следующей части, с совсем иным настроем. Он их уже не обхаживает и не развлекает, он дает указания, четко и властно. Голосом судьи, оглашающего вердикт.
– Основной смысл выбранного Хаксли названия очевиден. Что же касается деталей, было бы интересно разобрать взаимосвязи всех обстоятельств этой истории. Например, пятого графа Гонистерского можно рассматривать как двойника Титона – он становится обезьяной, подобно тому, как Титон – насекомым. Но как же Джо Стойт? Или Обиспо? Он ближе к Мефистофелю Гете, чем к Зевсу. А кто в романе Эос? Конечно, не Вирджиния Монсипл, хотя бы потому, что она поздно просыпается.
Этой шутки не понимает никто. Джордж иногда позволяет себе, вопреки своему опыту, выдать что-нибудь слишком английское. Слегка задетый отсутствием отклика с их стороны, он продолжает почти вызывающим тоном:
– Но, прежде чем мы продолжим, вам предстоит разобраться, о чем, собственно, этот роман.
Остаток семинара они разбираются.
Как обычно, сначала повисает полное молчание. Аудитория сидит, вперившись в семантически грандиозное слово. О чем. Это о чем? Ну и чего от них ждет Джордж? Они скажут ему все, что он хочет, абсолютно все. Потому что большинство из них, несмотря на всю подготовку, где-то внутри воспринимают эти «о чем» как утомительную софистику.
Меньшинство – те, кто сроднился с мыслями «о чем» до такой степени, что это стало их второй натурой, кто тоже мечтает написать однажды о чем-то книгу, подобно Фолкнеру, Джеймсу или Конраду, после чего все остальные книги на ту же тему окажутся ни о чем, – пока не спешат высказаться. Они ждут момента, когда можно будет выйти на сцену, подобно знаменитому сыщику, чтобы развенчать преступника Хаксли. А пока пусть мелюзга помучается. Пусть сначала замутят воду.
Первым решил высказаться Александр Монг. Конечно, он знал, что делает, не дурак. Может, это часть его философии абстрактного художника: по-детски воспринимать все образное. Европеец не сдержался бы, но Александр с милой китайской улыбочкой сказал:
– Тут об одном богатом парне, который ревнует, потому что боится, что слишком стар для той девочки, и ему кажется, что тот молодой за ней ухлестывает, но на деле у того никаких шансов, потому что она уже сошлась с доктором. Так что богатый зря пристрелил молодого, хотя доктор их вроде прикрыл, и все отправились в Англию искать того графа, который забавлялся в подвале с той цыпочкой…
Гомерический хохот.
С улыбкой принимая эстафету, Джордж спрашивает:
– Вы забыли о Пордидже с Проптером – так что они?
– Пордидж? Ах да, это который узнал, что граф ел ту чертову рыбу…
– Карпа.
– Точно. А Проптер… – Александр ухмыляется и, слегка паясничая, почесывает в затылке. – Извините, сэр. Правда, я до полвторого не спал, пытаясь понять. Да! Классно, но я не въехал в эту хрень.
Опять хохот. Александр сделал свое дело. Подал филистимлянам пример, молодец. И языки развязались, и процесс пошел.
Вот некоторые их выводы:
Если мистер Проптер заявляет, что субъект не существует, значит, он не верит в человеческую природу.
Этот роман – бессмысленный абстрактный мистицизм. Скажите, зачем нам вообще эта вечность?
Роман умен, но циничен. Хаксли следовало бы обратить внимание на положительные человеческие эмоции.
Роман – чудесная духовная проповедь. Он учит, что не следует совать свой нос в мистические дела. Не следует шутить с вечностью.
Хаксли удивительный сумасброд. Он хочет извести человечество и оставить мир животным и духам.
Заявлять, что время есть зло, потому что зло есть во времени, – все равно что считать, что океан – это рыба, потому что рыба в океане.
Мистер Проптер не занимается сексом. И потому это неубедительный персонаж.
А у мистера Пордиджа сексуальная жизнь неубедительная.
Мистер Проптер сторонник джефферсоновской демократии, анархист, большевик, готовый член Общества Джона Бёрча[6]6
Праворадикальная политическая группа в США, стоящая на платформе антикоммунизма, ограничения влияния государства, конституционной республики и личных свобод. – Примеч. пер.
[Закрыть].
Мистер Проптер избегает действительности. Почитайте его разговор с Питом о войне в Испании. Пит был нормальным парнем, пока Проптер не стал капать ему на мозги, так что тот совсем свихнулся на вере.
Хаксли прекрасно понимает женщин. Розовый скутер Вирджинии – отличный тому пример.
И так далее, и тому подобное… Джордж стоит, улыбаясь, фактически молча, не мешая им развлекаться в свое удовольствие. Он здесь при романе, как служитель при карнавальном балагане, подзуживает толпу лупить по мишеням исключительно ради удовольствия. Однако некоторые основные правила должны соблюдаться. Если заходит речь о влиянии лизергиновой кислоты или мескалина, с намеком на серьезное пристрастие Хаксли к наркотикам, Джордж лаконично это опровергает. Попытки отойти от романа и связать одну известную даму с убийством Джо Стойтом Пита Джордж решительно пресекает; эти домыслы опровергнуты еще в тридцатых.
И наконец Джордж слышит вопрос, которого ждал. Спрашивает, конечно, Майрон Херш, неутомимый мучитель неевреев.
– Сэр, на странице семьдесят девятой мистер Проптер говорит, что глупейшие строки в Библии – «Возненавидели Меня напрасно». Он считает, что нацисты были правы в ненависти к евреям? Значит, мистер Хаксли антисемит?
Джордж делает глубокий вдох.
– Нет, – мягко отвечает он.
После обдуманной паузы – класс взбудоражен тупостью Майрона – повторяет громко и жестко:
– Нет, мистер Хаксли не антисемит. Нацисты не имели права ненавидеть евреев. Но их ненависть к евреям не беспричинна. Ненависть всегда имеет причины… Но давайте забудем на время о евреях, хорошо? Независимо от отношения к ним, говорить на эту тему объективно пока невозможно. Как и в ближайшие лет двадцать, вероятно. Поэтому поговорим об этом относительно иного меньшинства, какого хотите, но небольшого, не имеющего организованного комитета для своей защиты…
Пристальный взгляд Джорджа обращен к Уолли Брайанту: я на вашей стороне, сестра-по-братству в меньшинстве. Лицо Уолли пухлое, землистого цвета, попытки пригладить буйно вьющиеся волосы, отполировать ногти и придать форму бровям вопреки усилиям лишь добавляют ему непривлекательности. Ему наверняка ясен смысл взглядов Джорджа, это его смущает. И напрасно! Джордж намерен преподать ему урок, который тот не забудет. Он покажет Уолли изнутри его собственную робкую душу. Может, тогда у него хватит смелости забыть о маникюре и взглянуть правде в глаза…
– Например, люди с веснушками не воспринимаются как меньшинство теми, у кого веснушек нет. В интересующем нас смысле. А почему? Потому что меньшинство только тогда воспринимается как таковое, когда оно представляет угрозу большинству – реальную или мнимую. Но угроза никогда полностью не вымышленная. Кто-нибудь не согласен? Если это так, спросите себя, что станет делать то или иное меньшинство, если наутро оно окажется в большинстве? Вы меня понимаете? Если нет, подумайте над этим.
Ладно, возьмем либералов, в том числе и присутствующих, полагаю. Уверен, они скажут: меньшинства – это люди, такие же как мы. Конечно, меньшинства – это люди, именно люди, не ангелы. Конечно, такие как мы, но не совсем. В том и беда экзальтированного либерального ума, обманывающего даже себя вплоть до отрицания различий между негром и шведом.
(Ну почему он не в состоянии прямо сказать – между Эстель Оксфорд и Бадди Соренсеном? Может быть, потому, что тогда последовал бы взрыв всеобщего веселья, всеобщие объятия, и Царствие Небесное тотчас же снизошло бы на аудиторию номер 278. Или не снизошло бы?)
– Поэтому лучше признать, что меньшинства – это люди, которые от нас отличаются взглядами, поведением и имеют недостатки, которых мы лишены. И потому они сами, их поведение и недостатки могут нам не нравиться. И гораздо лучше, если мы признаем это, нежели запятнаем свои взгляды псевдолиберальной сентиментальностью. Честное признание – это выпускной клапан, защищающий нас от искушения подвергать их гонениям. Я знаю, это немодная нынче теория… Сейчас принято верить, что, если проблему достаточно долго игнорировать, она исчезнет…
Так о чем я? Ах да… Положим, меньшинство преследуется – не так важно, по политическим, экономическим или физиологическим причинам. Причины всегда найдутся, не важно, насколько ложные, – я в этом убежден. И конечно, сами преследования всегда есть зло; надеюсь, вы согласны с этим… Но, к сожалению, возникает опасность впасть в иную ересь. Если преследовать их грешно, значит, скажет либерал, это меньшинство безгрешно. Это ли не абсурд? Искоренить зло, преследуя еще большее зло? Разве все христианские мученики на аренах были святыми?
И еще одно. Меньшинства склонны к своего рода агрессии, которая провоцирует большинство. Их ненависть к большинству, поверьте, не без причины. Они ненавидят даже другие меньшинства, потому что и здесь существует некоторая конкуренция – каждое считает свои страдания наибольшими, а пороки наихудшими. И чем больше они ненавидят, тем больше их преследуют, тем нетерпимее они становятся! А вы думаете, это любовь подогревает в людях дурные свойства? Представьте, вот и нет! Так почему же ненависть к ним улучшит дело? Когда тебя преследуют, ты ненавидишь людей, виновных в этом, ты живешь в мире ненависти. И не узнаешь любовь, когда ее встретишь. Даже любовь вызывает у тебя подозрение! Вдруг за этим кроется какой-то обман…
К этому моменту Джордж и сам не знает, что доказал, что опроверг, на чьей он стороне, если вообще поддерживает кого-то, – он вообще толком не знает, о чем говорит. Тем не менее все рассуждения вырывались у него с неоспоримой искренностью. Он беспрекословно верит в каждое из них, разумное или неразумное. Он управлялся с ними как с хлыстом, не давая спать Уолли, и Эстель, и Майрону. Имеющий уши да слышит…
Но Уолли глядит все так же смущенно – он не выпорот и не разбужен. Он даже не смотрит на него; он уставился в какую-то точку где-то у него за спиной… И, окинув взглядом аудиторию, споткнувшись на полуслове и потеряв нить повествования, Джордж видит, что все пары глаз глядят в одну точку – на эти чертовы часы. Незачем оборачиваться, и так ясно, что его время вышло. Резко прерывая занятие, он говорит:
– Продолжим разговор в понедельник.
Все сразу встают, за болтовней собирая свои книжки.
Ну а чего он ожидал? Большинству из них минут через десять надо быть в каком-нибудь другом месте. Все же Джордж раздражен. Давно он не позволял себе так увлекаться, позабыв о времени и месте. Как это унизительно! Вздорный старый препод бубнит свое, не замечая ни часов, ни вздохов класса – и в который раз! На минуту, пока студенты разбегаются, Джордж упивается ненавистью к ним, к их одноклеточному первобытному безразличию. Он просит одну монетку, протягивая им бриллиант, а они пожимают плечами и отворачиваются с усмешкой, считая его чокнутым старым торгашом.
Что ж, остается лишь подчеркнуто благожелательно улыбаться тем, кто задержался с какими-то вопросами. Сестра Мария уточняет, обязаны ли они прочесть к экзаменам все упомянутые мистером Хаксли книги. Джорджу ужасно хочется сказать ей, что да, все, включая «120 дней Содома». Но, конечно, он не скажет. Оценив полегчавшую мысленную стопку книг, она с довольным видом уходит.
Бадди Соренсен остался, чтобы извиниться.
– Простите, сэр, я не читал Хаксли, думал, вы захотите сначала сделать анализ.
Чистый идиотизм или хитрость? Джордж не станет выяснять.
– «Нет Бомбе!» – зачитывает он слоган на его значке, и Бадди, не раз слышавший это от Джорджа, счастливо улыбается:
– Так точно, сэр!
Миссис Нетта Торрес жаждет узнать, не послужила ли прототипом для Гонистера какая-то реальная английская деревня. Джордж понятия не имеет. Ему лишь известно, что в последней главе, когда Обиспо, Стойт и Вирджиния выехали из Лондона в поисках пятого графа, они двигались в юго-западном направлении. Так что, вероятно, Гонистер находился где-то в Хэмпшире или Суссексе… Но понятно, что вопрос был лишь предлогом. Заговорила она об Англии для того, чтобы поведать, какие незабываемые три недели она провела там десять лет назад! Правда, бо́льшую часть времени в Шотландии, остаток – в Лондоне.
– Каждый раз, когда вы говорите с нами, – вещает она, с энтузиазмом сверля Джорджа глазами, – у меня в ушах звучит тот дивный, как музыка, акцент. (Джорджу страшно хочется узнать, кокни или Горбалз[7]7
Кокни (англ. cockney) – один из самых известных типов лондонского просторечия, на котором говорят представители низших социальных слоев населения Лондона. Горбалз (англ. Gorbals) – крайне нереспектабельный район Глазго. – Примеч. пер.
[Закрыть]?)
Она интересуется, где он родился – но об озвученном им месте слышит впервые. Пользуясь ее озадаченностью, он прерывает тет-а-тет.
Иногда собственный кабинет оказывается полезным – можно скрыться от миссис Торрес. Мистер Готтлиб, как всегда, на месте.
Готтлиб пребывает в большом возбуждении, он только что получил из Англии новую книгу одного оксфордского мэтра о Фрэнсисе Куорлсе[8]8
Фрэнсис Куóрлс (1592–1644) – английский поэт, хронист Лондона. – Примеч. пер.
[Закрыть]. Готтлиб скорее всего знает о Куорлсе не меньше того мэтра, но Оксфорд за его спиной повергает в священный трепет беднягу Готтлиба, уроженца убогого района Чикаго.
– Теперь я понимаю, – говорит он, – что без должного происхождения подобную должность не получишь.
Джордж же с тоской заключает, что предел мечтаний этого человека – занять место никчемного коллеги, чтобы затем всю жизнь гробить себя невыносимо желчной и язвительной писаниной.
Подержав в руках книгу и с должным уважением полистав страницы, Джордж решает, что пора обедать. Выходя из здания, он видит Кенни Поттера и Лоис Ямагучи сидящими на траве под самым чахлым из саженцев с дюжиной листьев. Трудно выбрать место нелепее, но, возможно, именно поэтому Кенни и сидит здесь. Они словно дети, играющие в жертв кораблекрушения на берегу атолла в Тихом океане. С этой мыслью Джордж улыбается им. Они тоже улыбаются, Лоис по-японски застенчиво смеется. Джордж, словно пароход, без остановки проходит мимо их атолла. Лоис понимает это, поэтому изящной узкой кистью руки радостно машет ему так, как люди машут проплывающим мимо кораблям. Кенни тоже машет, но вряд ли с пониманием; он просто подражает Лоис. Но все равно этот обмен любезностями смягчает сердце Джорджа. Он снова машет им; для старого парохода и юных изгоев это обмен приветствиями, а не сигнал о помощи. Они не лезут в душу и не навязываются. Просто желают всего хорошего. И снова, как у теннисного корта, Джордж ловит тепло и яркость красок, только сейчас это спокойное, согревающее чувство. Улыбаясь своим мыслям и не оглядываясь, он на всех парах направляется в сторону кафетерия.
Но вдруг слышит за спиной:
– Сэр!
Обернувшись, он видит нагоняющего его в своих бесшумных кедах Кенни. Джордж ждет, что Кенни спросит, скажем, какую книгу они будут читать на следующем занятии, после чего уйдет. Но нет, тот идет рядом, подстраиваясь под его шаг, и говорит будничным тоном:
– Мне нужно в книжный магазин.
Он не спрашивает, нужно ли Джорджу в книжный, а Джордж не говорит, что туда не собирается.
– Вы когда-нибудь пробовали мескалин, сэр?
– Да, как-то в Нью-Йорке. Лет восемь назад. Тогда не было каких-то ограничений на его продажу. Я просто зашел в аптеку и заказал нужное количество. Они раньше о нем и не слышали, но через несколько дней я получил заказ.
– А у вас были видения – вроде всей этой мистики?
– Нет, видений, как вы это называете, не было. Сначала меня мутило, как от морской болезни. Но не сильно. Так мог чувствовать себя доктор Джекилл, когда впервые принял свое зелье… Потом все вокруг расцвело ярчайшими красками. Но тебя не заботит, почему никто этого не замечает. Помню, я подумал, увидев на столе в ресторане дамскую сумочку немыслимого красного цвета, – что за чудовище! Лица людей превратились в грубые карикатуры, разоблачающие их сущность. Сразу стало ясно, что вот этот – индюк надутый, другой сейчас лопнет от страха, третий напрашивается на драку. Но были и светящиеся красотой лица тех, в ком нет страха или злобы, кто принимает жизнь такой, какая она есть… А потом все вокруг обрело необычайный вес и объемность – шторы, словно вылепленные скульптором, древесина, ставшая объемно-зернистой, словно ожившие цветы. Помню горшок с фиалками – они не двигались, но очевидно, что могли бы. Каждый цветок – словно тянущаяся вверх змейка, замершая на своих кольцах… Затем, на пике воздействия, стены – как и всё вокруг, – казалось, обрели дыхание, а структура дерева – текучесть, словно это жидкость… Потом постепенно все вернулось в норму. И после никакого похмелья. Я распрекрасно себя чувствовал и с удовольствием поужинал.
– И вы больше не принимали его?
– Нет. Оказалось, больше не хочется. Было желание попробовать мескалин на себе. Остальные капсулы я раздал друзьям. Один чувствовал примерно то же, что и я, другой вовсе ничего. Знакомая дама сказала, что в жизни не испытывала подобного ужаса. Я подозреваю, это она из вежливости. Своего рода благодарность за удовольствие…
– У вас больше не осталось этих капсул, сэр?
– Нет, Кенни, больше нет! Но если бы и были, раздавать их студентам я бы не стал. Я бы придумал более забавный повод выкинуть меня отсюда.
Кенни ухмыльнулся.
– Извините, сэр, я просто подумал… Знаете, если мне надо, я всегда найду, где взять. Почти все можно найти прямо в кампусе. Однажды приятель Лоис пробовал его прямо здесь. Он уверяет, что под кайфом видел Бога.
– Ну, он, возможно, и видел. Может, я маловато принял.
Кенни искоса, с очевидным весельем, взглянул на Джорджа.
– Знаете что, сэр? Спорим, если вы увидите Бога, вы нам не скажете.
– Почему вы так думаете?
– Лоис так думает. Что вы себе на уме. Вот как этим утром, например, когда слушали ту чепуху, что мы несли о Хаксли…
– Ну, положим, не вы. Кажется, вы ни разу рта не раскрыли.
– Я наблюдал за вами… Кроме шуток. Думаю, Лоис права! Сначала вы позволяете нам молоть чушь, потом вправляете мозги. Я не говорю, что вы нас ничему не учите, вы рассказываете интереснейшие вещи, но никогда не скажете всего, что знаете…
Джордж чувствует себя удивительно польщенным. Он впервые слышит от Кенни подобное. И ему трудно отказаться от такой соблазнительной роли.
– Что же, может, и так, в некоторой степени. Видите ли, Кенни, есть вещи, о существовании которых не знаешь, пока тебя не спросят.
Они подошли к теннисным кортам. На каждом силуэты движущихся фигур. Джордж молниеносным взглядом знатока определяет, что утренняя пара ушла, а эти игроки физически малопривлекательны. На ближайшем корте немолодой толстяк-преподаватель усиленно сгоняет жир в паре с девицей с волосатыми ногами.
– Чтобы отвечать, – продолжает Джордж многозначительно, – надо, чтобы тебя спрашивали. Вот только нужные вопросы задают редко. Большинство людей мало чем интересуются…
Кенни молчит. Размышляет об услышанном? Собирается о чем-то спросить? Пульс Джорджа учащается в предвкушении.
– Дело не в том, что я предпочитаю быть себе на уме, – говорит он, не поднимая головы и как бы ни к кому не обращаясь. – Знаете, Кенни, часто хочется высказать, обсудить все без утайки. Но в аудитории это невозможно. Всегда кто-нибудь не так поймет…
Молчание. Джордж бросает в его сторону быстрый взгляд. Кенни смотрит, хотя и без особого интереса, на мохноногую девицу. Возможно, он его даже не слышал. Невозможно понять.
– Может, приятель Лоис и не видел Бога, – вдруг говорит Кенни. – То есть, может, он сам себя обманывает. Приняв дозу, он очень быстро отключился. Потом три месяца провел на реабилитации. Он рассказывал Лоис, что в отключке превратился в черта и мог гасить звезды. Да, я серьезно! Что он гасил их по семь штук зараз. Но при этом жутко боялся полиции. Потому что у них есть особое устройство, чтобы ловить и уничтожать чертей. Называется МО-машина. МО – это ОМ[9]9
Ом – в индуистской и ведийской традиции – сакральный звук, «слово силы». Часто интерпретируется как символ божественной триады Брахмы, Вишну и Шивы. – Примеч. ред.
[Закрыть] наоборот, ну знаете, так индусы называют Бога.
– Если полицейские уничтожают чертей, значит, они ангелы, верно? Что же, в этом есть смысл. Заведение, где полицейские превращаются в ангелов, может быть только сумасшедшим домом.
Кенни смеется над его шуткой. Они входят в книжный магазин. Ему нужна точилка для карандашей. Вот они лежат рядами, в коробочках из разноцветной пластмассы. Красные, зеленые, синие и желтые. Кенни берет красную.
– Что вы хотели купить, сэр?
– В общем-то, ничего.
– Хотите сказать, что пришли сюда просто за компанию?
– Именно. Почему бы нет?
Похоже, Кенни искренне удивлен и польщен.
– Тогда, думаю, вы заслуживаете приз! Выбирайте, сэр. За мой счет.
– О-о, но… ладно, спасибо!
Джордж даже слегка краснеет. Словно ему преподнесли розу. Он берет желтую точилку. Кенни усмехается.
– Я ждал, что вы возьмете синюю.
– Почему?
– Разве не синий цвет духовности?
– А я жажду духовности? И почему вы взяли красную?
– Что означает красный?
– Ярость, похоть.
– Шутите?
Они молчат, улыбаясь почти интимно. Джордж чувствует, даже если двусмысленность – не самый удачный путь к взаимопониманию, все равно, взаимо-непонимание, готовность противоречить – тоже своего рода вид близости. Кенни расплачивается за точилки, мимолетным почтительным жестом прощается:
– Увидимся.
И уходит прочь. Джордж медлит в магазине несколько минут, чтобы не показалось, будто он его преследует.
Если прием пищи считать таинством, тогда столовая кафедры сравнима с самым аскетичным из домов собраний квакеров. Никаких поблажек во имя создания уютной, возбуждающей аппетит обстановки единения. Это антиресторан. Слишком стерильные столы из хрома и пластика, слишком опрятные бурые металлические контейнеры для использованной бумажной посуды и салфеток. А если сравнивать с шумом студенческой столовой, здесь слишком тихо. Тишина тут безжизненная, стеснительная, неуклюжая. Нет даже чего-то подавляющего или впечатляющего, вроде высоких подиумов Оксфорда или Кембриджа, где обедают почтенные знаменитости. Здесь почти все сравнительно молоды; Джордж один из старейших.
Боже, как грустно. Так грустно видеть на их лицах, особенно на молодых, этот мрачный, подавленный взгляд. Они настолько недовольны жизнью? Конечно, им мало платят. Конечно, здесь нет никаких материальных перспектив. И конечно, вероятность сойтись с сильными мира сего равна нулю. Но разве общение со студентами, пока еще на три четверти полными жизни, – не компенсация? Приносить пользу здесь, а не заваливать потребителей грудами ненужного барахла? Неужели принадлежность к одной из немногих не погрязших в продажности профессии в этой стране ровным счетом ничего не значит?
Для этих унылых лиц, очевидно, нет. Многие бы ушли, если бы решились. Но они для этого учились, теперь тянут лямку. Они израсходовали то время, когда надо было учиться врать, хитрить и хапать. Исключили себя из большинства – маклеров, спекулянтов, толкачей, – обретая сухие, сомнительных достоинств знания; сомнительные для маклеров – они без них обходятся. Маклеру подавай материальный результат этих знаний. Какие простаки, профессура эта, скажет он. Какой смысл в знаниях, если из них нельзя делать деньги? И наши унылые коллеги отчасти согласятся с этим, слегка стыдясь того, что не такие крутые и прожженные.
Джордж идет по залу. На стойке выставлены дымящиеся чаны, откуда официантка накладывает жаркое, овощи или суп. Можно взять салат, фруктовый пирог или странное, жутковатого вида желе с изумрудно-зелеными прожилками. Вот на это желеобразное нечто, словно загипнотизированный аквариумной рептилией, глядит Грант Лефану, молодой преподаватель физики, увлекающийся поэзией. Грант не из унылых, не из тех, кто сдается; Джорджу он, пожалуй, нравится. Он невысок и тонок, носит очки; дурная улыбка истинного интеллектуала обнажает крупные зубы. Его легко представить террористом царской России лет сто тому назад. Случись так, он мог бы стать фанатичным борцом за идею, без колебаний применяющим теорию на практике. Полночные речи бледных фанатов, студентов-анархистов с горящими глазами, под чаёк и сигареты при запертых дверях наутро обернутся брошенной бомбой под горделивые лозунги юного идеалиста-практика. А затем его, блаженного, хватают и волокут в застенки, под пули карательного отряда. На лице у Гранта часто блуждает странная, почти смущенная улыбка, когда ему случается излагать свои взгляды необдуманно – как если бы вечный молчун вдруг в отчаянии выкрикнул что-то во весь голос.
Между прочим, недавно Грант совершил небольшой подвиг. Выступил как свидетель защиты в суде по делу одного книготорговца, обвиненного в продаже знаменитой порнографии времен двадцатых годов. Раньше эта продукция была в ходу только в странах романских культур, но теперь, после нескольких пробных попыток, пытается закрепиться и среди американских юнцов. (Джордж не вполне уверен, что именно эту книжку он сам читал в поездке в Париж в юные годы. Но точно помнит, что ее, или подобную, он отправил в мусорный бак на странице с жаркой сценой совокупления. Не по причине недостаточной широты взглядов, – конечно, пусть себе пишут о гетеросексуалах, если хотят, а те, кому надо, пусть это читают. Но все же это смертельно скучно и, откровенно говоря, немного безвкусно. Разве современные авторы не могут писать на такие старые добрые темы, как, например, любовь юношей?)
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































