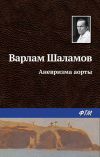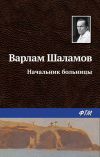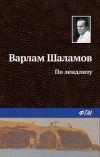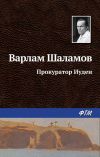Текст книги "Эволюция эстетических взглядов Варлама Шаламова и русский литературный процесс 1950 – 1970-х годов"
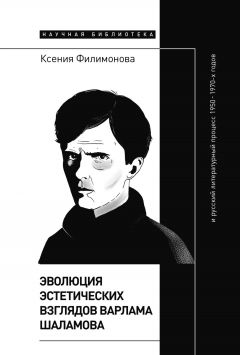
Автор книги: Ксения Филимонова
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Варлам Шаламов и «Новый ЛЕФ»
Шаламов быстро включился в литературный процесс. Он интересовался идеями ЛЕФа, некоторое время посещал кружок Осипа Брика, общался с Сергеем Третьяковым. Он активно и внимательно изучал труды формалистов, но при этом отделял литературную теорию от московской литературной жизни, которая «создавала факты» и была очень насыщенной:
ЛЕФ опирался на «формалистов». Шкловский – крупная фигура ЛЕФа, был тем человеком, который выдумывал порох, и для формалистов был признанным вождем этого течения. Ленинградцы – Тынянов, Томашевский, Эйхенбаум – все это были эрудиты, величины солидные, недавние участники тоненьких сборничков ОПОЯЗа. Пока в Ленинграде формалисты корпели над собиранием литературных фактов, Москва создавала эти литературные факты [Шаламов 2013: IV, 319].
Несмотря на такой скептицизм, Шаламову идеи формализма были близки. В его архивах мы находим стихотворение «В защиту формализма»[8]8
Цикл «Высокие широты» из «Колымских тетрадей». Точная дата неизвестна.
[Закрыть]. Невозможно точно сказать, было ли оно воспоминаниями о дискуссиях вокруг «формального метода» или откликом на борьбу с «формализмом в искусстве» в СССР. Скорее, это размышление о поэзии, но в советском языке эта омонимия превратилась в синонимию:
Не упрекай их в формализме,
В любви к уловкам ремесла.
Двояковыпуклая линза
Чудес немало принесла.
И их игрушечные стекла,
Ребячий тот калейдоскоп —
Соединял в одном бинокле
И телескоп, и микроскоп.
И их юродство – не уродство,
А только сердца прямота,
И на родство, и на господство
Рассвирепевшая мечта.
Отлично знает вся отчизна,
Что ни один еще поэт
Не умирал от формализма —
Таких примеров вовсе нет
[Там же: III, 303].
Но при всей увлеченности революционными идеями разочарование в этих объединениях наступило довольно быстро. Шаламов обладал собственным видением и интересами, сформировавшимися еще в школьные годы и получившими развитие после переезда в Москву и погружения в ее культурную жизнь, поступления в Московский университет. Точнее было бы сказать, что это было разочарование не в идеях и теориях, а в том, какие темы обсуждались участниками ЛЕФа, как они относились к другим литераторам и какие человеческие качества демонстрировались ими. К некоторым проявлениям участников объединения Шаламов относился негативно. В воспоминаниях «Двадцатые годы» Шаламов внезапно выступил с резкой критикой ЛЕФа:
Большая часть литературных споров, в которых участвовали «лефы», уходили на выяснение, кто у кого украл метафору, интонацию, образ. Чей, например, приоритет в слове «земшар». Кто первый придумал это изящное слово? Безыменский или Маяковский? Кто у кого украл? <…>
Крайне неприятной была какая-то звериная ненависть к Блоку, пренебрежительный, издевательский тон по отношению к нему, усвоенный всеми лефовцами. <…>
Изобретательство вымученных острот, пустые разговоры, которыми занимались в лефовском окружении Маяковского, Брика, пугали меня. Поэзия, по моему глубокому внутреннему чутью, там жить не могла [Шаламов 2013: IV, 342].
В письме Людмиле Ивановне Скорино от 12 января 1962 года Шаламов также рассказывал о постигшем его разочаровании в участниках ЛЕФа:
Литературного тут не было ничего, кроме сплетен и вышучивания всех возможных лефовских врагов. Нарочитое умничанье, кокетничанье испытанных остряков с психологией футбольных болельщиков производило на меня прямо-таки угнетающее, отталкивающее впечатление. Поэзия, которую я искал, жила не здесь. Разочарование было столь сильным, что во время распада ЛЕФа, когда Маяковский был отстранен от журнала, мои симпатии оказались на стороне фактографии, на стороне Сергея Михайловича Третьякова, сменившего Маяковского за редакторским креслом «Нового ЛЕФа» [Там же: VI, 320].
Разрыв с «Новым ЛЕФом» Шаламов объяснял своей строптивостью и нежеланием писать на предлагаемые темы:
На Малую Бронную ходил я недолго из-за своей строптивости и из-за того, что мне жалко было стихов, не чьих-нибудь стихов, а стихов вообще. Стихам не было место в «литературе факта» – меня крайне интересовал тогда (интересует и сейчас) вопрос – как такие разные люди уживаются под лефовской и новолефовской кровлей.
У меня были кой-какие соображения на этот счет.
Я работал тогда в радиогазете «Рабочий полдень».
– Вот, – сказал Сергей Михайлович, – напишите для «Нового Лефа» заметку «Язык радиорепортера». Я слышал, что надо избегать шипящих и так далее. Напишете?
– Я, Сергей Михайлович, хотел бы написать по общим вопросам, – робко забормотал я.
Узкое лицо Третьякова передернулось, а голос его зазвенел:
– По общим вопросам мы сами пишем.
Больше я на Малой Бронной не бывал. Избавленный от духовного гнета «литературных фактов», я яростно писал стихи – о дожде, о солнце, о всем, что в ЛЕФе запрещалось [Там же: IV, 318].
Тем не менее разрыв с ЛЕФом не означал полного отрицания этого опыта. Шаламов всю жизнь спорил с лефовцами, но впоследствии их метод окажется для него одним из немногих возможных способов фиксации травматического опыта. Елена Михайлик указывает на противоречивость отношения Шаламова к нему:
Все многообразные позиции – в области эстетики, политики и теории литературы, – которые в то время существовали в рамках Левого фронта искусств, казались Шаламову догматическими, узкими и плохо согласующимися друг с другом.
Шаламова одновременно привлекала – и отталкивала – жесткая ориентация на «литературу факта», апелляция к документу, представление о том, что форму произведения должны диктовать свойства материала, а автор важен ровно в той мере, в которой отсутствует в тексте. С точки зрения Шаламова, эта позиция не оставляла места для поэзии [Михайлик 2009: 180].
Вероятнее всего, Шаламова оттолкнули и скрытая иерархичность «Нового ЛЕФа», и жесткий формальный и идеологический диктат объединения в целом. Шаламов искал свою интонацию и стремился самостоятельно находить темы для литературных сочинений, что не поощрялось Третьяковым. Тогда же Шаламов проявил склонность к резким разрывам, которая сохранилась на всю жизнь, – таким резким будет разрыв с Борисом Пастернаком, Надеждой Мандельштам, некоторыми друзьями и соратниками.
Много лет спустя, в 1971 году, в записных книжках писатель назовет себя последователем русского модернизма:
Я – прямой наследник русского модернизма – Белого и Ремизова. Я учился не у Толстого, а у Белого, и в любом моем рассказе есть следы этой учебы.
С Пастернаком, Эренбургом, с Мандельштам мне было легко говорить потому, что они хорошо понимали, в чем тут дело [Шаламов 2013: V, 322].
Андрей Белый и Алексей Ремизов – предшественники Шаламова
Утверждение о том, что он является наследником Белого и Ремизова, Шаламов более нигде не раскрывает и не комментирует. Несмотря на то что обоим писателям посвящен ряд высказываний и записей Шаламова, они содержат в основном впечатления от прочитанного. Возможно, Шаламов имел в виду принцип документальности у А. Ремизова и ритм прозы А. Белого, чей роман «Петербург» считал последним романом в русской литературе[9]9
До прочтения «Доктора Живаго». После Шаламов назвал произведение Б. Пастернака последним русским романом.
[Закрыть]. Оба этих явления характерны для прозы Шаламова, как и бессюжетность, фрагментарность, пристальное внимание к деталям быта, эпизодам. Но убедительного доказательства этого предположения в высказываниях Шаламова нет.
Об Алексее Ремизове он пишет в 1964 году:
Ремизов. «Мышкина дудочка. Подстриженными глазами».
Лучшая русская книга, которую я читал за последние тридцать лет, необычайная, замечательная книга. Рассказ «Мышкина дудочка», где сапогом давят мышку, беззащитную, лучший рассказ. До слез.
Грусть необычайная. Вера в призвание, героизм, сила. Урок мужества, героической жизни, нищей жизни без скидок [Шаламов 2013: VII, 399].
Эмоциональность прозы Ремизова отмечена Шаламовым, который свою прозу называл «эмоционально окрашенным документом»[10]10
См. письмо к И. П. Сиротинской: «Документальная проза будущего и есть эмоционально окрашенный, окрашенный душой и кровью мемуарный документ, где все документ и в то же время представляет эмоциональную прозу» [Шаламов 2013: VI, 487].
[Закрыть]. Есть еще один важный сюжет, который связывает В. Шаламова и А. Ремизова. В 1926 году А. Ремизов в Париже опубликовал «Житие протопопа Аввакума» (фактически – ремизовский текст, выстроенный на основе разных списков оригинального сочинения старообрядцев), который был значимой фигурой для Шаламова, посвятившего ему стихотворение «Аввакум в Пустозерске»[11]11
Цикл «Златые горы» из «Колымских тетрадей». Точная дата неизвестна.
[Закрыть]:
Не в бревнах, а в ребрах
Церковь моя.
В усмешке недоброй
Лицо бытия.
Сложеньем двуперстным
Поднялся мой крест,
Горя в Пустозерске,
Блистая окрест.
Я всюду прославлен,
Везде заклеймен,
Легендою давней
В сердцах утвержден.
<…>
Пускай я осмеян
И предан костру,
Пусть прах мой развеян
На горном ветру.
Нет участи слаще,
Желанней конца,
Чем пепел, стучащий
В людские сердца
[Шаламов 2013: V, 183].
Фигура Аввакума актуализировалась в Серебряном веке и, что особенно важно для Шаламова, была значима для народовольцев, историей которых он интересовался. Отмечая темы духовного подвига, совмещение элементов жития Аввакума и биографии Шаламова, культуролог Валерий Петроченков высказывает предположение о том, чем является Аввакум для Шаламова:
Фигура протопопа Аввакума неоднократно привлекала внимание русских писателей. Для некоторых из них обращение к судьбе вождя старообрядчества было попыткой проверки на прочность своего душевного и духовного опыта.
Но Шаламов единственный, кто выбрал протопопа Аввакума своим архетипом и в определенном смысле – двойником [Петроченков].
Тема жития протопопа Аввакума в творчестве Шаламова заслуживает отдельного исследования. В контексте нашей работы необходимо отметить, что личность Аввакума была важна и для Ремизова. Частые упоминания Аввакума в статьях и беседах, выступления с публичными чтениями «Жития» вызывали в среде русского зарубежья мнение о том, что Ремизов был учеником и последователем протопопа.
Юрий Розанов указывает на то, что Шаламов, по всей видимости, был знаком с книгой Ремизова «Россия в письменах», целиком построенной на исторических документах, отмечает значимость канона модернистской литературы для прозы Шаламова:
В металитературном дискурсе Шаламова совершенно четко обозначены некоторые составляющие того «канона» модернистской литературы, на которой он ориентировался: фонетическое отношение к слову («проверка на звук»), полисемантичность («многоплановость»), символизация и особый, доведенный до «крайней степени художественной» документализм. Ремизов, проповедовавший среди молодых писателей подобную поэтику, называл ее «природным русским ладом», наиболее полным выразителем которого он считал протопопа Аввакума [Розанов].
О том, что связывает В. Шаламова и А. Белого, размышляет переводчик Шаламова Габриэле Лойпольд в статье «Анатомия сдержанности. Переводя Варлама Шаламова». Она отмечает музыкальную структуру, ритмизацию прозы:
Ритмизация текста вследствие варьирующих повторений фраз, ключевых предложений и полуабзацев, лейтмотивов, перекочевывающих из рассказов в письма, эссе и заметки в записных книжках, а к тому же структурирующее значение числа «два» – пар синонимов, – это музыкальные средства, образующие ткань прозы Шаламова и составляющие, вместе с вышеназванными нюансами «интонировки», те «цепочки», на которых вынужден «плясать» переводчик. И которые уводят его взгляд от лагеря [Лойпольд].
Глава 2
Начало оттепели: назад в литературу
Советская литература после смерти Сталина: обстоятельства появления «Колымских рассказов»
Вторая половина пятидесятых годов для Шаламова стала его лучшим временем. Время, когда закончился сталинский режим и массовые репрессии, развернулась хрущевская оттепель, давшая новый импульс, новые надежды и новое «оттепельное» искусство, сложно было представить в колымских бараках. А вторая половина пятидесятых и начало шестидесятых[12]12
Мы рассматриваем период до публикации рассказа «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына в журнале «Новый мир» в 1962 году, поскольку считаем это событие важным для Шаламова и его творчества.
[Закрыть] – время молодой поэзии, постепенного оживления литературных журналов и надежд на обновление политической и культурной повестки – дали возможность думать, что процесс необратим. Но, как покажет история, ненадолго.
Срок лагерного заключения Варлама Шаламова истек в октябре 1951 года. Еще два года – до сентября 1953-го – он был вынужден работать на Колыме, чтобы накопить денег на отъезд на «большую землю». В это время и сразу после возвращения Шаламов много писал, в основном стихи, торопясь записать то, что накопилось за долгие годы лагеря и ссылки:
В 1951 году я освободился из заключения, но выехать с Колымы не смог. Я работал фельдшером близ Оймякона, в верховьях Индигирки, на тогдашнем полюсе холода и писал день и ночь – на самодельных тетрадях.
В 1953 году уехал с Колымы, поселился в Калининской области, на небольшом торфопредприятии, работал там два с половиной года агентом по техническому снабжению. Торфяные разработки с сезонницами-«торфушками» были местом, где крестьянин становился рабочим, впервые приобщался к рабочей психологии. Там было немало интересного, но у меня не было времени – мне было больше 45 лет, я старался обогнать время и писал день и ночь – стихи и рассказы. Каждый день я боялся, что силы кончатся, что я уже не напишу ни строчки, не сумею написать всего, что хотел [Шаламов 2013: IV, 312].
Смерть Сталина не нашла отражения ни в записках Шаламова того периода, ни в переписке: до конца жизни он практически не высказывался о политических и историко-политических событиях письменно. Единственным исключением является «Письмо старому другу», появившееся вскоре после процесса над Андреем Синявским и Юрием Даниэлем в 1966 году. Этот текст был напечатан анонимно в «Белой книге по делу А. Синявского и Ю. Даниэля» (составитель Александр Гинзбург). Последовавшие за смертью Сталина события, безусловно, изменили жизнь Шаламова. 23 декабря 1953 года был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян бывший глава НКВД Лаврентий Берия. Одновременно происходили массовое освобождение заключенных (которое началось еще при Берии) и постепенный демонтаж всей системы ГУЛАГа. После смерти Сталина в СССР прекратились массовые аресты, но лишение свободы по политическим причинам все еще практиковалось, особенно после вторжения советских войск в Венгрию в 1956 году.
Реабилитация и возвращение прав означали возможность возвращения, а точнее нового вхождения в литературные круги Москвы. За те годы, которые Шаламов провел в лагере, в литературной ситуации и иерархии произошли существенные изменения, главное из которых состояло в том, что бурных дискуссий и плюрализма двадцатых больше не было. Опыт послереволюционных лет, и особенно лагерный опыт, для новой жизни не был пригоден. В воспоминаниях «Моя жизнь – несколько моих жизней» 1964 года Шаламов писал:
Подземный опыт не увеличивает общий опыт жизни – там все масштабы смещены, и знания, приобретенные там, для «вольной жизни» не годятся. Человек выходит из лагеря юношей, если он юношей арестован. Подобно тому, как медицинские права, приобретенные в лагерной фельдшерской школе, действительны только в пределах Дальнего Севера, как давал когда-то «разъяснения» Магаданский Санотдел [Шаламов 2013: IV, 297].
Поэтому нужно было начинать сначала: восстанавливать связи с теми, кто остался жив, и находить новые. На следующий же день после возвращения с Колымы Шаламов встретился с Борисом Пастернаком. До 1956 года Шаламов проживал на так называемом 101-м километре, в поселке Туркмен тогда Калининской области[13]13
В настоящее время входит в состав Клинского района Московской области.
[Закрыть]. Здесь он записал первые «колымские» рассказы: 1954 годом датированы рассказы «Заклинатель змей», «Апостол Павел», «Ночью», «Плотники» и «Шерри-бренди». Позже появляются «Одиночный замер», «Кант», «На представку», «Хлеб», «Татарский мулла и свежий воздух», «Шоковая терапия» [Есипов 2012: 209]. В письме Пастернаку от 24 октября 1954 года Шаламов описывал эту работу:
А я в своей деревенской глуши не успеваю даже чтение наладить сколько-нибудь удовлетворительно; махнув рукой на методическое, систематическое, хочу хоть что-либо прочесть из недочитанного за эти 17 лет. Целая человеческая жизнь, прожитая за Яблоновым хребтом, оставила слишком мало времени на чтение. В новых стихах я все в старой теме, и вряд ли отпустит она меня скоро. Рассказы, которые начал писать, достаются мне с большим трудом – там ведь ход совсем другой [Шаламов 2013: VI, 56].
Историко-культурный и литературный контекст написания «Колымских рассказов» можно восстановить по переписке Шаламова с А. З. Добровольским, Б. Л. Пастернаком, О. В. Ивинской и другими адресатами. В письме своему главному адресату этого периода А. З. Добровольскому от 25 января 1955 года, написанном, видимо, в ответ на его вопрос, Шаламов комментировал Второй съезд Союза советских писателей, который проходил в декабре 1954 года [Шаламов 2013: VI, 105].
Основные темы, поднятые на Втором всесоюзном съезде советских писателей, отражены в стенографическом отчете. А. А. Сурков, член президиума съезда, доложил о значительном росте тиражей художественной литературы в СССР. Согласно докладу, в 1953 году самым публикуемым русским писателем был Горький (80 млн экземпляров), за ним с небольшим отрывом следовали Пушкин (70 млн) и Толстой (60 млн). Маяковский издан тиражом 23 млн экземпляров. Это сопровождалось развитием библиотечной сети – в докладе фигурировала цифра 300 тысяч точек.
Часть доклада была посвящена проблеме положительного героя в советской литературе. Положительный герой, по мнению Суркова, – не тот, кто изначально обладал «идеальными» качествами, а тот, кто подвергся множеству испытаний. Приводя в пример героев Н. Островского, А. Фадеева, А. Гайдара, Сурков говорит:
Именно в этих книгах (и в этом секрет их невиданной популярности) герои как раз не просто, не бездумно проходят сквозь строй испытаний, встающих на их пути. Им очень нелегко дается конечная победа.
Как из рога изобилия сыплет жизнь на голову Павла Корчагина испытания одно другого тяжелее. Тем тверже становится сталь его характера, закаляемая на жарком огне этих испытаний. <…>
Книги Фадеева, Гайдара, Островского, Полевого, «Четвертая высота» Ильиной, «Улица младшего сына» Л. Кассиля и М. Поляновского, произведения о Зое Космодемьянской, об Александре Матросове и других реальных героях нашей действительности поэтому и живут и покоряют сердца молодых читателей, что, вопреки прописям педантов, мечтающих об «Идеальном герое», показывают живых наших современников, людей эпохи становления нового характера, новой морали, новых норм личных и общественных отношений [Съезд писателей: 29].
Шаламов, не присутствовавший, как он сам сообщал, на съезде, с сомнением комментировал это выступление, так как для него проблема литературного героя не являлась важным предметом обсуждения на съезде Союза писателей. Это было второстепенным с точки зрения лагерного опыта Шаламова, который подразумевал то, что после Колымы сама литература должна стать другой. По поводу современного героя у него было свое, противоположное официальному, мнение, которому соответствовал и другой тип повествования. Вопрос о существовании литературы после «позора Колымы», опыта абсолютного зла созвучен размышлениям Теодора Адорно, который в 1960-е посвятил ему главу «После Освенцима» (Nach Auschwitz) «Негативной диалектики», приходя к выводу о том, что «после Освенцима любое слово, в котором слышатся возвышенные ноты, лишается права на существование» [Адорно: 328]. К подобным по резкости формулировкам Шаламов вернется в 1960-е годы. Однако размышление о методе – важный вопрос для писателя, приступающего к «колымской» теме: в его замысле сто рассказов, художественно представляющих «правду жизни».
И если в стихах Шаламов неизменно следовал традиции классической русской поэзии, то классическая проза не давала ему почвы для реализации этого замысла. Валерий Подорога считает, что, с точки зрения Шаламова:
…дело литературы не в усилении возможностей реалистического описания ГУЛАГа (оставим это бесстрашию историков), а в том, что для него вообще нет языка. Только через отказ от самой себя и только обратившись к поиску особого языка, который смог бы что-то сказать о том, о чем нельзя, невозможно говорить.
Хотя, как мы сегодня знаем, В. Ш. прекрасно понимал, что должно произойти с литературой после «позора ГУЛАГа» и «печей Освенцима», он все же надеялся, что сможет передать этот опыт нечеловеческого, исходя из тех возможностей, которыми располагает в качестве свидетеля/жертвы сталинских преступлений. Поэтому для него личное свидетельствование значило много больше, чем литература [Подорога: 85].
Возвращаясь к докладу Суркова, отметим высказывание о задачах литературы, которые состояли в том, чтобы развивать выбранный курс на соцреализм:
Помогать формированию характера строителя коммунизма показом людей нашего времени во всем великолепии их человеческого достоинства и целеустремленной, бескомпромиссной критикой пережитков капитализма в сознании и психике людей, критикой всех недостатков и неустройств жизни [Съезд писателей: 35].
В содокладе Константина Симонова «О советской художественной прозе» отражены характерные черты развития современной литературы:
1. Активность молодых сил, приход в литературу множества новых имен.
2. Небывало широкий выход на всесоюзную арену в переводах на русский язык прозаических книг, созданных в литературах братских союзных республик.
3. Размах работы прозаиков в краях, областях и республиках [Там же: 84].
Также Симонов выявлял основные темы послевоенной литературы, разделяя их на четыре категории:
1. Современность в самом широком смысле слова, произведения, изображающие события последних лет в стране и за рубежом.
2. Война.
3. Историко-революционные темы, отражающие картину общественной жизни в период Октябрьской революции.
4. Исторические темы – Петровская Русь, землепроходцы, открыватели новых земель [Съезд писателей: 85].
Естественно, темы репрессий, исправительных лагерей в докладе Симонова не было. Существенная часть доклада посвящена социалистическому реализму как основному методу советской литературы. Именно поэтому происходящее на съезде писателей вызывало у Шаламова одновременно иронию и раздражение: «так называемые писатели» не обсуждают действительно важных для культуры и литературы тем. В том же письме Добровольскому Шаламов сообщал:
Можно было, конечно, приложить усилия и удостоиться лицезрения так называемых писателей, но уже подготовительная работа к съезду (о которой Вы, вероятно, составили представление по Литгазете) выяснила, что никаких, собственно, тем-то у съезда и нет. Ибо вопрос о положительном герое – это не тема для съезда писателей.
Грубовато, но довольно здраво прозвучал выпад Шолохова против Симонова – мне особенно приятный, ибо я Симонова в его любой ипостаси считаю бездарным. Доклад о поэзии делал Самед Вургун, боже мой, боже мой [Шаламов 2013: VI, 105].
Несмотря на удаленность от Москвы, от библиотек и невозможность активно участвовать в литературной жизни, Шаламов следил за ней, комментировал происходящее. В письме он говорит о возможности «приложить усилия и удостоиться лицезрения писателей» – то есть присутствовать на съезде. Это свидетельствует о том, что у писателя были контакты в литературной среде. Шаламов в этот период много читал, и это тоже отмечено в записях.
В 1954 году был отстранен от должности главного редактора журнала «Новый мир» А. Т. Твардовский. Шаламов в то время высказывался о Твардовском очень уважительно, считая его одним из главных современных поэтов. Об этом он написал и А. З. Добровольскому 30 марта 1956 года:
Я считаю Твардовского единственным сейчас из официально признанных безусловным и сильным поэтом [Там же: 138].
Отстранение Твардовского из-за публикаций критических статей новомирских авторов с официальной формулировкой «в связи с переходом на творческую работу» – знак того, что перемены пока не так радикальны. В наступающую оттепель Шаламов пока не очень верил, ведь еще, до 1956 года, не произошло главного – публичного признания гибели сотен тысяч людей в лагерях:
Что касается оттепели, то я, промерзший, наверное, до костей насквозь, ее, надо сказать, не чувствую – такой, как мне хотелось бы, а требования у меня скромнейшие из скромных [Там же: 110].
Знаменательным событием этого периода стал выход в 1955 году сборника «Литературная Москва», который открыл череду публикаций не печатавшихся до этого М. Цветаевой, Л. Чуковской. Альманах был официально разрешен Отделом печати ЦК КПСС. Его издание обозначало перемены, декларированные Н. С. Хрущевым, оттепель. Поэтому директор издательства «Художественная литература» поддержал инициативу. История альманаха оказалась короткой, вышло всего два номера. Как отмечают исследователи Юрий Бит-Юнан и Давид Фельдман,
…литературные функционеры реагировали агрессивно: дошло и до политических обвинений, что обусловило ликвидацию издания после выпуска второго номера [Бит-Юнан, Фельдман: 32].
Шаламов обсуждал альманах в нескольких письмах. В письме А. З. Добровольскому[14]14
Без даты, предположительно вторая половина апреля 1956 года.
[Закрыть] в апреле 1956 года Шаламов рассказывал о потрясающем успехе «Литературной Москвы»:
«Лит. Москву» с его <Пастернака. – К. Ф.> заметками о Шекспире Вы уже, наверное, прочли. Этот альманах (ценой в 18 р. 75 к.) идет нарасхват, в Москве 200 руб. идет с рук и только из-за тех 6–7 страниц Б. Л., потому что, несмотря на именитость и поэтов и прозаиков – читать там больше нечего [Шаламов 2013: VI, 141].
Несмотря на критическое отношение, издание, скорее всего, привлекло внимание Шаламова. В письме к О. Ивинской от 24 мая 1956 года он также подробно рецензировал альманах, отмечая заметки о Шекспире Пастернака. Кроме них Шаламов отмечает «грамотный рассказ» Шкловского «Портрет», «плохую пьесу» Розова. Альманах вызывает в нем рефлексию о поэзии, воспоминания о беседах с Пастернаком, которыми он делится с Ивинской.
Осведомленность Шаламова о литературной жизни отмечают в своих донесениях секретные сотрудники, следившие за ним. 11 апреля 1956 года агент сообщает:
Шаламов по первому впечатлению человек общительный. Из разговоров чувствуется, что у него есть в Москве приятели, которые его информируют о явлениях в литературной жизни помимо официальных источников [Шаламов 2013: VII, 470].
Современные авторы, особенно молодые, в этот период не часто заслуживали внимание Шаламова. Лишь в одном из писем он упоминает писателя С. П. Антонова (видимо, тоже реагируя на реплику А. З. Добровольского), называя его способным, учившимся у Чехова автором, лучшим из молодых.
Важнейшее событие, послужившее началом либерализации и периода, который назовут оттепелью, – XX съезд Коммунистической партии, который состоялся 14–25 февраля 1956 года. Наконец о репрессиях заявлено открыто, а для Шаламова это означает и надежду на легитимизацию пережитого опыта, его рассказов и стихов, свободную публикацию и полную реабилитацию. Одно из писем Добровольскому полностью посвящено этому событию:
Ваше письмо получено мною в момент, когда тройка вновь делает скачок, сотрясающий всех пассажиров, и один вместительный чемодан вылетает, разламывается, и содержимое высыпается в грязь.
До Вас уже, конечно, дошло письмо ЦК о том, что из себя представлял Сталин как партийный вождь, как теоретик и как военный гений. Письмо, зачитанное на закрытом заключительном заседании съезда в присутствии представителей иностранных компартий. Письмо это начали читать в Москве месяц назад, но до сих пор только о нем и говорят в автобусах, в трамваях, в квартирах. Письмо читают на закрытых партийных собраниях, и чтение его занимает три с половиной часа.
Однако в письме есть одно странное, бросающееся всем в глаза обстоятельство. Признав и отметив умерщвление сотен тысяч людей, развенчав его как партийного вождя, как генералиссимуса (в письме буквальное выражение: вот каков был этот гений), письмо ЦК не назвало его логически врагом народа, отнеся все его чудовищные преступления за счет увлечения культом личности [Шаламов 2013: VI, 133].
Эмоциональный тон письма Шаламова можно объяснить несколькими причинами. Первый – официально объявлено, что «Завещание Ленина», за распространение которого он получил первый срок[15]15
А также букву «Т» в деле 1937 года («контрреволюционная троцкистская деятельность»), что утяжеляло его судьбу. Шаламов был реабилитирован только в 2000 году.
[Закрыть], – действительный партийный документ, а не фальшивка, за которую можно было получить серьезное наказание. Второй – недостаточно верная, по мнению Шаламова, оценка роли Сталина в том, что произошло. Объясняя это для себя необходимостью постепенного решения вопроса, Шаламов все же сказал о том, что никогда не думал, что доживет до того дня, когда «этого господина назовут его настоящим именем».
Оттепель привнесла в искусство новые темы и новую проблематику. Одной из ключевых, по мнению Марии Майофис, стала критика бюрократических методов руководства, бездушия чиновников по отношению к гражданам, чиновничьего хамства, круговой поруки и формализма при решении проблем обычных людей:
Бичевать эти пороки было принято и прежде, но они неизменно должны были описываться как «отдельные недостатки». Теперь искоренение бюрократизма должно было представать как часть демонтажа сталинской системы управления, прямо на глазах читателя или зрителя уходящей в прошлое. Два самых известных произведения 1956 года, сфокусированных именно на таком типе критики, – роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» (об изобретателе, который в одиночку противостоит сговору директора завода и министерских чиновников) и фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» [Майофис].
Шаламов тоже не раз упоминал книгу Дудинцева на протяжении многих лет. В 1971 году она даже появилась в его фантастической пьесе «Вечерние беседы».
Роман вышел в 1956 году в журнале «Новый мир» и стал одним из символов хрущевской оттепели. В книге «The Readers of Novyi Mir: Coming to Terms with the Stalinist Past» Денис Козлов называет публикацию романа Дудинцева величайшим достижением Константина Симонова на посту редактора «Нового мира» и отмечает:
«Не хлебом единым» стал знаменем оттепели. В своих отзывах читатели описывали проблемы, поднятые Дудинцевым, – технологический застой, бюрократическую инертность, коррупцию и неэффективность существующей системы. Эти дискуссии дали людям возможность пожаловаться на многие социальные явления, простирающиеся за пределами книги, манифестируя новый энтузиазм политического самовыражения и обмена мнениями, вдохновленные XX съездом партии [Kozlov: 89].
Книга действительно вызвала огромный читательский и общественный резонанс. Константин Паустовский на обсуждении романа на Президиуме Союза писателей называет явления, описанные в нем, последствиями культа личности. Роман «Не хлебом единым» упоминается даже в донесении осведомителя о Шаламове от 26 июля 1957 года. Агент сообщал:
Шаламов считает также, что из-за того, что вся литературная общественность с силой набросилась на книгу Дудинцева и просто-таки раздавила ее (а книга эта, по мнению Шаламова очень слаба и неинтересна, как с художественной, так и с идейной стороны), тем самым преградив возможность выхода и написания новых книг, по сути своей отражающих свободные ленинские принципы и более сильных, с точки зрения художественной, чем «Не хлебом единым» [Шаламов 2013: VII, 481].
Фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», упомянутый Марией Майофис, также стал объектом рефлексии Шаламова, хотя и противоречащей обличительному замыслу авторов ленты. По свидетельству Сергея Неклюдова, фильм произвел на него неожиданное впечатление:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?