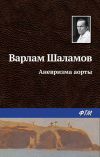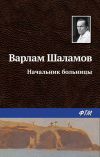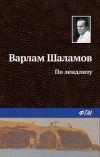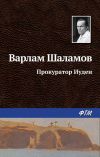Текст книги "Эволюция эстетических взглядов Варлама Шаламова и русский литературный процесс 1950 – 1970-х годов"
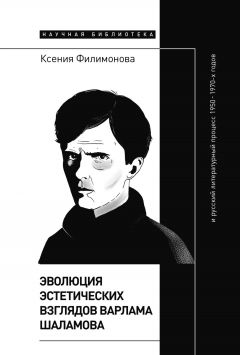
Автор книги: Ксения Филимонова
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Дискуссия о романе «Доктор Живаго»
Шаламов был одним из первых читателей рукописи романа «Доктор Живаго», что говорит не только о доверительном отношении Пастернака, но и о ценности мнения Шаламова для него. Получив и прочитав черновую рукопись незаконченного романа, Шаламов написал Пастернаку письмо с подробнейшим изложением своих впечатлений и предварительных соображений, отмечая и недостатки текста. Он также рассказал Пастернаку о том, что еще на Колыме в случайно возникавших литературных спорах он предсказывал появление и судьбу «Доктора Живаго»:
Я, соглашаясь с характеристикой выходящих романов, выражал тогда надежду, что русская литература не прервется, что кто-нибудь настоящий и большой напишет такой роман, который, может быть и будет разодран изголодавшейся на казенных романах критикой в куски, но все разорванные части, как в русской сказке, срастутся и роман будет снова жить [Шаламов 2013: VI, 35].
Позднее в заметках «О прозе» Шаламов написал о том, что «Доктор Живаго» – последний русский роман (напомним, что до этого он называл таковым «Петербург» А. Белого). «Доктор Живаго», по его мнению, – это крушение классического романа, крушение писательских заповедей Толстого, хотя и написан по писательским рецептам Толстого. По мнению Шаламова, это роман-монолог, без «характеров» и прочих атрибутов романа XIX века:
В «Докторе Живаго» нравственная философия Толстого одерживает победу и терпит поражение художественный метод Толстого [Шаламов 2013: V, 144].
Шаламов подробно, страницу за страницей проанализировал роман, комментируя в первую очередь его достоверность. Это наиболее важная для писателя характеристика литературного произведения, что позже стало одной из центральных тем его теоретических размышлений. Единственное существенное возражение Шаламова вызывал народный язык в романе.
Шаламов упрекал Пастернака в лубочности, неестественности народного языка. Тут тоже сказывается разница происхождения и опыта двух писателей: Пастернак записывает свои представления о народном языке, в то время как Шаламов опирался на свой опыт соприкосновения с этим явлением в лагере:
Теперь о том, что мучает меня, что так дисгармонично книге <…> явлении грубом, резко кричащем, выпадающем из всего музыкального ключа романа. Я говорю о языке простого народа в Вашем романе. Именно о языке, а не психологической оправданности поступков этих людей. Ваш язык народа – все равно, рабочий ли это, крестьянин ли или городская прислуга, Ваш народный язык – это лубок, не больше. Кроме того, у Вас он одинаков для всех этих групп, чего не может быть даже сейчас, а тем более раньше, при большей разобщенности этих групп населения.
Я знаю этот язык и знаю слишком. Словарь там беден, бедность словаря компенсируется преимущественно интонационно за счет пересыпания речи матерной бранью, ну, а без нее язык не включает в себя никаких «блезиров». В крестьянском быту больше поговорок, обыкновенных широко известных, больше отцовских примеров. Язык городской прислуги боек и в общем чист, рабочие тоже говорят обыкновенным языком и даже не любят словесных узоров, всяких художественных расцветок» [Там же: VI, 45].
Тем не менее «Доктор Живаго» для Шаламова – весомая проза, требующая внимания и читательских усилий. Он также обратил внимание на то, что в отличие от множества произведений мировой литературы, где нет думающих героев, к мыслям Веденяпина, Лары, Живаго можно возвращаться много раз.
22 декабря 1955 года Пастернак отправил Шаламову рукопись второй части романа с просьбой не утруждать себя подробным отзывом, достаточно будет двух-трех слов, чтобы все понять, пишет он. Однако отзыв Шаламова был очень подробным и уже менее восторженным, замечаний в нем намного больше, поскольку в рукописи возникает тема лагеря, в которой Пастернак, не имевший подобного опыта, по мнению Шаламова, не слишком уверен.
Отмечая новизну развития главного героя, Шаламов указывал на яркость сцен, необычность поворотов, полное отсутствие фальши в судьбах главных героев. Он был разочарован финалом судьбы Юрия Живаго (хотя и написал: «Мне, правда, по первой части иначе рисовалось развитие романа, но и так хорошо»), более того, представил свою версию судьбы Живаго:
Мне думалось, что вот интеллигент, брошенный в водоворот жизни революционной России с ее азиатскими акцентами, водоворот, который, как показывает время, страшен не тем, что это – затопляющее половодье, а тем растлевающим злом, которое он оставляет за собой на десятилетия. Доктор Живаго будет медленно и естественно раздавлен, умерщвлен, где-то на каторге. Как добивается, убивается XIX век в лагерях XX века. Похороны где-нибудь в каменной яме – нагой и костлявый мертвец с фанерной биркой (все ящики от посылок шли на эти бирки), привязанной к левой щиколотке на случай эксгумации [Шаламов 2013: VI, 64].
Вторая часть романа вызвала у Шаламова желание спорить. Это спор одновременно литературный и мировоззренческий. Первый предмет спора – отношение к физическому труду. Шаламов был категорически против его поэтизации, он считал физический труд проклятием человечества. Нет ничего привлекательного в усталости от физической работы, она только мешает думать, считал Шаламов. Не принял он и эпизодов, связанных с войной, хотя тут Шаламов и Пастернак находились примерно в одинаковых позициях – Шаламов на войне не был и в своем понимании войны ориентировался на книгу В. Некрасова «В окопах Сталинграда».
Но наиболее существенные замечания касались лагеря. В частности, Пастернак не знал, что лагерь с 1929 года называется исправительно-трудовым, а не концентрационным. Ответа на эти замечания в переписке Пастернак не давал и не вносил изменений в текст. Сравним два фрагмента:
Роман «Доктор Живаго»
Партию вывели из вагона. Снежная пустыня. Вдалеке лес. Охрана, опущенные дула винтовок, собаки-овчарки.
Около того же часа в разное время пригнали другие новые группы. Построили широким многоугольником во все поле, спинами внутрь, чтобы не видали друг друга. Скомандовали на колени и под страхом расстрела не глядеть по сторонам, и началась бесконечная, на долгие часы растянувшаяся, унизительная процедура переклички. И все на коленях. Потом встали, другие партии развели по пунктам, а нашей объявили: «Вот ваш лагерь. Устраивайтесь как знаете». Снежное поле под открытым небом, посередине столб, на столбе надпись «Гулаг 92 Я Н 90» и больше ничего [Пастернак 2004: 502].
Письмо Шаламова
Лагерь (он давно – с 1929 г. называется не концлагерем, а исправительно-трудовым лагерем (ИТЛ), что, конечно, ничего не меняет – это лишнее звено цепи лжи) описан неверно. Никаких столбов там не бывает – ГУЛАГ – это название Гл. управления. Прямоугольник арестантов с лицами наружу – не бывает так. Это незачем – ведь они неизбежно будут работать вместе. Перекличек там действительно много – раз 20 в день. Фамилия, имя, отчество, статья, срок – по такой вот краткой схеме. Первый лагерь был открыт в 1924 г. в Холмогорах, на родине Ломоносова. Там содержались главным образом участники Кронштадтского мятежа (четные №, ибо нечетные были расстреляны на месте, после подавления бунта) [Шаламов 2013: VI, 66].
Шаламов приводит «случайные картинки» настоящего лагеря – те, которые станут основой художественной системы «Колымских рассказов», заключая, что суть лагеря:
…в растлении ума и сердца, когда огромному большинству выясняется день ото дня все четче, что можно, оказывается жить без мяса, без сахару, без одежды, без обуви, а также без чести, без совести, без любви, без долга. Все обнажается, и это последнее обнажение страшно [Шаламов 2013: VI, 68].
В итоге каждый остается при своем: Пастернак роман не редактирует, Шаламов продолжает выступать за достоверность.
В 1956 году переписка обрывается из-за разрыва отношений между В. Шаламовым и О. Ивинской. Пастернак навсегда остался для Шаламова нравственным и художественным ориентиром. Даже несмотря на категорическое несогласие с отказом Пастернака от Нобелевской премии и некоторые критические высказывания в поздних записях 1970-х годов, Шаламов не изменил отношения к нему, всю жизнь собирая в заметках и очерках свои разговоры с ним, мысли о поэзии Пастернака, его влиянии на русскую литературу и на него самого.
В 1975 году Шаламов планировал обратиться в редакцию «Нового мира» с предложением издать свою переписку с Пастернаком. Это письмо как итог его отношений с поэтом вполне в духе позднего Шаламова с его болезненной резкостью интересно как поступок. Тон его разговора о Пастернаке радикально переменился, но это можно объяснить состоянием здоровья Шаламова и его обострившимся конфликтом с миром. Здесь и все болезненные «узлы» – отношения с «Новым миром», который никогда не печатал Шаламова, разрыв с Пастернаком, который был для него «живым Буддой», ненавись к Западу, который лишал Шаламова шансов на публикации в СССР.
РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 3. Ед. хр. 369. Л. 110–111
Гл. редактору журнала «Новый мир»
С. С. Наровчатову
Писателя ШАЛАМОВА В. Т.
Чл. билет № 8787 п/инд 123056
Прож. Москва Д-56 Васильевская, 2 корп. 6 кв. 59
Тел. 254-19-25
Я предлагаю опубликовать в журнале «Новый мир» мою переписку с поэтом Б. Л. ПАСТЕРНАКОМ, относящуюся ко времени 1954–1956 гг.
У меня есть семь писем Б. Л. Пастернака ко мне, фотокопии которых прилагаю.
Переписка касается вопросов, которые в публикациях литературного наследства Пастернака не затрагивались и осветят, конечно, фигуру поэта с какой-то новой стороны.
Письма эти редакция «Нового мира» может использовать трояко:
1. Опубликовать все семь писем без всяких комментариев или с очень кратким справочным материалом;
2. Опубликовать всю переписку, т. е. письма и мои ответы. Дополнительные материалы справочного характера (мы встречались за эти годы несколько раз)
3. Мои мемуары о Пастернаке, куда письма эти войдут как часть работы.
В чем суть этой работы?
Я считаю Пастернака жертвой «холодной войны», запутанным всякой иностранной сволочью. Единственная его оплошность: то, что он не пошел на вполне логический шаг: публичной физической демонстрации своего отношения ко всем этим проблемам.
Пастернак разрубил бы этот узел, дав публичную плюху любому западному корреспонденту.
Письменная просьба его остановить печатание романа в Италии была бы принципиальным поступком.
Б. Л. Пастернак смотрел на все эти вещи самым определенным образом. Лично мне он говорил так: «У нас много сволочей. За границей их в сто раз больше».
Отказ от Нобелевской премии не был каким-то капризным, случайным жестом.
Наконец своим сыновьям перед смертью он посоветовал не связываться с заграницей. То, что наследники приняли эту премию – это нарушение авторской воли и должно быть осуждено.
Моя скромная работа вовсе не будет касаться переводов. Пастернак переводил много авторов самых разных – от Шекспира до Альбирта. Переводы Пастернака настолько носят в себе стиль автора, что для школьных хрестоматий использовать эти переводы нельзя. Ни «Фауст», ни «Гамлет» не годятся в переводах для школы.
Лично я считаю, что менять «Быть или не быть» на что-то шаткое и случайное не стоит. Всякие стихи на другой язык следует переводить прозой.
Это относится и к театру, где наслаивается еще одна условность и обязательности в тексте у спектакля нет.
Я не болельщик, не пастернакист. Считаю, что в «опрощении» Пастернак потерял более всего в стихах, ибо «Сестра моя – жизнь» или «Темы и вариации» – открытие нового мира в русской поэзии, тогда как сборник «Когда разгуляется» – не стихи.
В прозе Пастернак потреял меньше, чем в стихах, ибо в прозе останется отличная «Охранная грамота», да и «Доктор Живаго» – хорошая проза, так же как и вторая «Автобиография».
Не нужна и недостойна перемена мнения о Маяковском.
Мое знакомство с Пастернаком прекратилось при таких определенных обстоятельствах, что я не могу подумать, что обо мне останется след в его архиве. К тому же он «не собирал архива» и «не хранил бумаг».
Но копии, черновики моих писем к нему у меня есть и картина переписки может быть легко восстановлена.
Кроме этих трех есть и четвертый, а именно:
4. Все мои записи, заметки, касающиеся Б. Л. Пастернака и и предмета поэзии плюс семь писем Б. Л.
Все это доставить в «Новый мир» легко при условии заказа журнала на предлагаемую мной работу.
… марта 1975 года С УВАЖЕНИЕМ (В. Шаламов)
Литература «после позора Колымы»: рождение концепции
Размышления В. Шаламова о литературе, особенно о прозе, в 1950-е годы зафиксированы довольно фрагментарно, так же как информация о его чтении. Выше уже упоминалось письмо Пастернаку, в котором Шаламов рассказывает о попытке наладить чтение и «прочесть хоть что-то из недочитанного за 17 лет». Можно сказать, что эстетическое самоопределение Шаламова еще не произошло – он начинает писать «Колымские рассказы» и в процессе работы над ними формулирует свою теорию новой прозы. По мнению Елены Михайлик, такая тематика идет вразрез с литературным процессом того периода, что вполне можно объяснить особенностью судьбы писателя, спецификой его быта[23]23
В первую очередь тем, что на «101-м километре» Шаламов от этого процесса значительно удален, несмотря на огромные усилия, предпринимаемые им для того, чтобы налаживать связи.
[Закрыть]:
1954 год. Времена литературных манифестов и теоретического самоопределения давно прошли или еще не наступили. Шаламов, как обычно, шел вне расписания. То, что лихорадочно писалось на калининских торфоразработках, он называл новой прозой. Иногда – прозой будущего. По обстоятельствам пятидесятых оба термина покушались на основы, ибо после провозглашения соцреализма никаких ниш для нового искусства официальная система не предусматривала.
Оба термина восходили к языку двадцатых – и уже в силу этого опять-таки были вызовом вневременному соцреалистическому «неоклассицизму» и идеям, его породившим. Вызов этот, как мы полагаем, был вполне осознанным. Шаламов возражал насаждаемой вечности с точки зрения конкретного времени, «реализму» советской религии – с точки зрения «номинализма», идеалу – с точки зрения материала, идеологии – с точки зрения литературной традиции. Не возведенной в абсолют, а живой, продолжающейся [Михайлик: 97].
Пока словосочетание «новая проза» или «проза будущего» в высказываниях Шаламова не появляется, писатель только подступает к этой формулировке, которая возникнет в его записях в 1960-е годы. Тем не менее определенную работу по систематизации суждений о литературе он ведет.
В тетради за 1954 год находятся фрагменты, посвященные творческому методу, в частности значению детали в литературе. Позднее и в текстах о новой прозе, и в рецензиях на рукописи самодеятельных авторов Шаламов так же обозначал важность детали для рассказа. В 1956 году он пишет о детали:
Деталь – это то, что связывает нас с нашим общим суждением о мире, это замена этого суждения [Шаламов 1954: 2].
В тетрадях Шаламова за 1955–1956 годы есть несколько обрывочных записей, посвященных литературе, часто между черновиками стихов и писем. Так, в тетради 1955 года находится запись о функции литературы: «Литература воспринимает идеи у общества и возвращает ему улучшенными или доведенным до абсурда» [Шаламов 1955: 65]. На следующей странице он оценивает себя с точки зрения пригодности к ремеслу, перечисляя пять чувств, которыми должен обладать поэт:
Пять чувств поэта:
Зрение – полуслепой.
Слух – оглохший от прикладов.
Осязание – отморожены руки нечув.
Обоняние – простужен.
Где тут говорить о тонкости. Но есть шестое чувство творческой догадки [Там же: 66].
В РГАЛИ находятся отнесенные к этому периоду документы, отображающие работу В. Шаламова над сборником теоретических текстов о поэзии; включены также планы сборников статей «О стихах» и «Поэт и современники» [Шаламов 1959а: 1–11]. Второй документ является некоторой систематизацией наблюдений Шаламова, его круга чтения и литературного опыта.
Первый сборник (тетрадь не датирована) – «Поэт и современники» – состоит, по замыслу Шаламова, из следующих разделов:
1. Гейне и его история.
2. Салтыков-Щедрин и последний год его жизни.
3. Некрасов и Белинский (письма Тургеневу). Герцен, Алексей Толстой.
4. Дневник Блока 1921 года медведевского издания.
5. Пастернак «Доктор Живаго» (правда и неправда).
6. Вторжение писателей в <нрзб. 1 слово> (премьера).
7. Томас Гарди и почему он стал поэтом.
8. Толстой и его жизнь напоказ. Его три дневника.
9. Кафка и его удивительная судьба.
10. Маяковский, его двойственное положение в литературе и жизни в 1930 году.
11. Ксения Некрасова и ее скромная и страшная история.
12. Пастернак о Луговском. Пастернак на похоронах.
13. Иван Бунин и что такое эмиграция.
14. Шопен.
15. Ибсен – двадцать шесть лет эмиграции.
16. Ремарк и его лучшие романы, написанные в эмиграции.
17. Лафарг и его смерть [Шаламов 1959а: 1–11].
Для чего предпринималась эта работа – установить невозможно; ни в черновиках, связанных с «Москвой», ни в переписке он об этом не упоминает. Можно лишь отметить, что «проект» сборника состоит из рефлексий о XIX веке и самых новых событиях: включены роман «Доктор Живаго», стихи Ксении Некрасовой (в 1955 году вышел сборник, а в 1958 году она умерла). Интересно включение раздела о Кафке. Если доверять датировке тетради, то на момент фиксации этого замысла переводы новелл Кафки еще не были опубликованы в СССР. Но в журнале «Иностранная литература» (№ 9) была напечатана статья Д. Затонского «Смерть и рождение Франца Кафки», а в 1960 году вышла книга Л. Копелева «Сердце всегда слева. Статьи и заметки о современной зарубежной литературе» (М.: Советский писатель, 1960) со статьей «У пропасти одиночества. Ф. Кафка и особенности современного субъективизма». В нескольких статьях – о Ремарке, Бунине, Ибсене – возникает тема эмиграции.
Другие наблюдения можно найти в письмах. На тот момент, кроме переписки с Б. Л. Пастернаком, Шаламов активно общался с А. З. Добровольским, который пока еще находился на Колыме. В одном из писем[24]24
Письмо без даты, вероятно 1955–1956 года.
[Закрыть] Шаламов высказывал свои мысли о Ю. Нагибине, который активно публикуется в этот период. В связи с его творчеством делился некоторыми соображениями, ставшими потом для него ключевыми, такими как лаконизм изложения, новизна словаря и видения мира, «мелкотемье»:
Вот Вам краткие сведения о Нагибине, которым Вы интересовались. Мне он не кажется писателем, заслуживающим внимания даже на сереньком фоне художественной прозы нашей. Рассказы его доказывают, что
1) Лаконизм изложения (которому он должен бы научиться, изучая язык кино) отсутствует. В рассказах много лишнего, затемняющего человека, уводящего от главного.
2) Само по себе главное, не продуманное до четкости, и теряется в виденном, которое Нагибин считает виденным им впервые, а потому заслуживающим внимания.
3) Вопросы, которые волнуют Нагибина, мелки и не чувствуется, что для себя он занимается и вопросами побольше. (Что, например, хорошо видно в обеих вещах В. Некрасова, какой бы робкой рукой ни были они тронуты.)
4) Ни словарь, ни видение мира не имеют свежести и новизны. Об убедительности и говорить нечего.
5) Учитель его – тот же – Чехов (что и у Антонова). Поразительно, как мало на писателях молодых сказалось гоголевское перо, за исключением одного Михаила Булгакова, никто не взял на себя смелость закрепить гоголевское открытие (в строении фразы, в показе героя, в развертывании картины, в характере) [Шаламов 2013: VI, 122].
В письме О. Ивинской (без даты, 1956 год) В. Шаламов продолжил размышлять об альманахе «Литературная Москва», подвергая критике рассказ В. Шкловского. Интересно появление слова «безвыходный» в характеристике собственных рассказов Шаламова. Такие формулировки появятся в ответах рецензентов «Советского писателя» спустя несколько лет. Означает ли это, что Шаламов посылал свои рассказы куда-то еще, или это частное мнение тех, кто читал его прозу, из архива, переписки и воспоминаний установить нельзя:
«Портрет» Шкловского – обыкновенный грамотный рассказ. Впрочем, по мнению нынешней критики, рассказ, повесть, драма должны прежде всего иметь познавательное значение, а подтексты – это дело десятое. Если уж это верно, то лучше моих плохих «безвыходных» рассказов им не найти – достоверность и бытовая, и психологическая имеется в избытке [Там же: 213].
Можно предположить, что это формулировка самой О. Ивинской, которой Шаламов сообщил о своем замысле в позднейшем письме от 24 мая 1956 года:
Я хочу написать свои сто рассказов о Севере. Я хочу подобрать книгу стихов – не сборник и собрание, а книгу, и еще многое думается, но – что Бог даст. Твоя формула: рассказы не хорошие и не плохие, они просто странные, не устраивает. Горько и грозно то, что мне уже некогда учиться азам. Я двадцать лет жизни потратил на северные скитания. Багаж мой мал, случаен, я – недоучка, навечно, невежда. Значительность чисто случайна, о литературных достоинствах мне и думать нельзя. Но мне есть что сказать, и мне кажется, что на мир я гляжу своими глазами [Там же: 219].
Последняя фраза приведенной цитаты исключительно важна, как представляется, для общей характеристики замысла и видения Шаламова: он возражал той ситуации, которая сложилась в литературе. Точнее, у него было несколько возражений: современным взглядам на литературу с позиции писателя 1920-х годов, оптимизму социалистического реализма с позиции человека, вернувшегося из ада Колымы. Уже в 1950-е, несмотря на высокую оценку «Доктора Живаго», Шаламов задумался о невозможности существования формы романа (позже, в конце 1960-х – начале 1970-х, он ее резко отрицал, и это стало одним из пунктов спора с А. Солженицыным). Об этом он написал и А. З. Добровольскому 12 марта 1955 года:
Я не знаю, что такое работа над романом. Это вроде какого-нибудь первовосхождения в Гималаях. Я как-то представить себе не могу архитектуры подобного сооружения [Шаламов 2013: VI, 109].
Там же появилось первое размышление о том, какими должны быть рассказы, – это первая сформулированная попытка описать принцип «Колымских рассказов», которая фиксируется в архиве Шаламова. Здесь и отрицание «лубочности» пастернаковского языка – Шаламов назвал это, цитируя Пушкина, языком «московских просвирен», и требование новизны, которой нет у Нагибина, и экономная фраза, которую он позже описал как «строка, короткая как пощечина»:
Но о рассказах я думал много, о своих и о чужих, и тот строй рассказа, еще не написанного, не осуществленного, который рисуется мне в идеале, выглядит так. Никаких неожиданных концов, никаких фейерверков. Экономная, сжатая фраза без метафор, простое грамотное короткое изложение действия без всяких потуг на «язык московских просвирен» и т. д. И одна-две детали, вкрапленные в рассказ, – детали, данные крупным планом. Детали новые, не показанные еще никем. Вот самое короткое изложение формальных задач при рассказе, если только они вообще существуют для писателя [Там же: 109].
В черновике письма к Марии Гудзь[25]25
Сестра жены В. Шаламова Галины Гудзь. Это письмо не опубликовано в официальных изданиях Шаламова. В Приложении мы приводим его целиком.
[Закрыть] от 1955 года Шаламов, ссылаясь на ее интерес, размышлял о природе социалистического реализма. Так же, как впоследствии и Твардовский, Шаламов был убежден в искусственности этого явления. Но, в отличие от Твардовского, который считал, что «соцреализм» должен лишиться приставки «социалистический», Шаламов полагал, что соцреализм вообще ближе к газетной статье, чем к большой, настоящей прозе:
Лично мне претит это настойчивое желание высосать из пальца что-либо новое и объявить это нашим самым передовым и лучшим. Дескать, реалисты прошлого – это и критические реалисты, а реалисты настоящего – это социалистические реалисты.
Если отбросить все притянутое за уши, случайное и наносное, докопаться до сути, наиболее точным будет следующая формулировка: социалистический реализм есть иллюстрация с помощью методов художественного творчества передовых статей газет. (См. Приложение, с. 218–219.)
Еще одно высказывание о теории будущей новой прозы мы находим в донесении осведомителя № 2 от 11 апреля 1956 года. В нем также содержатся зачатки шаламовской теории и еще один пункт будущего расхождения с позицией А. Солженицына: художественное произведение не должно поучать, не может быть никакого морализаторства, художественное воздействие достигается изложением максимально достоверного факта, который, в случае Шаламова, так убедителен сам по себе, что никакого вывода не требует. Тот, кто в художественной литературе отражает реальную действительность с ее тенденцией поступательного движения к коммунизму, отражает правду жизни; тот, кто следует только теории «откровенности», – может отразить откровенно «правду» лишь своей души. Шаламов считает несущественным, куда зовет произведение, на что оно мобилизует читателя. Главное, по его суждениям, состоит в том, чтобы оно было написано кровью сердца, то есть откровенно [Шаламов 2013: VII, 470].
Эти размышления созвучны идеям статьи В. Померанцева «Об искренности в литературе» (1953). Померанцев выступает против «состроенности», то есть неестественности произведения:
Искренности – вот чего, на мой взгляд, не хватает иным книгам и пьесам. И невольно задумываешься, как же быть искренним. Неискренность – это не обязательно ложь. Неискренна и деланность вещи. Когда мы читаем, например, стилизаторов, то остается неприятный осадок.
Слишком много видим мы выисканных, подобранных, вычурных мыслей и слов, слишком напряженно следим за манерой письма, и поэтому его содержание остается за порогом сознания. Это вещи непростые, искусственно сложные, и они угнетают читателя сегодняшних дней своей явной состроенностью [Померанцев: 218].
Шаламов последовательно развивал схожие идеи в своих теоретических работах о прозе.
1950-е годы были для Шаламова временем освобождения, реабилитации по двум делам (1937 и 1943 гг.) и больших надежд. В ситуации неопределенности после смерти Сталина еще не до конца было ясно, каким будет продолжение начинающейся оттепели, Шаламов очень активно и, можно сказать, успешно входил в новую жизнь. С одной стороны, в силу тяжелого жизненного опыта его отношение к оттепели было довольно сдержанным, с другой – в этот период он спешил записать все, что накопилось за долгие годы заключения, – «Колымские рассказы» и множество стихов. Оттепель с ее дискуссиями, невероятной популярностью поэзии, расцветом литературных журналов более всего напоминала Шаламову 1920-е годы, которые во всех воспоминаниях остались для него главным периодом жизни, формирования взглядов и его самого как писателя. Именно поэтому он добивался публикации материалов о А. К. Воронском и «Красной нови» в журнале «Москва», считая, что далеко не вся правда о 1920-х была сказана. Переписка и встречи с Пастернаком, кумиром и моральным авторитетом, стали для Шаламова подтверждением верности выбранного пути – Пастернак разговаривал с ним на равных, без снисхождения, как с поэтом. И наконец, в эти годы Шаламов предпринимал первые попытки сформулировать свою эстетическую позицию, категорически не совпадающую с текущей литературной повесткой и впоследствии выросшую в теорию новой прозы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?