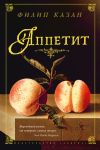Текст книги "Али и Нино"

Автор книги: Курбан Саид
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава девятая
Город вяло и лениво раскинулся в жарких лучах августовского закавказского солнца. Его древний, морщинистый лик нисколько не менялся. Многие русские исчезли. Они пошли воевать за царя и Отечество. Полиция обыскивали дома в поисках немцев и австрийцев. Нефть выросла в цене, и люди, не важно, жили они в старом городе или за его крепостными стенами, весьма и весьма обрадовались. Одни лишь профессиональные завсегдатаи чайных читали сводки с фронта. Война шла где-то далеко, на другой планете. Названия завоеванных или оставленных городов казались чужими и далекими. С первых страниц журналов дружелюбно и победоносно взирали портреты генералов. Я не поехал в Москву поступать в институт. Во время войны я не хотел расставаться со своей родиной. Учеба от меня не убежит. Многие стали презирать меня за то, что я еще не пошел воевать. Однако, глядя с крыши нашего дома на пеструю суету, царящую в старом городе, я осознавал, что никакой призыв царя никогда не оторвет меня от родной земли, от родной крепостной стены. Отец спросил меня удивленно и встревоженно:
– Неужели ты и вправду не хочешь идти на войну? Ты, Али-хан Ширваншир?
– Нет, отец, не хочу.
– Большинство наших предков погибли на поле брани. В нашей семье это естественная смерть.
– Знаю, отец. Я тоже паду на поле брани, но не сейчас и не так далеко.
– Лучше умереть с честью, чем жить в бесчестии.
– Я не живу в бесчестии. Ничто не обязывает меня идти на эту войну.
Отец недоверчиво посмотрел на меня. Неужели его сын – трус?
В сотый раз поведал он мне историю нашего рода: еще во времена Надир-шаха пятеро Ширванширов сражались за империю Серебряного Льва. Четверо из них погибли в индийской кампании. Лишь один вернулся из Дели с богатой добычей. Он покупал имения, возводил дворцы и пережил мрачного правителя. Потом, когда Шахрох-шах пошел войной на Хусейн-хана, этот мой предок стал под знамена неукротимого Ага-Мухаммеда, князя из династии Каджаров. Вместе со своими восьмью сыновьями он бок о бок с Ага-Мухаммедом сражался в Зенджане, Хорасане и Грузии. Только трое из них выжили в этих войнах, сохранив верность великому скопцу и далее, когда тот занял шахский престол. Их шатры стояли в лагере Ага-Мухаммеда в ту ночь, когда он был убит в Шуше. Кровью девятерых своих сыновей и братьев заплатили Ширванширы за поместья в Ширване, Мазендеране, Гиляне и Азербайджане, которыми наделил их кроткий и незлобивый наследник Ага-Мухаммеда Фетх Али-шах. Трое братьев властвовали над Ширваном как наследственные вассалы шахиншаха. Потом пришли русские. Ибрагим-хан Ширваншир защищал Баку, и его геройская смерть при Гяндже заново покрыла славой его род. Лишь после заключения Туркманчайского мирного договора Ширванширы поделили свои имения, присягнули на верность разным монархам и стали воевать на стороне разных правителей. Персидские Ширванширы сражались и умирали за Мохаммед-шаха Каджара и Насер ад-Дин-шаха в походах против туркмен и афганцев, русские Ширванширы – за царя во время Крымской, Русско-турецкой и Русско-японской войн. В награду они получали поместья и ордена, а их сыновья оканчивали гимназию, даже не умея отличить герундий от герундива.
– В стране снова война, – заключил мой отец, – однако ты, Али-хан Ширваншир, сидишь на ковре трусости, скрываясь за нестрогим, снисходительным царским законом. К чему слова, если история нашего рода не вошла в твою плоть и кровь? Тебе надлежало бы не прочесть историю своих предков и их подвигов на мертвых, пожелтевших, запыленных страницах книг, а ощутить ее в собственном сердце, в собственной горячей крови, текущей по жилам.
Мой отец сокрушенно замолчал. Он презирал меня, ибо не понимал. Неужели его сын – трус? В стране война, а его сын не бросается в бой, не жаждет пролить кровь врагов, не чает узреть слезы у них на глазах. Нет, воистину он отмечен печатью вырождения!
Сидя на ковре, облокотившись на мягкие подушки, я шутливо сказал:
– Ты обещал исполнить три моих желания. Во-первых, я захотел провести лето в Карабахе. Сейчас я назову второе желание: я возьмусь за меч, когда сам захочу. Думаю, обнажить меч никогда не поздно. Мир нарушен надолго. Нашей стране мой меч еще пригодится.
– Хорошо, – согласился отец.
После этого он замолчал, не упоминал более о войне и только искоса, испытующе долго разглядывал меня. Что ж, может быть, печатью вырождения его сын все-таки не отмечен.
Я поговорил с муллой мечети Тезепир.
Мулла понял меня с полуслова. Он пришел к нам в дом в широких ниспадающих одеяниях, распространяя аромат амбры. Он затворился с моим отцом. Он убеждал его, что, как гласит священный Коран, мусульманин не обязан идти на эту войну. Свое мнение он подтвердил многочисленными изречениями пророка. С тех пор у меня в доме воцарился покой.
Но только в доме. Наших молодых людей объял воинственный пыл, и не каждый оказался достаточно осмотрительным, чтобы противостоять всеобщему безумию. Иногда я навещал друзей. Потом проходил через Шемахинские ворота, сворачивал направо в Ашумский переулок, пересекал улицу Святой Ольги и неторопливо брел к дому старого Зейнал-аги.
Ильяс-бек сидел за столом, склонившись над воинским уставом и какими-то брошюрами. Рядом с ним, нахмурившись, с испуганным выражением лица сидел на корточках Мехмед-Хайдар, самый глупый ученик в гимназии. Война взбудоражила его. В мгновение ока покинул он дом знаний и отныне, подобно Ильяс-беку, лелеял только одно желание: ощутить на плечах золотые офицерские погоны. Оба готовились к экзамену на офицерский чин. Входя в комнату, я обычно слышал отчаянный полушепот Мехмед-Хайдара:
– Задача армии и флота – защита царя и Отечества от внешнего и внутреннего врага.
Я отбирал у бедняги учебник и принимался его экзаменовать:
– Скажи, дорогой Мехмед-Хайдар, кто такой «внешний враг»?
Он морщил лоб, судорожно соображал и выпаливал:
– Немцы и австрийцы!
– А вот и ничего подобного, дорогой! – злорадствовал я и, торжествуя, зачитывал: – «Внешний враг есть любое воинское подразделение, угрожающее с враждебными намерениями перейти наши границы».
Потом я обращался к Ильяс-беку:
– Что понимается под выстрелом?
Ильяс-бек отвечал без запинки, как автомат:
– Под выстрелом понимается выбрасывание пули из дула под воздействием пороховых газов.
Эта игра в вопросы и ответы длилась довольно долго. Удивительно, как трудно было прикончить врага по всем правилам науки и как по-дилетантски еще занимались этим искусством у нас на родине. Потом оба – и Мехмед-Хайдар, и Ильяс-бек – принимались восторженно мечтать о радостях будущего похода. Главную роль в их мечтаниях играли чужеземные женщины, которых они найдут в развалинах завоеванных городов, но никак не изуродуют и не искалечат. Битый час предаваясь безудержным мечтам, они приходили к выводу, что любой солдат носит в ранце маршальский жезл, и снисходительно посматривали на меня.
– Когда мне присвоят офицерский чин, – говорил Мехмед-Хайдар, – ты должен будешь уступать мне дорогу и отдавать честь, ведь я, герой, грудью защищаю твою шкуру, трус и лентяй.
– К тому времени как тебе присвоят офицерский чин, война давным-давно закончится, а немцы возьмут Москву.
Будущих героев такое предсказание нисколько не возмущало. Им было совершенно безразлично, кто победит, – как, впрочем, и мне. Между нами и фронтом простиралась одна шестая часть суши. Столько и немцам не завоевать. Вместо одного христианского монарха нами будет править другой христианский монарх. Вот и все. Нет, для Ильяс-бека война была приключением, а для Мехмед-Хайдара – удачным поводом достойно окончить гимназию и посвятить себя единственно возможному для мужчины ремеслу. Разумеется, из обоих выйдут недурные боевые офицеры. Храбрости нашему народу не занимать. Но зачем? Этот вопрос не задавали себе ни Ильяс-бек, ни Мехмед-Хайдар, и все мои предостережения были ни к чему, ведь в них проснулась кровожадность Востока.
Получив изрядную порцию презрения, я уходил из дома Зейнал-аги. По армянскому кварталу с его сутолокой и суетой я попадал на Приморский бульвар. Волны Каспийского моря, свинцовые и соленые, лизали гранитные молы. В порту стояла канонерка. Я сел на скамейку и принялся разглядывать маленькие местные парусники, которые мужественно боролись с волнами. На таком паруснике я мог легко, без хлопот уплыть в Персию, в Астару – мирное, лежащее в руинах гнездышко, служившее вратами в великую зеленую страну шаха. Там раздавались печальные вздохи классических поэтов, страдающих от неразделенной любви, там еще жили воспоминания о подвигах витязя Рустама и благоухающих розовых садах, окружающих тегеранские дворцы. Прекрасная, погруженная в мечты страна.
Я несколько раз прошелся туда-сюда по бульвару. Я все еще никак не мог привыкнуть навещать Нино у нее в доме. Это противоречило всем правилам хорошего тона. Однако, учитывая, что шла война, старик Кипиани соглашался закрыть глаза на некоторое их нарушение. Наконец я собрался с духом и взбежал по лестнице пятиэтажного дома. На третьем этаже висела латунная табличка с краткой надписью: «Князь Кипиани».
Мне отворила горничная в белом переднике и сделала книксен. Я отдал ей шапку, хотя восточный обычай предписывал гостю не снимать головной убор. Но я знал, как надлежит вести себя в Европе. Княжеское семейство сидело в гостиной за чаем.
Это была большая комната с мебелью, обитой красным шелком. По углам стояли пальмы и цветы в кадках, стены были не покрашены и не увешаны коврами, а оклеены обоями. Княжеское семейство пило английский чай из больших чашек с красивыми узорами. К чаю полагались сухарики и печенье, и я поцеловал княгине руку, пахнущую сухариками, печеньем и лавандовой водой. Князь обменялся со мной рукопожатием, а Нино протянула мне три пальца, украдкой косясь в чашку.
Я сел за стол, и мне тоже налили чаю.
– Так, значит, хан, вы решили пока не записываться добровольцем? – благосклонно осведомился князь.
– Да, князь, пока нет.
Княгиня отставила чашку.
– Но я бы на вашем месте вступила в какой-нибудь комитет содействия армии. Тогда, по крайней мере, вы сможете ходить в военной форме.
– Спасибо, княгиня, отличная мысль.
– Я тоже войду в какой-нибудь комитет, – сказал князь, – хотя в конторе без меня не могут обойтись, свободное время я должен пожертвовать на алтарь Отечества.
– Вы совершенно правы, князь. Вот только у меня почти нет свободного времени. Боюсь, я принесу Отечеству мало пользы.
– И чем же вы занимаетесь? – искреннее удивился князь.
– Свое время я посвящаю управлению поместьями, князь.
Эта фраза произвела глубокое впечатление. Я заимствовал ее из какого-то английского романа. Если благородному английскому лорду решительно нечем заняться, он посвящает свое время управлению поместьями. Я заметно вырос в глазах князя и княгини. Еще несколько таких заявлений, и Нино разрешат по вечерам ходить со мной в оперу. Я еще раз поцеловал мягкую руку княгини, поклонился, даже пограссировал на петербургский манер и обещал снова прийти в половине восьмого.
Нино проводила меня до двери, а когда горничная подала мне шапку, она сильно покраснела, опустила голову и произнесла на своем очаровательном ломаном татарском:
– Я ужасно рада, что ты остаешься. Я правда рада. Но скажи, Али, ты действительно так боишься войны? Мужчины же должны любить войну. А я полюблю даже твои раны.
Я не покраснел. Я взял ее руку и пожал.
– Я не боюсь. Когда-нибудь ты тоже сможешь лечить мои раны. Но если тебе так нравится, до тех пор можешь считать меня трусом.
Нино устремила на меня ничего не понимающий взгляд. Я отправился домой и растерзал старый учебник химии в клочья.
Потом выпил настоящего персидского чая и заказал ложу в опере.
Глава десятая
Быстро закрыть глаза, зажать уши и погрузиться в воспоминания. Как это было? Тогда, в Тегеране? Огромный синий каменный павильон с начертанным над входом изысканным вензелем шаха Насер ад-Дина. Посередине – четырехугольная сцена, а в зале сидят, стоят, лежат, так что не осталось ни единого свободного места, достойные мужи, взволнованные мальчики, восторженные юноши – благочестивые зрители мистерии, представляющей страсти святого Хусейна. Зал скудно освещен. На сцене бородатые ангелы утешают юношу Хусейна. Жестокий халиф Язид посылает в пустыню своих верховых воинов, дабы те принесли ему голову святого. Заунывные плачи перебивает звон мечей. Али, Фатима, Хавва, первая женщина, бродят по сцене, распевая четверостишия-рубаи. На тяжелом золотом блюде безбожному халифу подносят голову святого. Зрители содрогаются и плачут. По рядам проходит мулла, ваткой собирая их слезы в маленький флакончик. Этим слезам приписывают разнообразные магические свойства. Чем глубже вера зрителей, тем сильнее воздействие пьесы. Подмостки превращаются в пустыню, ящик – в усыпанный алмазами трон халифа, несколько деревянных столбов – в Эдемский сад, а бородатый мужчина – в дочь пророка.
А теперь открыть глаза, опустить руки и оглядеться.
Резкий свет бесчисленных электрических лампочек. Красный бархат лож, поддерживаемых золочеными гипсовыми богами. В зрительном зале поблескивают лысины, словно звезды на ночном небе. Тускло мерцают белоснежные спины и обнаженные руки женщин. Темная бездна отделяет зрителей от сцены. В этой бездне сидят застенчивого вида люди с музыкальными инструментами. Над партером, создавая равномерный шум, сливаются негромкие беседы, шелест открываемых программок, треск дамских вееров и лорнеток: так выглядит Бакинская городская опера за несколько минут до начала «Евгения Онегина».
Нино сидела рядом, обратив ко мне узенькое личико. Губы у нее были влажные, а глаза сухие. Сегодня она была молчалива. Когда в зале погас свет, я обнял ее за плечи. Она склонила голову набок и, казалось, всецело погрузилась в музыку Чайковского. По сцене бродил Евгений Онегин в добропорядочном сюртуке, а Татьяна тем временем пела арию.
Оперу я предпочитаю потому, что сюжет знаю заранее и мне не нужно, как в драматическом театре, изо всех сил вникать в суть действия, чтобы понять, что происходит на сцене. Музыка редко меня раздражает, вот разве что если она уж очень громкая. В зале темно, и, когда я закрываю глаза, соседи думают, что душа моя погрузилась в симфонический океан.
На сей раз я сидел с открытыми глазами. За нежным профилем Нино, чуть наклонившейся вперед, я различал первые ряды партера. В середине первого ряда расположился толстяк с глазами навыкате и челом философа – мой старый друг Мелик Нахарарьян, представитель знатнейшего армянского семейства Шуши. Словно поместившись между левым глазом и носом Нино, он покачивал головой в такт арии.
– Смотри, Нахарарьян, – прошептал я ей.
– Гляди лучше на сцену, варвар, – прошептала она в ответ, но покосилась на толстого армянина.
Тот обернулся и любезно кивнул нам.
Во время антракта я столкнулся с ним в буфете, где покупал Нино шоколадные конфеты. Он вошел к нам в ложу и расселся, толстый, мудрый, слегка лысеющий.
– Сколько вам лет, Мелик Нахарарьян? – спросил я.
– Тридцать, – отвечал он.
Нино прислушалась.
– Тридцать? – переспросила она. – Выходит, нам недолго еще наслаждаться вашим обществом.
– Почему же, княжна?
– Ваших ровесников уже призывают на фронт.
Он громко рассмеялся, глаза его словно выкатились еще сильнее, а толстый живот так и заколыхался.
– К сожалению, княжна, я не смогу пойти воевать. Врачи определили у меня неизлечимое заболевание – эмпиему придаточных пазух. Мне пришлось остаться в тылу.
Название его недуга звучало экзотически и напоминало о болях в животе. Нино, широко открыв глаза, уставилась на него.
– А это очень опасная болезнь? – участливо спросил я.
– Да как вам сказать… Если врач в достаточной мере осознает свою ответственность перед пациентом, любая болезнь может сделаться опасной.
Нино удивилась и вознегодовала одновременно.
Мелик Нахарарьян происходил из самой знатной армянской семьи, какая только существовала в Карабахе. Отец его был генерал. Сам он был силен как медведь, абсолютно здоров и холост. Когда он уходил из ложи, я пригласил его после оперы поужинать с нами. Он вежливо поблагодарил и принял приглашение.
Поднялся занавес, и Нино положила голову мне на плечо. Под звуки знаменитого вальса она даже подняла на меня глаза и прошептала:
– По сравнению с ним ты почти герой. По крайней мере, у тебя нет придаточных пазух.
– У армян фантазия богаче, чем у магометан, – попытался я хоть чем-то оправдать Нахарарьяна.
Нино не подняла голову с моего плеча, даже когда героический тенор Ленский стал под дуло онегинского пистолета и, как положено, был застрелен.
То была легкая, изящная и совершенная победа, и ее надлежало прославить.
Нахарарьян поджидал нас у входа в оперный театр. Он прибыл на автомобиле, который по сравнению с конной упряжкой дома Ширванширов казался чрезвычайно элегантным и европейским. Мы поехали по ночным улицам города, мимо мужской и женской гимназий. Ночью и та и другая принимали облик почти дружелюбный. Мы остановились у мраморной лестницы городского клуба. Наше поведение можно было счесть небезупречным, ведь Нино еще училась в гимназии. Однако, когда один спутник носит фамилию Ширваншир, а другой – Нахарарьян, княжна Кипиани спокойно может нарушать правила гимназии Святой царицы Тамары.
Мы прошли на ярко освещенную террасу клуба, выходящую на ночной, темный Губернаторский сад. Передо мной предстали звезды, мягко поблескивающее море и маяки острова Наргин.
Зазвенели бокалы. Нино и Нахарарьян пили шампанское. Поскольку ничто на свете, даже глаза Нино, не могло заставить меня публично употреблять в моем родном городе алкоголь, я, как обычно, прихлебывал оранжад. Когда танцевальный оркестр из шести музыкантов наконец ненадолго замолчал, позволив нам спокойно поговорить, Нахарарьян серьезно и задумчиво произнес:
– Вот сидим мы здесь, представители трех величайших народов Кавказа: грузинка, магометанин и армянин. Родившиеся под одним небом, выросшие на одной земле, совершенно разные и все же единые – словно три ипостаси божества. Одновременно европейцы и азиаты, многое перенявшие у Запада и Востока и много им давшие.
– Мне всегда казалось, – промолвила Нино, – что настоящая стихия кавказца – это война. А теперь я сижу между двумя кавказцами, ни один из которых не хочет идти на войну.
Нахарарьян снисходительно взглянул на нее:
– Мы оба хотим сражаться, княжна, оба, но только не друг против друга. Отвесная стена отделяет нас от русских. Стена эта – Кавказские горы. Если русские победят, у нас на земле установится русское владычество во всем. Мы утратим свои церкви, свой язык, свое своеобразие. Мы сделаемся бастардами Европы и Азии, вместо того чтобы стать мостом между обоими мирами. Нет, кто сражается за царя, сражается против Кавказа.
Тут Нино стала изрекать школьные премудрости, которыми напичкали ее в гимназии:
– Персы и турки терзали нашу страну. Шах опустошал ее восточные области, султан – западные. Сколько грузинских рабынь попали в гаремы! Русские ведь не вторглись в Грузию. Мы призвали их. Георгий Двенадцатый добровольно отрекся от престола в пользу царя. «Не для приращения сил, не для корысти, не для распространения и так обширнейшей в свете империи приемлем мы на себя бремя управления царства грузинского…» Разве вы не знаете этих строк?
Разумеется, мы их знали. На протяжении восьми лет в гимназии нас заставляли заучивать наизусть манифест, который сто лет тому назад издал Александр I. На главной улице Тифлиса эти слова были выбиты на бронзовой табличке: «Не для приращения сил…»
Отчасти Нино была права. В ту пору гаремы Востока переполняли пленные кавказские женщины, а улицы кавказских городов были усеяны телами христиан. Я мог бы ответить Нино: «Я магометанин, а вы христиане. Бог отдал вас нам во власть как военную добычу». Но я промолчал, дожидаясь ответа Нахарарьяна.
– Видите ли, княжна, – сказал он, – политически мыслящий человек должен найти в себе мужество быть несправедливым и необъективным. Признаю, с русскими к нам в страну пришел мир. Однако этот мир мы, народы Кавказа, сейчас сможем сохранить и без русских. Русские уверяют, будто их долг – защищать нас друг от друга. Вот для чего-де требуются русские полки, русские чиновники и русские губернаторы. Но, княжна, сами посудите, неужели вас нужно защищать от меня? Неужели меня нужно защищать от Али-хана? Разве мы все вместе не сидели, собравшись в кружок, на цветном ковре в Пехахпуре под Шушой? Персия сегодня уже не враг, которого кавказским народам надо бояться. Враг наш засел на севере, и враг этот внушает нам, что мы дети, которых надлежит защищать друг от друга. Но мы уже давно не дети, мы выросли.
– И поэтому вы не идете на войну? – спросила Нино.
Нахарарьян уже порядком набрался шампанского.
– Не только поэтому, – объявил он. – Я вял и ленив. Я обижен на русских за изъятие земель у Армянской церкви, а на террасе этого клуба приятнее, чем в окопах. Моей семье и без меня досталось довольно славы. Я эпикуреец.
– Я придерживаюсь иного мнения, – сказал я, – я не эпикуреец и люблю войну. Но не эту войну.
– Вы еще молоды, друг мой, – заметил Нахарарьян, отпив шампанского.
Он разглагольствовал долго и, разумеется, умно. К тому времени как мы собрались уходить, он почти убедил Нино в справедливости своей точки зрения. Домой мы ехали на автомобиле Нахарарьяна.
– Какой прекрасный город, – сказал он дорогой, – врата Европы. Если бы Россия не была столь отсталой, мы давно стали бы европейской страной.
Я вспомнил блаженные времена, когда изучал в гимназии географию, и довольно улыбнулся.
Вечер выдался удачный. На прощание я поцеловал Нино руки и глаза, пока Нахарарьян стоял, отвернувшись к морю. Потом он привез меня к воротам князя Цицианова… Дальше автомобилю было не проехать. За стеной начиналась Азия.
– Вы женитесь на Нино? – спросил он напоследок.
– Иншалла, если будет на то воля Божья.
– Вам придется преодолеть некоторые трудности, друг мой. Если вам потребуется помощь, я в вашем распоряжении. Я за то, чтобы первые семейства наших народов соединились узами брака. Нам нужно единство.
Я с благодарностью пожал ему руку. Выходит, действительно бывают приличные армяне. Это открытие сбивало с толку.
Изрядно утомленный, вошел я в дом. Слуга читал, сидя на корточках на полу. Я заглянул в книгу. По ее страницам извивалась арабская вязь, значит это был Коран. Слуга встал и поприветствовал меня. Я взял Божественную книгу и прочитал: «Воистину, узрите, правоверные: вино, азартная игра, а также идолы и истуканы есть скверна и деяния сатаны. Избегайте их! Ибо при помощи их дьявол хочет отвратить вас от поминания Аллаха и намаза».
От страниц Корана исходил сладковатый аромат. Тонкая желтоватая бумага похрустывала. Слово Аллаха, зажатое меж двух кожаных обложек, служило строгим напоминанием о грехе. Я вернул Коран слуге и ушел к себе в комнату. Вытянулся на мягком диване, широком и низком. Закрыл глаза, как всегда, когда хотел получше рассмотреть что-либо. Увидел шампанское, Евгения Онегина, светлые бараньи глаза Нахарарьяна, мягкие губы Нино и сонмище врагов, лавиной обрушивающихся на нас из-за крепостной стены и затопляющих город.
Снизу, с улицы, доносилось монотонное пение. Это был Хашим, Влюбленный. Он был очень стар, и никто не знал, какую любовь он оплакивает. К нему пристало арабское почетное прозвище Меджнун – безумный от любви.
Ночью он тайком крался по пустым улицам, садился где-нибудь на углу, плакал и до рассвета пел о своей любви и о своем горе.
От монотонных его песен клонило в сон. Я повернулся к стене и погрузился во тьму и грезы.
Жизнь по-прежнему была прекрасна.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?