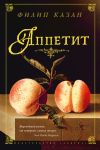Читать книгу "Али и Нино"

Автор книги: Курбан Саид
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 7
Я лежал на диване на веранде домика и предавался любовным мечтаниям. История моей любви сильно отличалась от тех, которые мне рассказывали отец, дяди и деды. Она была особенной с самого начала. Нино я встретил не у ручья, когда она наполняла свой кувшин водой, а на Николаевской улице по дороге в школу. На Востоке любовь начинается у журчащего сельского родника или у больших музыкальных фонтанов в городах, где не существует проблем с водой. Девушки каждый вечер отправляются к ручью с большими глиняными кувшинами на плечах. А возле ручья юноши, рассевшись в круг, беседуют о сражениях и разбойниках, не обращая никакого внимания на девушек. Девушки неспешно наполняют кувшины водой и уходят. Кувшины наполнены до краев и давят на плечи. Чтобы не споткнуться, девушки откидывают чадру и скромно опускают глаза. И так каждый вечер: девушки приходят к роднику, юноши рассаживаются на краю площади. Любовь на Востоке зарождается именно так. Иногда одна из девушек случайно поднимает глаза и бросает взгляд на юношей. Те и ухом не ведут. Но когда девушка вновь возвращается, один из них поворачивается и обращает взгляд на небо. Иногда их взгляды встречаются, а иногда и нет. Тогда на следующий вечер его место занимает другой юноша. Стоит взглядам молодых людей у родника встретиться несколько раз, как тут же становится ясно, что зарождается любовь. Остальное идет своим чередом: влюбленный страдалец бродит по окрестностям и распевает печальные песни, в то время как его родня обсуждает калым, а аксакалы уже прикидывают, сколько воинов подарит селу молодая пара. Все довольно просто, каждый шаг обсуждается и решается заранее.
А как же я? Где затерялся мой родник? Почему лицо Нино не спрятано под чадрой? Удивительно: женщины под чадрой не видно, но ее можно узнать по привычкам, мыслям, желаниям. Чадра скрывает ее глаза, нос, уста. Душа же остается неприкрытой. Душа восточной женщины ясна. Непокрытые чадрой женщины – совсем другие. Их глаза, нос, рот и прочие части тела на виду. Но вам никогда не прочитать мыслей, прячущихся за этими глазами, даже если вам будет казаться, что все предельно ясно. Я люблю Нино, и все же она иногда приводит меня в полное недоумение. Ей нравится, когда на нее заглядываются посторонние мужчины на улице. У приличной восточной девушки такое внимание вызвало бы лишь отвращение. Она целуется со мной. Я могу дотронуться до ее груди и погладить бедра, хотя мы даже не помолвлены. Когда она читает любовные романы, взгляд становится мягким и мечтающим, словно ей чего-то страшно не хватает. А спроси я у нее, чего же она так страстно желает, она лишь изумленно покачает головой – ей и самой неясно чего. Когда мы вместе, мне ничего другого не надо. Я думаю: она часто бывала в России. Отец брал ее с собой в Петербург, а всем известно, какие сумасбродки эти русские женщины. Их взгляд переполняет сильное желание, они часто изменяют мужьям и редко имеют больше двух детей. Вот так Бог наказывает их! Но я люблю Нино. Ее глаза, голос, манеру говорить и выражать свои мысли. Я женюсь на ней, и она, как и все грузинки, несмотря на их веселость, беззаботность или мечтательность, станет примерной женой. Иншаллах.
Я повернулся на бок. Все эти размышления утомили меня. Как приятно было лежать с закрытыми глазами и мечтать о будущем, то есть о Нино. Ибо будущее начнется в день, когда Нино станет моей женой. Какой волнующий момент нам предстоит. Нам запретят видеться друг с другом. Невесте с женихом нельзя видеться в день свадьбы: очень пагубно может сказаться на первой брачной ночи. Мои друзья, вооружившись и оседлав коней, привезут Нино. Она будет укутана в чадру. В этот день на ней должен быть восточный наряд. Мулла станет задавать вопросы, а мои друзья разбредутся по четырем углам зала и будут произносить заклинания против полового бессилия. Этого требуют обычаи, ибо у каждого мужчины есть враги, которые в день свадьбы вынимают из ножен кинжалы, поворачиваются лицом на запад и шепчут: «Аисани, банисани, мамаверли, каниани – у него ничего не получится, ничего не получится, ничего». Слава Аллаху, что у меня хорошие друзья, а Ильяс-бек знает наизусть все спасительные заклинания. Сразу же после церемонии мы расстанемся. Нино уйдет к своим подружкам на девичник, а я – к друзьям на мальчишник. А потом? Что же будет потом?
На минуту я открываю глаза и вижу деревянную веранду и деревья в саду, затем тут же закрываю их, чтобы лучше представить, что же будет потом. Ибо день свадьбы самый важный день, может, даже и единственно важный день жизни. Потому и очень трудный. Не так уж легко проникнуть в спальню молодоженов в первую брачную ночь. У каждой двери вдоль длинного коридора выстраиваются фигуры в масках, и, лишь одарив их монетами, новобрачный может пройти в спальню. Да и в спальне его могут подстерегать петух, кот или другие сюрпризы, спрятанные здесь друзьями, опять же из лучших побуждений. Мне придется хорошенько осмотреться. В постель могут подсунуть и какую-нибудь старую каргу, которая будет хихикать и просить денег, чтобы уйти восвояси. Наконец-то я один. Распахивается дверь, и входит Нино. Начинается самая сложная часть церемонии. Нино улыбается и выжидающе смотрит на меня. Тело ее стянуто сафьяновым корсетом, который держится на тесемках, зашнурованных спереди замысловатыми узлами руками специалиста, дабы сбить с толку новобрачного. Мне придется в одиночку расшнуровать все это. Нино не разрешается помогать. Хотя она может и подсобить. Уж очень запутаны эти узлы, и горе и позор на мою голову, если мне придется их резать. На следующий день друзья придут посмотреть на развязанные узелки, и мужчина должен показать, насколько хорошо он владел собой. Горе несчастному, который не сможет показать их. Он превратится в посмешище всего города.
В первую брачную ночь дом напоминает муравейник. Собравшись в коридорах, на крыше, порой даже на улице, друзья, родственники друзей и друзья друзей томятся в ожидании исхода и, если дело затягивается, нервничают. Они начинают стучать в дверь, мяукать и лаять, пока наконец не раздастся долгожданный выстрел. Тут они станут с воодушевлением стрелять в воздух. Собравшиеся выбегают из дома и образуют почетный караул, чтобы выпустить нас с Нино, когда им самим этого захочется. Да, свадьба будет действительно прекрасной. С соблюдением всех старинных обычаев. Так, как диктуют отцовские традиции…
Я, кажется, уснул на диване. Потому что, когда я открыл глаза, мой гочу сидел на корточках на полу и чистил острием кинжала ногти. Как же я не услышал его прихода? Я лениво зевнул и спросил:
– Какие новости, братец?
– Ничего особенного, ага, – скучающе ответил он. – По соседству разругались женщины, да какой-то осел, сорвавшись с привязи, угодил в родник, где до сих пор и сидит.
Гочу засунул кинжал в ножны и равнодушно продолжил:
– Царь решил объявить войну нескольким европейским монархам.
– Что? Какую войну? – Я подскочил и недоуменно уставился на него.
– Да обыкновенную войну.
– Как это обыкновенную? Против кого?
– Против некоторых европейских монархов. Я уже не помню их имен. Уж слишком много их было. Мустафа записал их имена.
– Позови сейчас же Мустафу.
Гочу неодобрительно покачал головой – какое нездоровое любопытство! – затем исчез и вернулся в сопровождении Мустафы.
Мустафа надменно усмехался и вел себя как всезнайка. Конечно же, царь объявил войну. Весь город об этом говорил. Лишь я в это время дремал на веранде. Имейте в виду, что никто точно не знает, почему царь объявил войну. Он принял такое решение, лишь исходя из собственного здравого смысла.
Я уже начал терять терпение:
– Кому же царь объявил войну?
Мустафа выудил из кармана клочок бумаги со своими каракулями. Затем откашлялся и с достоинством стал читать по слогам:
– Немецкому кайзеру и австрийскому императору, королю Баварии, королю Пруссии, королю Саксонии, королю Вюртемберга, королю Венгрии и множеству других лордов и принцев.
– Я же сказал вам, ага, что всех и не упомнишь, – робко заметил гочу.
Мустафа свернул свой клочок и произнес:
– С другой стороны, его имперское величество халиф и султан Османской империи Мухаммед Рашид, а также его величество шахиншах Ирана султан Ахмед-шах объявили о своем намерении не участвовать в этой войне. Поэтому войну можно считать войной неверных, к которой мы не имеем никакого отношения. Мулла Мухаммед Али думает, что победят немцы.
Мустафе не удалось закончить. Со стороны города стал разноситься колокольный звон семнадцати церквей. Я выбежал. Знойное августовское небо угрожающе и неподвижно висело над городом. Вдалеке, как равнодушные свидетели, высились голубые горы. Колокольный звон ударил по их серым скалам. Улицы кишели людьми. Взмыленные, возбужденные лица были обращены к куполам церквей и мечетей. В воздухе стояла столбом пыль. Люди хрипло переговаривались. Безмолвные и видавшие виды стены храмов смотрели на нас безжалостным взглядом вечности. Их башни висели над нами немой угрозой. Колокольный звон смолк. Толстый мулла в струящемся разноцветном халате поднялся на минарет рядом с нашим домом. Он рупором поднес ко рту ладони и с гордостью и в то же время печально прокричал: «Идите на намаз, идите на намаз, лучше молиться, чем спать!»
Я вбежал в конюшню. Гочу оседлал мне коня, и я помчался по улицам сквозь испуганную толпу. Уши коня стояли торчком в счастливом ожидании, пока я выезжал из города. Передо мной серпантином извивалась широкая тропинка. Я промчался мимо домов карабахских аристократов.
– Ты уже рвешься в бой, Али-хан? – кричал мне вслед какой-то крестьянин, причисляющий себя к местной знати.
Я посмотрел вниз, на долину. Посреди сада стоял небольшой домик с плоской крышей. Взглянув на него, я напрочь забыл о правилах верховой езды и диким галопом пустился к крутому холму. Дом становился все больше и больше, а за ним исчезли по очереди горы, небо, город, царь и весь мир. Я въехал в сад. Из дома вышел слуга и произнес убитым голосом:
– Князь с семьей покинул дом три часа назад.
Моя рука автоматически схватилась за кинжал. Слуга отошел в сторону:
– Княжна Нино просила передать письмо его сиятельству Али-хану.
Рука потянулась в нагрудный карман. Я сошел с коня, уселся на крыльце веранды и с нетерпением вскрыл мягкий благоухающий конверт. Письмо было написано крупным детским почерком:
Дорогой Али-хан! Неожиданно объявили войну, и нам нужно возвращаться в Баку. У меня не было времени сообщить тебе об этом. Не злись. Я плачу и люблю тебя. Лето выдалось короткое. Поскорее возвращайся и ты. Буду с нетерпением ждать тебя. В пути буду думать лишь о тебе. Папа думает, что война продлится недолго и победят наши. Из-за всей этой суматохи я совсем потеряла голову. Съезди, пожалуйста, на шушинский рынок и купи мне ковер. Я не успела. Пусть будет с узором из маленьких разноцветных конских голов. Целую тебя. В Баку будет ужасно жарко.
Я сложил письмо. Все было в порядке. Лишь я, Али-хан Ширваншир, оседлал как дурак коня, вместо того чтобы отправиться с поздравлениями по поводу начала войны к городскому голове или хотя бы – помолиться в мечети за победу царской армии. Я сидел на крыльце веранды, уставившись вдаль невидящим взглядом. Какой же я был дурак! Что же еще оставалось делать Нино, как не возвращаться с родителями домой и просить меня пораньше приехать? Когда в стране объявлена война, возлюбленная должна быть рядом с любимым, а не строчить надушенные письма. Но войны в стране не было, война была объявлена в России, до которой ни мне, ни Нино не было дела. Но даже и при таком раскладе я был вне себя от ярости – на войну, на старика Кипиани, который так торопился попасть домой, на гимназию Святой Тамары, где девушек не учили правилам поведения, и больше всего на Нино, которая уехала, бросив все, пока я, позабыв о долге и достоинстве, думал, как быстрее добраться до нее. Я вновь и вновь перечитывал письмо. В порыве отчаяния я внезапно вытащил кинжал и, подняв руку, сразу же вонзил клинок в ствол дерева, стоявшего напротив. Слуга вытащил кинжал и, оценивающе рассмотрев его, застенчиво произнес:
– Настоящая кубачинская сталь, и руки у вас сильные.
Я вскочил на коня и медленно поплелся домой. Вдалеке высились своды городских зданий. Злость поутихла. Я ее выплеснул на дерево.
Нино была права: она – примерная дочь и станет такой же примерной женой. Мне было стыдно за свое поведение, и я, склонив голову, плелся дальше, вдыхая дорожную пыль. На западе заходило раскаленное солнце. Я вдруг услышал конское ржание и, подняв голову, остолбенел. На минуту Нино и весь остальной мир покинули мои мысли. Передо мной стоял узкозадый конь с маленькой суживающейся головой, надменным взглядом и ногами как у балерины. Под косыми лучами солнца его кожа отливала золотом. В седле сидел пожилой мужчина с обвисшими усами и большим, с горбинкой носом: хозяин соседского поместья граф Меликов. Так вот о каких знаменитых конях святого Сары-бека мне рассказывали в первый день приезда в Шушу! «Гнедые кони, которых на весь Карабах всего двенадцать голов. За ними ухаживают, как за женами в султанском гареме». Сейчас же это гнедое чудо стояло передо мной.
– Куда вы направляетесь, граф?
– На войну, сынок.
– Что за чудо-конь, граф!
– Да, я вижу, ты восхищен, не так ли? Лишь нескольким довелось увидеть этих гнедых… – Взгляд графа потеплел. – Его сердце весит ровно шесть фунтов. А стоит обдать тело водой, как оно заблестит, подобно золотому кольцу. Этот конь никогда не видел солнечного света. Сегодня, когда я его выводил из конюшни, солнечные лучи засветили ему прямо в глаза, и они засверкали, как пробившийся сквозь скалы родник. Так, наверное, блестели глаза человека, добывшего огонь, при виде первого пламени. Он – потомок коня святого Сары-бека. Я его еще никому не показывал. Граф Меликов садится на свое гнедое чудо, лишь когда царь призывает на войну.
Он с гордостью попрощался и, звеня шашкой, поскакал дальше. Война, несомненно, охватила страну.
Я добрался домой затемно. Сообщение о войне взбудоражило весь город. Местные аристократы, напившись, скакали по городу и стреляли в воздух.
– Прольется кровь! – кричали они. – Кровь прольется! О Карабах, мы прославим твое имя!
Дома меня ждала телеграмма: «Немедленно возвращайся домой. Отец».
– Собери вещи, – приказал я гочу, – завтра мы уезжаем.
Затем я вышел на улицу и стал наблюдать за суетой. Меня беспокоило какое-то необъяснимое тревожное чувство. Подняв голову к небу, я погрузился в долгие и глубокие раздумья.
Глава 8
– Скажи-ка мне, Али-хан, кто наши союзники? – спрашивал гочу, пока мы спускались по крутой извилистой тропе, оставив за собой Шушу.
Этот простой сельский парень был неистощим на самые странные вопросы обо всем, что касалось войны и политики. В нашей стране обычно говорят на три темы: религия, политика и торговля. Война же касается их всех. О войне можно говорить когда и где угодно, причем с равноценной частотой, не боясь при этом исчерпать эту тему.
– Наши союзники, гочу, – это император Японии, император Индии, английский король, сербский король, бельгийский король и президент Французской республики.
Гочу неодобрительно сжал губы:
– Но если президент Французской республики – штатский человек, как он может сражаться и вести войну?
– Может быть, он пошлет генерала.
– Человек должен сам участвовать в войне, а не поручать ее другим, в противном случае за исход нельзя ручаться.
Тревожно взглянув на спину нашего фаэтонщика, он с видом знатока продолжил:
– Царь – невысокий и тощий, а кайзер Гийом – здоровенный и сильный. Он сокрушит царя в первом же бою.
Этот простодушный парень был убежден, что монархи самолично верхом на конях наступают друг на друга и таким образом начинают сражение. Никакие аргументы не могли переубедить его.
– После того как Гийом сокрушит царя, в сражение должен вступить царевич. А он молодой и не блещет здоровьем. У Гийома же шесть дюжих, пышущих здоровьем сыновей.
Я попытался утешить его:
– Гийом может воевать лишь правой рукой, поскольку левая парализована. Да, но левая рука ему нужна лишь для того, чтобы держать поводья. Правая – чтобы сражаться.
От таких глубоких размышлений на лбу гочу прорезались глубокие складки. Вдруг он спросил:
– А правда, что императору Францу-Иосифу сто лет?
– Точно не знаю. Могу только сказать, что он очень старый.
– Ужас, – произнес гочу, – в таком преклонном возрасте человеку приходится седлать коня и обнажать саблю.
– Да нет. Ему не придется этого делать.
– Конечно же придется. Между ним и сербским королем существует кровная вражда. Они теперь кровные враги, и император должен отомстить за пролитую кровь наследного принца. Будь он крестьянином из нашего села, за кровь можно было бы заплатить сотней коров и домом. Но император не сможет забыть кровопролитие. Если бы он забыл, все бы стали так поступать, в итоге исчезла бы кровная месть и погибла бы страна.
Гочу был прав. Что бы там ни говорили европейцы, кровная месть составляет основу государственного порядка и послушания. Вернее, простить кровную месть можно, если об этом просят аксакалы, и просят всем сердцем. Тогда можно запросить высокую цену и добиться прощения. Но сам принцип кровной мести должен поддерживаться. В противном случае чем все это закончилось бы? Человечество делится на семейства, а не нации. И семьи эти поддерживают между собой определенное равновесие, ниспосланное Аллахом и основанное на силе духа мужчин. Если это равновесие нарушается смертоносной силой, поправшая волю Аллаха семья должна, в свою очередь, тоже лишиться одного члена. Так восстанавливается равновесие. Конечно, кровную месть иногда нелегко совершить: бывает, что пули летят мимо или людей гибнет больше, чем следовало бы. Тогда кровная месть будет длиться веками. Однако принцип прост и ясен. Мой гочу хорошо это понял и удовлетворенно кивнул: да, столетний император, оседлавший своего коня, чтобы отомстить за убийство сына, был справедливым человеком.
– Али-хан, если император и сербский король должны свести счеты, при чем тут остальные императоры?
…Вопрос был трудный и застиг меня врасплох.
– Послушай, – сказал я, – наш царь и сербский король веруют в одного и того же Бога, поэтому и помогают друг другу. Кайзер Гийом и другие вражеские монархи состоят в родстве с императором. Английский король приходится родственником царю, и, таким образом, все между собой как-то связаны.
Гочу вовсе не удовлетворил такой ответ. Он был уверен, что японский император веровал совсем в другого Бога, отличного от того, которому поклонялся царь, а тот таинственный правитель Франции никак не мог состоять в родстве с монархами. Кроме того, по сведениям гочу, во Франции вообще не верили ни в какого Бога. Именно поэтому страна называлась республикой. Мне и самому все это было не до конца понятно. Я уклончиво отвечал и в конце сам обратился к гочу с вопросом, пойдет ли он на войну. Он мечтательно посмотрел на свое оружие.
– Да, – произнес он, – конечно же пойду.
– А ты знаешь, что можешь не идти? Мы, мусульмане, освобождены от воинской повинности.
– Я знаю и все же хочу воевать.
Парень вдруг совсем разговорился:
– Война – это хорошо. Я повидаю мир. Услышу свист ветра на Западе и увижу слезы в глазах врага. Верхом на коне и с переброшенной через плечо винтовкой я буду скакать с друзьями по завоеванным селам. Я привезу с собой много денег, и все будут восхищаться мной как героем. Если же я погибну, то это будет смерть настоящего мужчины. Все станут поминать мое имя добрым словом и почитать моего сына или моего отца. Да, война – действительно хорошая штука, против кого бы она ни была направлена. Каждый мужчина должен раз в жизни побывать на войне.
Гочу никак не унимался. Он уже насчитал и количество ранений, которые намеревался нанести врагам, и трофеи, которые отчетливо представлял себе. Глаза его блестели зарождающейся жаждой сражений, а смуглое лицо напоминало лицо старого воина из святой книги Шахнаме. Я завидовал ему, потому что этот простой парень знал, как ему следует поступать, в то время как я задумчиво и нерешительно лишь вглядывался в будущее. Уж слишком долго мне пришлось проучиться в стенах русской императорской гимназии и заразиться склонностью русских к самоанализу.
Мы приехали на вокзал. Помещение было переполнено женщинами, детьми, крестьянами из Грузии и кочевниками из Закатал. Куда и зачем они следовали – оставалось загадкой. Казалось, что эти люди и имен своих не помнят. Они расположились на перроне, как комья грязи, штурмуя прибывающие поезда независимо от их направления. У двери в зале ожидания рыдал старик с гноящимися глазами и в драном тулупе. Он был родом из Ленкорани – из села, которое находилось на границе с Ираном. Старик был уверен, что дом его разрушен, а дети погибли. Я сообщил ему, что Иран не воюет с нами. Но старик был безутешен:
– Нет, господин, уж слишком долго ржавел иранский меч. Теперь они его точат. Теперь нас атакуют кочевники, войска шаха разнесут наши дома – ведь мы для них неверные. Иранский лев опустошит нашу страну. Наших дочерей сделают невольницами, а сыновей – игрушкой для забав.
Его бессмысленные стенания не прекращались. Мой гочу растолкал толпу, и нам наконец удалось пройти к платформе. Паровоз выглядел как доисторическое чудовище. Он зловеще выделялся на фоне желтой пустыни. Мы сели в поезд и, всучив проводнику щедрые чаевые, получили в распоряжение целое купе. Гочу сел на обитое красным плюшем сиденье с вышитыми инициалами ЗЖД – Закавказская железная дорога. Поезд тронулся сквозь пустынный пейзаж. Желтый песок, простирающийся в пространстве, небольшие плешивые холмы с мягко закругленными верхушками, поврежденные ветрами скалы, озарившиеся заревом. С моря, преодолев множество миль, подул прохладный бриз. Кое-где низкие холмы устилали пыльные ползучие растения. Вдали показался караван: сотня или более верблюдов, одногорбые и двугорбые, большие и маленькие, тревожно уставились на поезд. Они передвигались вялыми шажками, покачивая головой в такт монотонному звону колокольчиков, повязанных вокруг шеи. Если один из них спотыкался, колокольчик сбивался с такта, нарушая ритм всего каравана. Все остальные животные, почуяв сбой, останавливались, чтобы восстановить гармонию, и затем продолжали свой путь. Вот он, символ пустыни: это странное существо, помесь животного с птицей, грациозное и неуклюжее, привлекательное и отталкивающее, рожденное и предназначенное для раскаленной пустыни.
Сбившийся с такта колокольчик пробудил во мне первый порыв как можно скорее отправиться на войну. Теперь у меня было достаточно времени поразмышлять. Караван ступал по мягкому песку в восточном направлении и вскоре исчез. Поезд мчался на запад по бездушным железным рельсам. Почему я не поднял руку и не потянул за рычаг стоп-крана? Ведь именно к ним я принадлежал: к этим верблюдам, их погонщикам, песку! Какое мне дело до остального мира за этими горами? До этих европейцев с их войнами, городами, царями, кайзерами и королями? До их печали, счастья, чистоты и беспорядка – у нас иные понятия о чистоте или беспорядке, добре или зле, у нас иной ритм и иные лица. Пусть поезд мчится на запад. Мое сердце и душа принадлежат Востоку.
Я широко распахнул окно и высунулся насколько мог. Глаза проводили караван, теперь уже исчезнувший из виду. Я был спокоен и невозмутим. Решение назрело. Моей стране не угрожал враг. Никто не угрожал закавказским степям. Поэтому это была не моя война. Мой гочу думал иначе. Ему было все равно: сражаться за царя или во благо Запада. Он лишь искал на голову приключений. Как и все азиаты, гочу хотел пролить кровь и насладиться горем врага. Я тоже хочу воевать, прямо душой истомился по жарким схваткам и дыму костров на полях сражений. «Война» – какое же это прекрасное слово, мужественное и сильное, словно удар копья. Но я должен выждать. Ибо меня не покидает смутное предчувствие: кто бы ни выиграл эту войну, на нас все ближе и ближе надвигается опасность – опасность, превосходящая по масштабам все, вместе взятые, царские завоевания. Поэтому, чтобы сокрушить будущего врага, когда тот вторгнется в наш город, в нашу страну, на наш континент, в стране должно быть достаточно мужчин. Невидимая рука даже сейчас сжимает поводья каравана, стараясь направить его на новые пастбища, на новый путь. Этими путями может вести только Запад. Мне не хочется следовать за ним.
Вот почему я останусь дома. Лишь когда невидимая сила наступит на мой мир, я обнажу свой меч. Я откинулся на сиденье. Как хорошо, что я довел свои рассуждения до конца. Кто-то скажет, что я пожелал остаться дома ради черных глаз Нино. Может быть. Может быть, он даже будет прав. Потому что эти черные глаза для меня – зов родной земли, зов дома для блудного сына. Я отведу невидимую опасность от черных глаз родины.
Я взглянул на гочу. Он крепко спал и с воинственным воодушевлением похрапывал.