Текст книги "Несовершенные"
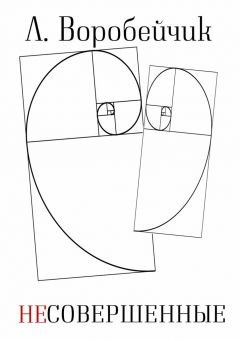
Автор книги: Л. Воробейчик
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
2
Продержали, три дня промурыжили и не устроили. И к такому не привыкать. Но я уже нашел другое место – маленький офис на выезде, заниматься черти чем. По телефону звонить – всякого я пробовал разного, но такого не представлялось пока. Обычно искал что-то и находил, с руками связанное – то профнастил стелил, то загружал-разгружал, то склады охранял. А такого, чтобы звонить – не было пока, для такой-то работы образование поди нужно. А эти – пригласили вот сами, приходи, мол, Николай, карьерный рост и белая зарплата. Как тут устоять? Вот и выпил немного – чтобы спать не страшно; перемены вещь такая. А может из-за Инги. А может, потому что мать его вспомнил.
Химия это была. Как ее, комплиментарность – моя ли, ее ли, наша ли общая, не важно чья именно, но распалась в итоге, и все. Хотя была ого-го, цементной, крепкой. Камень наш треснул, ну и я, собственно, теперь вот где. Хотя камень – не то, лучше через химию. Незрелость моих решений долго бродила в катализаторе – ее свободе, но у нас, однако, все до поры до времени было замечательно, ибо некоторые из элементов нашей породы могли бы ждать года и десятилетия, прежде чем взорваться, уничтожив все. Другие правда нет… Кислота моих решений растворилась внутри кислоты ее свободы, и мы бы даже не заметили шипения, если бы Сашок не появился на свет. Примерно так все было – возвышенно и поэтично, как в книжках, ну, а как иначе в двадцать с лишком-то? Мы как бы притянулись после того застолья, потом годы любви и страсти, связь укреплялась; были заложниками химии, повторяя то, что заложено в гомосапиенсах с начала времен. А стали в итоге заложниками быта. Мы – не кислоты, а неудавшаяся семья, вот я и запил, словно бы предчувствуя ее уход, ну, а может так статься, что запил я после ее ухода, или прямо во время – да какая разница; мужчина, безгрудый, жалкий, с младенцем на руках. С флагом унижения на руках, плачущим и испачканным. С живым воспоминанием хлопнувшей двери на руках. Химия… да, лучше передавать через химию, чем через ощущения слабости или боли – они должны бы притупляться, да не притупляются, глупости это все; лучше через нее, непонятную, донести. Да как бы человек не морщился, объясняя одно через другое (а всегда можно объяснить одно через другое), просто как бы он не морщился, переступая навыки сообщения и комментария, навязанного нам литературой или кинематографом, как бы ему не было отвратительно, все всегда скатывается в уродливый быт – любая попытка упорядочить книжную полку в собственной голове. И мы тоже скатились. И даже теперь я скатываюсь, доглатывая со дна остатки горькой. Отмечаю очередной пропащий праздник одиночества и ненужности. Отец-одиночка не ждет Сашка и, разумеется, запил вновь.
Пьяный, читаю книгу. Пытаюсь читать. Сашок пришел поздно, такой же пьяный, уронил вешалку, а я от чтения и не оторвался. Хотя на самом деле в голове – кружева, водовороты фраз; я и с ним, и в книге, и с Ингой, и вновь остаюсь без его матери: хлопает дверь и, боги, я вновь наедине с ним и вновь я ненавижу себя за то, чего не сделал и чего уже не смогу сделать никогда. Письмо нашел в мусорном ведре – и мы не стали этого обсуждать, мы ничего почти уже не обсуждаем, играть перестали в друзей, даже не пытаемся; Ингиному письму я даже и не расстроился. Люди приходят и уходят – я обучен этому лучше других. Это «житуха», как он любит повторять – и это слишком, слишком для меня несовершенно! В какой-то степени для меня это совсем неприемлемо. Сама жизнь как форма бытия для меня неприемлема своей алогичностью. Это просто усталый импульс – мои первые безумные двадцать лет; не было бы их, я бы закрыл глаза и уснул бы навеки, если бы только, ах, если бы.
Несовершенство – это, возможно, наихудшая из моих маний, понимаю трезвым умом. Слово имеет слишком много значений для одного лишь слова; можно перечислять бесконечно все то, что есть несовершенного только лишь для одного индивида; возьмите другого – половину случаев он возьмет да оспорит. Это саморазрушение и бездна, проклятое это слово. Это трясина метафизики, ведь погляди, Коля, в космос – и там нет совершенства, разве что одна математика для ракет, путающая нас, обещающая девять цифр, а подсовывающая буквы и переменные, пугающая всех нас – но особенно меня, ведь ни порядок, ни хаос не есть путь к юдоли совершенства, возможно, что лишь порядок и хаос вместе есть совершенство – да и то, как посмотреть. И в то же время это шепот звезд. Это мой маленький взгляд на небо и поиск самого белого из всего белого цвета, когда они зажигаются; и мои глаза слезятся и звезды сами по себе тускнеют. И это – первый крах идеальности. Это как функционализм, не несущий практической пользы. Это как религиозные войны за право молиться чуть громче других. Это как я с его матерью. Как он со мной. Как я сам с собой. Это сводит с ума; я живу с этим так долго, боги, и никак не научусь жить с этим себе не во вред.
Несовершенство не вносит никакой ясности и даже не делает меня лучше, хотя, казалось бы, обязано. Оно обязано быть большим, чем просто враждебным миром, чем обществом предательства и подлога; но оно упорно, оно вечно, оно не хочет становится чем-то большим, хотя несовершенство, увы, всеобъемлюще. Оно – сестра пресловутой «американской мечты», но на иной порядок, по эту сторону баррикад; там во главу ставится человек, сделавший себя сам, тогда как тут – человек, что не нашел себя сам в маленьком зеркале прихожей. Оно, мое несовершенство, должно быть другим, обязано; оно должно закалить меня ушатом ледяной воды и бросить в прорубь, от которой исходит пар. Должно ткнуть мне в нос нищету и холодные макароны. Должно, обязательно должно обесценить мои сбережения (если бы они у меня были) и показать, что любовь существует – но у кого-то еще; оно должно взять меня за руку и свысока показать: смотри, мол, Коля, все, что ты видишь – в моей власти, и каждому живется хуже другого, по-особенному худо, как завещали деды и прадеды. Так что не выпендривайся, Коля – будь счастлив среди меня, как счастливы и они, цени то немногое, что имеешь, пей, пей, Коленька, пой грустные песни и находи в себе силы, несмотря ни на что. Таким… таким оно должно быть, мое несовершенство. Отрезвлять и будить во мне лучшее. Но осталось ли во мне это самое лучшее? Осталась ли во мне хоть крупица того, что не отшибли этой тяжелой дверью сущего, громко хлопнувшей, этим защелкнувшимся сухим щелчком замком среди эха коридора?!
Оно не такое. Оно начинается каждое утро – и, боги, оно не такое! Импульс – ну и хорошее же слово; убеждаться не устаю, как точна иногда терминология, одно слово на сотню. Так вот, мой импульс – это первопричина, а каждое новое утро – это следствие. Хотел бы я и теперь зачитываться философией рационализма, но увы – я помню лишь фразу Декарта о мысли и существовании; все остальное выела водка и возраст. Я открываю глаза, я знаю все о своем двадцатилетнем импульсе, но до открывания следует маленькое, незаметное: следует титаническая борьба Николая с мировым несовершенством. Я открываю их спросонья, механика; тут же зажмуриваюсь что есть силы и размышляю, размышляю… Задаюсь вопросами вроде «зачем», верчу их на языке помногу, в разных категориях. Зачем это, зачем то. Ради чего оно все. Что я собираюсь делать, как жить. Для чего жить. Все эти (зачемзачемзачем) вопросы наслаиваются; боги свидетели – я давно уже на них не отвечаю, так что может показаться, что это просто ритуал. Хочется ли мне? Нет. Нужно ли мне? Нужно, но не мне – кому-то еще нужно; догадываюсь, кому именно… И эта маленькая борьба не может быть борьбой по самой своей сути – засомневался, значит проиграл. И мне нужно бы, нужно не сомневаться – нужно точно знать, нужно создавать себя с самой постели, с самого утра, быть новым и быть лучшим, начиная с открывания заспанных глаз… но я не могу. Я равнодушно принимаю существование, в котором есть место лишь несовершенству – и мне. Однажды это кончится; импульс приближается к роковому концу. И что тогда будет со мной и с ним? Два человека с виду, а так – прорехи и дыры в одеяле души…
– Сашок, – зову его. Слышу, как что-то там валится и падает. Может, вторая вешалка. Может он сам. – Сашок, ты будешь есть?
За моей спиной он что-то тихо говорит. Как соседи, правда – я с книгой, даже не оборачиваюсь в его сторону. Он – не делает попыток говорить чуть громче. Наверное, это слова вроде «буду, сам разогрею». Вряд ли что-то еще.
– Где? – все же доносится до меня.
– Вторая полка. Увидишь, в сковороде.
– Ага. – хмыкает. – Вижу.
И я попытался погрузится в чтение. Безрезультатно. На самом деле я слушал то, что он делал, но свои тщетные попытки не оставлял.
«-ность. Маменька, маменька, причитала она, простите, кричала она, заливаясь слезами, ка-»
Глаза стирались о проклятую строчку, невозможность принятия последовательности повествования отстукивали диссонансову пляску, ведь одновременно я читал, вспоминал былое, рассуждал о несовершенстве, думал об Инге, о том, хочу ли я новых детей и спрашивал своего пьяного сына о том, хочет ли он есть, а после слушая его и гадая обо всем на свете.
– Где был? – так же рассеянно спрашивал я.
– Жил. – просто ответил Сашок. – В лучших традициях реализма. И тебя, конечно.
– Рановато.
Саша икнул и промолчал. Одно с ним хорошо – за словом не лезет, даже погордиться им можно. Но если и стану – то не признаюсь ни за что. Хоть пытать будут – ни за что…
– Жить всегда рано. – я не обернулся на его слова, но слегка улыбнулся. Ответ был далеко не совершенным, но в нем слышалось нечто мудрое, чего никогда не услышишь у сверстников его лет. Иногда, когда мои мысли не тревожило это мое маленькое помешательство насчет несовершенства, я мог получать удовольствие от таких вот маленьких вещей. – Оставишь денег? Надо мне.
– Сколько надо?
– В этот раз побольше, сотки три, надо. Как обычно, верну.
Я кивнул, и мы замолчали. На том и порешали. Маменька, маменька, причитала она. Под оглушительный, разрывающий перепонки грохот тарелок и вилок я перечитывал вновь и вновь одну глупую фразу, монотонно, стуком рельсов в голове ухало это слово – маменька, маменька, маменька, все накручивалось, било обухом, за окном шумел ветер, монотонно билась вилка о тарелку, в новом коллективе меня как обычно не примут, но, маменька, мне нужно будет втереться в доверие, чтобы придумать, как что-то опять украсть и перепродать, маменька, фраза повторялась, пьяный сын бил вилкой по тарелке, воздух пропах газом с плиты, мы с ним на пару – пропадали, моя жена и его мать опять хлопала дверью, в висках шумело, маменька, все было несовершенно, бум, бум, зачесалась борода и скрежет от моих ногтей опять сбил меня с мыслей, и вот я опять читаю ту же фразу – маменька, маменька, снова стук, и еще сердце, и сигареты бьются изнутри о пустоту пачки, да еще и ветер за окном, и пьяный Саша, и он иногда так сильно пугает, маменька, и вот я снова думаю, как Инга ушла, а я приведу новую женщину в дом и он выбросит письмо от нее в ведро, маменька, и это несовершенно, ах, слишком несовершенно, маменька, даже чересчур, и Сильвия со страниц Свифта вновь испражняется, и это заклинание, маменька, и вот я снова в мыслях там, где все пошло не так, давно, давно, маменька, это было так давно и будто бы вчера – вот как это, вот как!
Но наваждение прошло, я опять задумался, какое впечатление произвести и что бы мне завтра стоит попытаться украсть. Офис… компьютеры, телефоны те же. Костик будет руки потирать – он-то людей знает, на базе прочно работает, краденое там только так улетает; надежнее, чем в ломбард нести. Никогда еще следов не находили. Хотя что и говорить – никогда и не пытались…
Пытаюсь читать, слушаю стук вилки. В голове шумит. Мысли – о несовершенстве, о женщинах, о прошлом с его дверью и о том, сколько еще движимых вещей мною будет «списано». Это, если посмотреть плохо – так, что во мне даже какая совесть борется. Но хоть несовершенство и не делает меня лучше, хуже не делает точно. Знаю, что сам далеко не святой. Цель, все таки: кушать же что-то надо, да и Сашку новые кроссовки давно пообещал.
***
Не хочется в школу, конечно, а надо. Ну как надо – да, все же надо. Потому что если в школу не ходить, то и делать по утрам нечего. Встаю я рано. Тренировки мои много времени не занимают. Вот представим, что я в один такой день захотел – и не пошел никуда. Что делать, когда все мои чем-то таким заняты? Славик – и тот на уроки ходит. Слепач после инцидента там крутится как-то, в шараге своей восстановился. Сизовы – у тех учение железнодорожное… Ясень за книжками по вечерам, а по утрам учится, старается. Все, короче, при деле. Вот и мне вроде как отставать нельзя. Шутки ли – я наоборот примеры подавать должен.
Одеваясь, как обычно предаюсь мысли своей маленькой. Ну, что папка до безумия своими привычками заразен. Что он двинутый страшно, ну и я тоже, выходит, но по-другому, по-своему; мы все же отличаемся сильно. Вот он, например, вещи говорит ненормальные, живет по-собачьи, мамашек любит водить, но как человек – добрый очень. Ну я вроде как говорю правильно и по делу, только вот поступаю нехорошо. Ну как – нехорошо. Это как посмотреть, опять же. Че-че, а это заучил с детских лет, с малолетства: он-то меня историями пичкал разными, тезисы говорил. Чуть на стене их не выписывал. Добра, мол, нету, Саня, да и зла тоже – все едино, как поглядеть. Вот и смотрит он, не видя, да и я не особенно вижу, слова знаю вроде «морали» и «совести», а вот ощущать – не сказать чтобы очень их ощущаю. Хотя надо бы. Пример, как-никак, да и в ситуации с Крытым иногда помогает, коль в себе эти ощущения да категории нахожу. Отпускает, как если вина напьешься. Или злобу на ком выместишь. Не так же, но похоже, конечно.
Я тут, к слову, открыл забаву – книги по воспитанию называется. Слонялся как-то, Славяна ждал, а его не было все. Зашел в библиотеку неподалеку, а на меня глаза таращатся, не заходит к ним никто. Под шумок взял да утащил одну – хотя, казалось бы, чего мне стоит билет завести? Но чего-то взяло да дернуло. Умом понимаю – детство, ну, так красть; красть надо умно и с выгодой, как старшие, когда раз украл – и пьешь-гуляешь по баням, да пацанам своим ящик за ящиком ставишь. Ну я – вот так. Да это и не кража даже, а так… торопился просто. Зачитался потому что, а второй раз заходить не пристало. Маленькая она такая, в карман олимпийки влезла как надо. Вспомнил про нее поздно ночью. Долго не спал; листал, удивлялся… Странно такое чувство, новое и злое: читать и понимать, что ничего из этого с тобой не было, не будет, да и незачем, в общем-то.
Называется еще так, что увидят меня – драка случится из-за названия. «Проблемы любви. Что мы делаем не так» – ну смех-то, смех. Пустая, вообще, книжка. Ребенка ничему не научит, родителей – тем более. Ну хотя мнение мое, громко звучащее, особенное от других мнений, у меня, как папка-то завещал, все хорошо. Собой быть хорошо, лучше, чем не собой. Так что я даже с этой книжкой спорил и смеялся над некоторыми фразами. Но большая часть, конечно, шляпа та еще. Никакого «отклика в душе» – папкино фразочкино наследие, че уж. Одно и то же и не по делу. Мол, будьте разным, будьте хорошим и плохим одновременно. Ни слова про мамашек или алкоголь. А вот про жестокость детскую – до жопы; вот там меня чуть и проняло. Но в это я, конечно, не поверил.
Папке скажу – засмеет, про пацанов я вообще молчу, такое с ними обсуждать – дело гиблое, бунт и переворот будет. А папка бы оспорил. Сказал бы, что я просто маленький и в свои шестнадцать хрен че понял, а там умные штуки понаписаны. Максимализм, типа. Но Саня Гайсанов пацан непростой: диктатор-отец этот самый максимализм повытравливал всякими хитрыми воздействиями. Много ж всегда говорили. Как бы это, словами-то… Что и говорить – в двенадцать он доказал мне атеизм. В двенадцать я долго смотрел на голую и пьяную женщину – одну из мамашек, что уснула, а он, на тебе, анатомия, Сашок, все дела. Он в этом весь такой: он делает вещи, друг другу противоречащие, делает и говорит. Меня много раньше заставлял – теперь боится поди! Так что книга занятная и странные чувства вызывает, о которых и сказать-то некому. Я ее потому и сжег на следующее утро. На пламя так смотрел долго, думал много. Наверное, наше отличие вон оно в чем: папка, хоть и пьяно, но создает, а я как бы разрушаю. Даже и смысла-то не вижу. Как тот немец-разрушитель из книги, да и папку он не любил. Сжигать, короче, это дело хорошее; гляньте вон на Кирюшу-пиромана, так тот тоже жжет, а почему – не знает. Просто, говорит, душа требует. Так и у меня. Импульсы какие, по-другому и не скажешь.
А все с воспитанием почему так плохо – ну, что без мамашки жить начинали. А те, кто приходил – не то все. Готовили разве что вкусно; папа только и знает, как с утра яичницу сжечь, а вечером макароны сварить да курицу обжарить. Рацион вялый, тут-то мамашки и хороши. Но не все. А вообще я, помнится, как-то раз спросил:
– Пап, а где наша мама?
– Она бросила тебя у меня на руках, хлопнув дверью. – впервые признался он, вместо привычных слов вроде уехала, далеко и все в этом духе. – Твоя мать – сука та еще.
– Что это значит? – я не знал значения этих слов; было мне лет пять или шесть, а он был пьяным, что ли.
– Что она плохая.
– Мама-плохая? – удивился я. Не сказать, что я особенно в то время часто о ней вспоминал, но все же было по молодости дело.
– Да, плохая.
Помню, что-то такое пораскинул в голове, вопрос сам пришел в голову. Ну, или сейчас мне так кажется – как у француза с его бисквитом да чаем липовым. Вроде как бы говорил то самое, а может – кажется, что говорил. Но общую структуру я помню. Пот часто прошибает при таких воспоминаниях.
– А я – плохой?
– Тебе решать. – сказал папа.
– Что это значит?
– Что все это не имеет смысла. Что… – начал он и осекся. Пьяно выдохнул. – Давай спи.
А я – без сна, проворочался, бесшумно плакал. Даже злоба теперь берет, но ненадолго; выдержал, выстоял, несмотря ни на чего. Быстро возвращаю утраченный было контроль. Контроль – это хорошо, правильно. Это помогает в делах и днях, не думать обо всяком помогает. Цель – и пути ее достижения, мысли об этой цели, ну, когда она все-таки появляется. Не сказать, что бы она появлялась часто, но зато она появляется метко; когда захочу, тогда и выполню, качественно, четко. Как в этой маленькой обязаловке – ну, школе, как вот теперь, бодрым шагом иду слушать то, что мне неинтересно. Или как моя маленькая (огромная, большая) война с тузовскими. Это мне помогает и меня же делает. Так что воевать – хорошо, а вот думать о прошлом или будущем – плохо.
Когда взрослеть начал, ну, до зала еще и пацанов, было хреново. Как-то раз даже добрался до заброшки на районе, ну, той самой, где гостиницу уже лет тридцать строят. Иронично они себя; в районе моем – и гостиницу! Сами типа поняли, мол, гостей нам не надо, свои только все тут. Приезжие, мол, не нужны. Вот и стоит она, заброшка, лет двадцать пять уже, папка ее уже такой помнил. Настолько она древняя, что даже наркоманы никакие не собираются – культурные стали, социальные. А вот я как-то пришел, ну, когда невмоготу стало. Ну и начались забавы в лучших традициях шотландских андрогинов.
Я, в общем, начал тогда с крика протяжного – орал, связки надрывал. Так громко, что если бы кто поблизости шлялся, полицию вызвал бы, подумал бы, мол убивают или насилуют. Но не было никого. Прооравшись, я бесцельно по ней шатался, ну а потом – разрушать. Вытащил кирпич из полуразвалившейся стены и ногой его затоптал, и другим бил кирпичом, в пыль его превращал. Убить могло – стены покосившиеся, плиты источенные. Но стен много, кирпичей много, плиты на месте – и вот новый кирпич в руке. И этот тоже в пыль. И старые доски. И вещи чьи-то – на куски их разрывал. И по стенам бил, что руки в кровь. И опять кричал. И лежал на холодном бетоне, скрючившись и подвывая. Навалилось все просто; я себе даже показался немного съехавшим, ну, выл когда. Грустно просто было как-то. Это, наверное, последний день был, когда я реагировал так остро на все, на всю мысль свою, на всю действительность. А вот почему – хоть убей не помню. То ли о первой мамашке задумался, то ли о том, кто я и зачем я. И не смог вывести точности в голове…
Вечером того же дня я ползал:
– Зачем я существую? – последний раз перед ним я плакал.
– Сам скажи.
– Не могу, – Я всхлипывал, а было мне тринадцать, кажется. Нет, точно: тринадцать. – я попросту не знаю.
– А никто не знает. Ни я, ни дядь Коля, ни соседи, никто. Кто-то для этого религию придумал, кто-то в нее даже верит, кто-то занимается чем-то даже полезным, вот, мебель строгает, как у нас стоит, ну или макароны лепит. Но зачем все это – никто не знает, Саш.
– Но это сложно, – я, сам того не зная, впадал в какой-то кризис. Слово забылось. Ну, что-то связанное с существованием, папка учил, да не выучил. – мне так сложно это понять.
– Да нет, на самом деле легко, – говорил папка. – просто надо плыть, да и все. Если сопротивляться, то жизнь закончится смертью духовной, а ее допускать нельзя.
– Почему?
– Ну, исправлять все надо. – безумно говорил папка. – Все неправильно ведь. Но я – это я, Сашок. А ты можешь все. Все, слышишь? Захоти только – и ты единственный, кто будет знать, «зачем». Понимаешь, Сашок? Исправлять надо это, – он обводил рукой комнату. – все это, Саша!
На следующий день, сомневаясь и робея, я пришел в зал бокса. Ну, и завертелось. На заброшку больше не ходил – незачем, в общем-то.
Воспитал, в общем, не папка меня – от того только вред один. Чудом избежал лишения родительских прав, хотя женщины из служб приходили, но их он подмазал, уговорил, справки через дядю Костика какие сделал. Бабка с дедом с ним не знаются, да и со мной тоже – история старая, темная, никто не признается. Да и бог с нею, в общем-то. По лицам нашим вроде как видно – пить скоро вместе начнем, хотя мне и не хочется. Соседи, говорю же, ни больше, ни меньше…
А вот заброшку запомнил хорошо, да. Как обессиленно лежал на земле да рыдал, ребенком был – это хорошо помню. Ну, точно – один в один шотландская забава с осами да насилием, не меньше; собаки меня только не кусали, да и то хорошо. Тьфу, привязалась эта история, куда теперь не плюнь, все одно видеть буду. Се ля папка. Литературу он мне всегда выбирал стоящую, вот за что-что, а за это – спасибо. Своеобразную, дикую, непонятную. Говорил, мол, литература есть основа, ну а я пока малой был, не сёк особенно в сути «основы». Вот и вёлся, наказаний страшился. И читал, разумеется, и ни черта не понимал; но как тут отказаться-то, как, когда иначе – слегка даже бьют? Так что делал все то, чего скажет – ну, до того самого дня, когда заброшка да ночь бессонная. Ночь, когда я решил стать Саней Гайсановым, который несмотря ни на чего – ну, и, собственно, наутро им стал.
Папка, папка… вот же персонаж забавный. Как-то даже предложил мне попробовать женщину, одну из мамашек, которая относилась к нам обоим несерьезно – он был ужасно пьян и призывал к моему мужскому естеству, да только я вот не захотел. Жалко мне его тогда стало, и ее, а вот на себя как-то безразлично. Все у меня и без его помощи будет, папка еще обзавидуется. Мне это пока неинтересно. Хотя ладно – мне неинтересно многое, практически все. Кроме улицы да пацанов, да войны, да вина с сигареткой, вот это по-нашему, а остальное-то? Это укладывается в мою систему, что ли, в то, что я называю «контролем». Да, не слово, а огонь. Я контролирую все, что происходит. Не зря пацанов моих зовут гайсановскими, не зря; однажды все переменится, а я буду готов – волком чую.
Но пока что – новый учебный год, черная неизвестность. Улица и дорога до школы – знакомые дворы, люди, закоулки… все это – мое, и таких же моих пацанов, а не чье-то еще. Самая приятная часть дня, ну, когда я снаружи, не заперт в рамки и стены. Когда могу, кажется, все. Когда завидев меня, мелкота разбегается, а старшие кивают – присматриваются наверняка… Ну, здорово, правда здорово! Да еще и солнце это утреннее ласкает. И на речку еще можно после обеда сходить – тренироваться и готовиться к новому этапу нашему на них наступлению…
Денег есть немного – оставил, а сам на работу новую ушел. Механически было:
– Извини, что не показал письмо, что спрятал.
– Ничего, ты не виноват.
Когда накрывал его, пьяного, сам будучи пьяным (вино Казака – чудо, где он только берет его), даже нежность какая на секунду появилась. Но я отогнал. Книгу с пола подобрал да заложил бумажкой. Книги эти… ненавижу, места занимают у нас столько. Как пространственную фигуру ненавижу, сколько раз оступался? Сжечь бы все их, как по воспитанию, авось, поможем миру. К хорошей литературе я равнодушен. А вот плохая занимает слишком много у нас в квартире места.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































