Текст книги "Несовершенные"
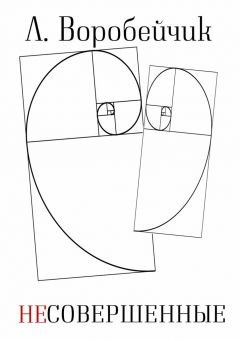
Автор книги: Л. Воробейчик
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
***
Две недели заживления ран. Болезненные две недели, но по-своему радостные – показали Тузу, что мы за своих не спускаем вот так. Да чего и говорить – лицо Казака всё сказало, нахмуренное, сосредоточенное лицо. Не благодарил, да нам и не надо было. Знали, за чего бьемся. Да и он понял, за что бились. Все как всегда. Нормально. Что-то беспокоит по-маленькому, но не так, чтобы сильно. Жив и жив, маленькие заботы, ежедневные вещи: зубы чищу, отжимаюсь и два подхода по мешку, завтракаю, бегаю, в животе тяжело и ноге после крайней стычки больно, но бегаю по утрам, несмотря ни на что, не берегу себя даже для турника, что идет следом. Потом – короткий душ, и учеба. В школу хожу зачем-то, хотя мог бы, как Казак, не ходить, папка бы против не был. Но чего тогда по утрам делать – не знаю. Школа на то и школа, досуг какой-никакой. Папка мягко намекает, мол, подтягивай физику и в университет. Инженером, Саня, будешь, или архитектором, в детстве рисовать любил же. А я не любил. Просто рисование – это на какое-то время, что-то делать, пока он мамашке случайной на уши шепчет и вином ее поит. Ну а Саня – рисуй, товарищ, вот тебе советская художественная энциклопедия. Подтягивай, мол, физику, становись инженером.
Но это один день. Другой – вообще все не так. То мне сегодня нужно приносить оценки, то мне нужно получать знания, наплевав на оценки, то жить на всю катушку, то нужно хорошо зарабатывать, то пуститься галопом по странам, ну и это – впечатления получать. Одного только папка не говорит – а зачем. Да и он, наверное, ни черта не знает, да и никто, в общем-то тоже, но все занимаются чем-то, вот, собственно, и я. Школьничаю в своем бессмыслии.
Зачем – вопрос что надо, как ни бились, не знаем, как на него ответить правильно. Даже и не знаю, нужно ли вообще на него отвечать, пытаться отвечать как-то, кроме «затем». К таким вопросам приходили, ну, многие, и все ни с чем оставались – порожняковая затея, ну, пытаться понять, ради чего все. Умные люди с ума сходили, понять пытаясь, очень умные или с богатым там жизненным опытом, или со знаниями необходимыми, примеров таких – плацкартный вагон. В определенный момент в зеркало смотрели, морды терли и спрашивали, собственно, кризисом называется. Как будто слышу это их: «А зачем? Для чего?» – и молчание в ответ, тишина. Че удивляться-то, все люди, все об этом думают, когда становится либо нехорошо, либо очень плохо, устроены все так. С хорошей жизни-то так не подумаешь, небось. Но я живу нормально: маленькие заботы, маленькие проблемы. Все как всегда.
А так разобраться, прям даже иногда интересно становится. Ведь все, и папка, и пацаны мои, и их родители, и учителя, и просто прохожие, все, короче, несчастны, наверное, каждый хочет свою жизнь того, да причем кардинально, ничего не делая для этого. Все всегда чем-то недовольны, маленькими или здоровенными вещами. Ну а вот, например, я, я-то чего? Я, кажется, по-другому как-то сделан; вопросы такие задаю, только вот просто, без раскаяния, без сожаления, рабочий вопрос. Служебный, во. Спрошу, да и не замечу, да и дальше жить буду, ничто меня не трогает, все перетерпится; Саня Гайсанов – несмотря ни на что… Это, типа, плавания по течению. Философии целые есть, изучающие такие вещи – зачем, а почему, а ради чего, а в чем смысл и все такое. Даже читать пытался, но не понял. Так что за всех говорить не буду, за себя только можно – я вот например такой, какой есть, задаю вопросы, но не задумываюсь, новую жизнь с понедельников не начинаю. А хорошо это или плохо, рассудит время. Да и то, не факт, смотря в какой трактовке изложить, чьими словами. Рассудит улица и слова пацанов – так уже лучше. Хотя бы определенность какая, не облака сачками ловить.
Отголоски битвы на теле, на лице, побитая морда, тяжелый фиолетовый отпечаток ноги на пузе. Два дня ковыляния, приползания, побитого торжества; голос Славяна – тихий, уставший голос на берегу реки:
– Выстояли. Даже продавить смогли… Да, Сань?
– Да. – сказал, глядя в их лица, бледные, уставшие. – Бойцы мы чего надо, не прогнулись, не сбежали. Долго слава греметь будет…
Казак бы сказал, что и Слава долго греметь будет, доставая свое знаменитое вино. Но не сказал, не до этого – потери тоже колоссальны. Понимаем, что Туз опять черту перешел – знал, сука, кого бить… в Слепача зарядил. Зашили Слепача. В больничке валяется. С него теперь вообще не слезут: то фигурантом дела был, теперь эта рана… но он не сдаст никого; знаю не понаслышке, проходили, отстрадался. Тумблеру ребра отбили, трещин небось штук пять или шесть. Леша Сизов молчит теперь, сам пришел в хирургию лицевую и на бумажке написал: «не сообщайте никому крышка будет» – сам там был, сам эту бумажку видел. Казак, у которого пол-лица не видать. Славик с вывихнутой кистью. Все мы, покалеченные, но за дело бились, так что правые, невиновные…
Тузовские такие же; не видно их на улице, не слышно за них ни слова, потерялись они, в логове своем засели, шакалы. На руку и им, и нам, мы тоже у себя, глаза им не мозолим. Две недели уже как. Кто раньше одной дорогой ходил, стал другой ходить. Потому что сцепимся, знают все; вот и держим дистанцию, для нового раунда отдыхать надо…
Старшие, конечно, смеются, называют «шелупонью», пытаются шутливо ударить, интересуются, как наши войны, как наши битвы. Все они, я многих имен даже не знаю, одни клички, «пыги», позывные, эпитеты… Витя Крамар как-то присвистнул:
– Во, пацаны какие, дети еще, а уже за базар вывозят, кулаками машут. Машите-машите. Бойцы всегда стране нужны. Без бойцов стране никуда, как и без заводов. Как и без лоха какого.
Витя Крамар недавно вышел, а первую свою ходку разменял еще по юности, по несмышленности. Он живет хорошо, деньги имеет, делами занимается понятно какими. Но всерьез нас не ставит, понятиям своим не учит; достаточно Вите просто смотреть да смеяться. Может, и присматривается, планирует на нас чего-то. Но вряд ли, голова у него забита совсем иным; Витя Крамар пытается заниматься своими делами дольше тут, чем там. Там-то дел никаких, как он говорил, да и самому мне так тоже кажется. Знай, о свободе да о бабах думай. Так что пусть смеется – нам и так нормально, хорошо даже.
Но Витя Крамар для меня – никто. Его лицо для меня – чужое, ненужное, не то, которое себе хочу. Вот Славян – он да, смотрит, слушать его любит, соседи почти, мальчишкой за ним бегал, первую сигарету у него из руки взял. Я идейный, но не так. Не хочу я в колонию, как Витя, не поэтично это, папка постарался, подсовывая Шаламова да Довлатова в первый год бокса и улицы. Чувствовал чего? Да не знаю. Но отвадил хорошо, не хочется. Потому и Витю не воспринимаю. Не бьюсь за то, чтобы Вите было хорошо, чтобы он во мне видел чего; бьюсь за пацанов, потому что они во мне спичку изнутри разжигают, ну а остальное вокруг ее гасит. А раз это во мне спички жжет – значит это очень даже ради себя, а не ради Крамара. И получать за себя приятно. И бить в ответку – тоже. Я когда вот так на берегу сижу, когда раны зализываю, когда бьюсь, то вот тогда я живой, кажись. А все остальное время я не тот Саня Гайсанов, ну, который несмотря ни на что…
Большой я до ужаса среди них, хотя вообще-то маленький, что по возрасту, что по досугу. Всего-то и ничего, что улица, чуть дома да школы. Нет большого во мне, ни в душе, ни в делах. Победы – они и то маленькие. Военное преимущество – незначительное, с успехом разным. И особняком школа стоит – сплошная дурость, запудривание, без которого я, наверное, просто не могу. Не здание, ну, со знаниями, а так, средство, чтобы лишние пять часов не занимались этим, беспределом, насилием. Я там на счету особом, чуть не воровском: частый гость директора этот ваш Гайсанов, друг всех комиссий по делам маленьких преступников, центр в осуждающем кругу старых теток. Помню, четырнадцать лет и брюзжание:
– Разбойники. – шипел директор поначалу, яростно, зло и даже особенно страшно. – Вот они кто, малолетние, – он выдержал паузу. – преступники! Он и еще Тувин Слава, одноклассник его. Но ваш, ваш-то!.. Ей-богу, это ни в какие, мы же и так, и эдак…
Я стоял; высоко поднятый лоб, непроницаемо глядел, весь напряженный. Не было тогда ничего из этого, ну, чего сейчас, тогда все в новинку было, в прикол. Встретится с одноклассником в зале и сдружиться, почувствовать силу в кулаке, когда один из «чижей» посмотрел не так, а потом не понял нашего смеха. Вместе с одноклассником толкать его, а после ответного толчка – первый удар, неуклюжий, яростный удар; что-то заставило, ну а что – не знаю, внутри дернуло. Разговор с учителем, слюна летящая. Череда разговоров, праведный гнев – и вот мы вчетвером у приемной, папка не пытается улыбаться маме Славяна, тот недобро на него смотрел. Тогда уже Слава знал все, рассказал я ему, настоящий же друг, как-никак, с которым никогда прежде; которого я так в детстве до ужаса боялся.
А папка плечами жал, и отвечал невозмутимо, ну, слишком даже.
– Ну, подумаешь, подрались, – сказал он. – с кем не бывает.
– Три зуба, – яростно шипел директор. – целых три зуба! Они вдвоем это сделали, это нехорошо, это зло, это, – перешел он на шепот. – преступление! Судить, как…
– Антон Сергеевич, – начал было папка. – Вы так не кричите, поберегите нервы. Мальчик… на то он и мальчик. Вспомните себя – бывало, и в Ваше время так было, ну или не так, а даже хуже, кто же разберет?.. Растут все, взрослеют. Загляните в себя, там наверняка злобы много, страхов, которые Вы как человек взрослый в себе и хороните. А он вот не может. Ему все выплеснуть надо, мальчишка на то и мальчишка, это-то мы уже уяснили…
Я слушал тоже. Удивленный. Папка-то может, всегда мог, чего-чего, а это – всегда мог. Я в этот маленький момент даже им возгордился чуть. Но прошло, отпустило.
– Мальчику трудно. – я пытался было вскричать, оспорить, но он предугадал это, ну, руку на плечо положил. Голос у него был трагичный даже. Слезу только не пустил. – Я постоянно в работе, в делах. Кручусь, чтобы обеспечить его, чтобы преодолеть эту трудность, этот пагубный возраст. Моя любовь слишком мала для него, растущего, и я пытаюсь дать больше, и пропадаю для этого, и он предоставлен сам себе… – голос его как-то изменился. Его слова пробирали меня как-то. После того дня, той печальной истории с заброшкой меня снова проняло, хоть и зарекся-то. – Мальчику трудно, Антон Сергеевич, понимаете?! И он виноват – но невиновен во мне, в вине моей к нему, вот и ищет, и пытается. Внимание, дружбу завести. А где дружба – там компания и смех. А чтобы веселиться, сами понимаете… никуда без этого.
Все мы молчали. Славян в коридоре ожидал своей очереди, волновался тоже. Глядел я на директора, он – на папку. Папка никуда не глядел.
– Вы… – хриплым голосом директор начал, ну, прокашлялся сразу и вновь директором для всех стал. – Вы же понимаете, что это – плохо?
– Да.
– А он, – кивнул он на меня. – он понимает?
Вновь молчание. Хрипло выдавливаю из себя согласие.
– Извинения мы принесем. – уверенно сказал папка. – И такого не повторится. Не повторится?
– Не повторится. – тихо сказал я. Внутри совесть хлестала, или чего там у меня вместо нее.
– Пойдем мы?
– Да. – протер очки Сергеич. – Зовите Тувина.
Но папка лгал. По дороге от школы он набрался былой живости, ясности и веселья. Он хвалил меня за мужество, за мой взгляд, за мой сильный кулак; в этом, вроде бы, чувствовалась зависть, что ли. Говорил, что я молодец, но дурак – кто же в школе дерется? Спалят, ну, только другими словами сказал. Говорил много, в охотку языком чесал. Сказал, что я сам знаю, что мне дальше делать, как мне с этим теперь быть. И всё вернулось снова: все его раскаяние было ложным, все его слова были игрой, были очередной вольной постановкой, чтобы выгородить меня, огородить от перестройки себя – не такой как нужен, конечно, но ведь Гайсанов, неисправимый, сам все решающий. Это было последней точкой моего к нему чувства; все окончательно умерло. Казалось, что он должен найти другие слова, и веселиться не должен был, правильные-то вещи говорил, в общем-то, даже сам почти понимал, что говорит; меня почти даже проняло. Но он лгал; хлопнул папка по плечу и сказал:
– Красавец, знай наших! Ты все вытерпишь. Все ты, Сашок, превозмогешь да подчинишь.
И я ненавидел его. И ночью он пил и плакал, и клял все сущее, и набирал номера мамашек, но никто приехать и утешить его не захотел. Я ни о чем не думал и уснул, даже не заметив. Через два дня мы вновь избили того «чижа», который перешел нам дорогу, зло избили, так, чтобы понять разницу – и больше невинных и слабых не трогать. По лицу в этот раз не били, пригрозили сломать руку, если вновь повторится. «Чиж» по итогу был бит дважды и перевелся куда-то еще, в другую школу, к другим людям. Подозревали нас, конечно, но он все отрицал, боялся. Но Сергеич все понял. И началось: вызовы, вызовы, лекции, разговоры да угрозы. И мы – школьное хулиганьё, твари бессердечные и злые. Папку вызывают постоянно – но больше он никогда не приходил, как и мама Славы. У Сергеича с нами тоже война – но не такая, маленькая, безрезультатная.
Школа, школьные порядки. Не помню, когда я стал в них путаться и их забывать. Помню началку, пятерки, какой-то маленький смех в тесных зеленых коридорах и тяжесть возвращения домой. Помню среднюю школу – и первые невыученные уроки, двойки, краснел как у доски. Людей, которых переводили в другие заведения, маленьких, непонимающих за что, людей. Первый поцелуй в начале средней школы, которого я потом боялся, и девочку, которую разлюбил через два дня – теперь потолстевшую, забитую… Помню как-то забыто, как в кино, которое только закончилось, ну, и не помнишь типа его уже – так же и тут. Но хорошо помню заброшку, мой вой, светлый зал на следующий день, мешки и сильный голос тренера, заинтересованные взгляды тех, кто скоро станет пацанами, гайсановскими, битыми, но с целью, ну – все это у меня в голове. И это само как-то выбило распорядки дней, уроков, портфели отменило, дало в руки сначала маленькие пакеты с двумя тетрадями, ну а теперь – совсем ничего. «Усваиваю на слух», говорю под всеобщий смех, и скучаю, откровенно скучаю, конечно. Забыл потому что – как это, что это, почему это. Что за смысл в слове этом забытом – «школа», чем она должна быть, а не чем теперь является. Глупость одна, по оценкам решают, чего я стою. А я стою, ну, немало – вон на улицу подите да пацанву спросите, расскажут, посмеются над спрашивающими, че, Гайсанова-то на улице не знать…
Перестало это цеплять, ну, когда появилось, с чем сравнивать. Уроки эти, перемены, задания, выходы к доске… Мелкое это, несущественное. Учителя, которые не могут научить главному – ну, быть-то, быть-то как, среди этих формул да слов, да букв как человеком быть нормальным, чтобы спичка внутри всегда горела, а не временами. Даже смеяться над ними не хочется; так, сидеть, со Славяном переговариваться, голосу не понижая, доводить еще их – да и вся потеха. Вот, случай тут был на этой неделе. Спрашивает меня русичка на уроке литературы:
– Кто скажет о мотиве любви, а, десятый «Б»? Разве его совсем-совсем никто не увидел? Ты, Абдуларов? Может, Гречко? Или, – она не хотела этого, но пришлось. – Гайсанов, может?
Только я ответил с улыбкой какой:
– Не, не увидел. – Славик рядом засмеялся громко. Я оценил: смеяться больно ему было, как и мне говорить, не до конца еще сошли побои.
– А что тогда увидел?
– Ничего не увидел.
Как обычно, многострадальное заключение:
– Двойка. Двойка, Гайсанов.
– За что в этот раз? Что не увидел, да?
– Что не пытался! – яростно закричала русичка. – Идиот, лентяй! Так! Трегубова, – повернулась она, дышала часто. – ты вот что увидела? Подумай, подумай. Только посмей мне вылепить подобное…
Но Трегубова защебетала, ну а я, собственно, кивнул, да и дело с концом. Интересно даже: какая разница, увидел ли я, Саня, или нет? Какое ей дело? Навязчиво хочет она, чтобы мы что-то эдакое увидели, прочувствовали; вот только я вижу и чувствую не там, где она указывает, мне-то чего. А рассказ этот я читал, к слову, но любви – ни хера там нет. Там, училка литературы, другое, важное – там фраза про небо хорошая, ну а больше нет ничего. Построение классное. Прям честно, что ли. «Небо смердило». Два слова, маленьких, в рассказе про любовь, которой там ну вот нет совсем, не любовь это, шляпа сплошная. А про небо – хорошо, честно, искренне. Хотя и никакого значения не имеет – два слова, потом пустота, глупость какая, фантазии. А вот про небо… «смердило», короче, это замечательно. Наверное, можно было бы сказать, глянуть, как ее перекосит, незачем, правда. Не даст это ничего, ни мне, ни ей. Ей же не мысли мои нужны. Ей нужно это, чтобы я нашел мотив любви, а вот зачем мне его искать – непонятно. Лучше уж смысл в жизни поискать, но это на улице, в драках с тузовскими, а не в книжках. Ведь чего там в книжках? Так, редкие честные слова, в большинстве своем – фантазии. Книжки за тебя не умрут, мотивы за тебя щеку не подставят, а вот пацаны – вполне себе, хоть и не понимая, что я это не ради них и себя, а так, просто, ради спички внутри себя, живости ради. Такие вот дела.
Две недели, вспоминаю две недели, сидя на уроке, таком же, как и прежде – вчера, позавчера, таком же, что и завтра. Сентябрь, двенадцатое число, скоро получка папкина, часть карманных надо Ясеню, как обещнулся. Но это мимолетом, основа другая. В голове – планы стратегии, мысли, переживания, дело Слепача, надежды, мечты. Казак сказал, что нам люди нужны, и что он займется – чего, не против я, со Слепача теперь долго не слезут, выбыл временно, а на войне каждая боевая единица важна. Так что на уроке я продумываю тактику. У Трегубовой взял листок и ручку, рисую кружки, треугольники и линии; вот наша тактическая карта, новый план войны, маленькие указания, схемы, расположения…
Славик кое-как говорит:
– Казак обещал вина опять. Погудим после тренировки-то…
– Рты дезинфицировать, – улыбаюсь, не отрываясь от листка. – Дело хорошее.
Он мнется – плечом чую.
– Ну? – не глядя на него спрашиваю. – Говори, не менжуй.
– Девочка.
– И чего она?
– Да не. Не. Забудь, Саня. – он головой крутит. – Так, неточно все. Буду стобаллово знать, выдам, понял. Там просто трудности кой-какие. Мож надо, мож не надо.
– Слыш, Слав, кончай, а. Че заводить-то тогда? – раздраженно говорю. – Ну да ладно, понимаю. Чего хоть за подруга, звать как?
– Полинкой зовут.
– Не из наших? Чет я за таких не слышал.
– Куда уж из наших! – он усмехается. – Хер подступишься, ну. Центровая, Саня. Центровая…
В нас летит кусок мела. Не отрываясь от черчения схем, подбираю кусок и демонстративно выкидываю его в распахнутое окно. Звенит звонок. Побледневшее лицо русички не провожает нас со Славяном – уходим, ухмыляясь, так и не записав домашки; хулиганьё, ворьё, «шпана», как называет нас уставший Сергеич…
***
Заработался я, задумался. Митрохину так своим словом утомил, что она аж вздрагивает теперь от моего взгляда, как перехватывает его, горделиво голову поднимает и смотрит в свой экран, а сама напряженная, твердая. Хотя мне и не хотелось утомлять ее так сильно. Вот же бывает – всего-то выполняешь хорошее дело, а выходит, будто бы и вредное. Да и не только с ней так – со всем так; много усилий тратишь на, в общем-то, малое, а большое в тебя вроде бы плюет и совсем своим масштабом не замечает, даже будто бы и вызов твой принимает, говорит словно: «что, захотел немножко раю? А захоти-то ты теперь, когда я тебя вот так, да вот эдак». А тут и не остается ничего, кроме как удивляться, да пытаться, да сдаваться наконец; утолять большую жажду жаждой маленькой, и среди великих свершений выбирать что-то маленькое, незначительное для бытия, тогда как для меня – широкое, значительное… По всему выходит, что я меняю некий подвиг на близкую и дешевую бутылку. Выходит, что вместо собственной жертвы я выбираю купить в магазине чего покрепче. Молитвам я предпочитаю забытье. Любви многострадальной я предпочитаю мировое несовершенство – высказанное, многоуровневое, очевидное… и никакой борьбы уже, кроме утреннего разлепления глаз. Постарел ты, Коля, все юное свое протранжирил, а то, что оставалось – позабывал к чертям…
А теперь вот – перерыв, который почему-то обязателен, который для праздности, да и вообще – больше для галочки. Кому нужно покурить – тот всегда может покурить выйти. Кому поесть охота – тот ест, особенно не дожидаясь. А так на полчаса офис замирает, не чавкается, не курится, не живется; в минуты перерыва все говорят между собой, ну а раз так, то я вроде бы сам себе предоставлен, да еще и как явно, как смело предоставлен! О, воистину: перерыв для меня есть время размышления и самокопания, когда в голову всякое лезет сильнее прочих часов на протяжении дня; так что к чертям, боги, шлите эти бесполезные перерывы, ложь общения, заискивания, паузы, мерцающие экраны, все это, все это! Это, утверждаю, ложь, большая и глупая ложь… Все кругом – порождения лжи, да и сам я адепт ее, и эти секунды, так тяжело отдающие в голове секунды, не приносящие ничего, забирающие жизнь, ничего не меняющие… Человеку нужен некий гешефт, иной, не тот, что теперь у меня с жизнью: я до ужаса привык менять свои секунды и часы в обмен на жизненный опыт, и теперь, кажется, мне нужно что-то еще. Пусть и другой опыт, не тот что прежде, пусть! Но все же необходима перемена, изменение, пусть-то маленькое чудо в моих с ним (несовершенством) отношениях. Иначе не согласен и, наверное, буду бунтовать. Решено: буду! Неуемно, сильно, смело стану, да… Стану, ведь иначе, иначе-то!..
Нет, не стану. Кого обманывать, да еще человеку, да причем такому, как я? Не смогу я бунтовать, силы нет у меня перебарывать и перебарываться собой же. Как клоп против танка, так и я – против этого мироустройства, этой тяжести, этой злости, лжи и бесцельных перерывов. Несовершенность его ибо никак нельзя назвать иначе, кроме как его «глагольностью», где жизнь сама – не есть совокупность разных форм и видов, но дополнительное значение, нахлест, побитая и накрытая другой карта, узор на фоне, волос на лысом черепе и прочее, прочее… Вся эта глагольность сущего – в зле, в лжи, в несправедливости, в хлопающих дверях, в разрывающихся от обиды и страха сердцах; во мне как в показателе того, что говорят люди, мол, «жизнь разная», и я всегда есть пример отрицательный, пример безобразный, в своем сладострастии являющий себя этой жизни уродливым сыном, ошибкой, пороком, наказанием… Эта чертова глагольность бытия, эта чертова несовершенность этой жизни! О, кто я против нее, маленький, старый?! Да, я бунтовщик, но клоп-бунтовщик. Много ли революций видано нами под микроскопом? Я, даже если бы и смог, то и остался бы незамеченным – для себя в первую очередь, боги, даже для себя…
Ла экзистенция; жизнь, которой никто не просил, на коленях никто не вымаливал – случилась, да и все тут, да и борись с ней, катайся в масле, умирай, говори. Поэтому я знаю свое место наблюдателя, фиксатора, некоего стоика, не знающего этой жизни правил, а потому и страдающего своим замыленным взглядом, своим суждением и осуждением, мечущимся, не нашедшим успокоения. Я наблюдаю за всем этим и все как-то странно вижу, подмечаю то, что незаметно даже иногда и мне; вижу ее в разных плоскостях, отвратительных событиях, в своих слабостях и сдачах флага, в пьянстве и в его глазах, смотрящих иногда с такой животной ненавистью, с такой затравкой… И этим я страшно безумен. Не так как многие, но всяко же безумен, просто иные тени какие видят, голоса слышат, повторяют одно и то же; однако у меня в голове сидит, например, это чертово перечисление, внахлест идущее: например, мои знания обо всем этом – не абсолютны, их не понять, не потрогав и не ощутив, а ощутив – описать не получится, либо не захочется, либо не получится, а раз я анализирую себя изнутри (называя этот поток мыслей и ощущений анализом), раз я вижу свою одержимость в ровном подмечать углы и закругления, то здоров ли я, боги, так разве выходит? И выходит ли из этого – хоть что-нибудь, хотя бы даже какая малость? Я, кажется, начинаю путаться в этом, думая об этом больше хотя бы пяти минут!
Это вновь внутри меня; новое путанное наваждение. В голове пульсирует то, что должно быть следствием, но следствием, увы, не является. Я понимаю кое-что о следствиях: есть в жизни только одно начало, ну, или два, а вся жизнь оставшаяся – это следствия данных начал, и, кажется, плох тот, у кого начал больше следствий и плох тот, у кого начало рушит иные начала; не допускает даже ничтожнейшей возможности для их возникновения. И все это значит слишком много – и ничего совсем не значит. Хотя, если спросить хорошо, может отыщется что… Попробую, к черту! Значит ли все это, что, Николай, вы не обязаны звонить во время перерыва, у нас для этого рабочий день есть, лучше пообщайтесь-ка с коллективом, нет, с командой, значит ли это, что несовершенство, как бы глупо это не звучало, значит ли, что оно по универсальности своей и устройству своих омерзительных коллизий – в своем роде совершенно? Нет, боги, ну и затея! Вот это уже звучит настоящим безумием, своей двусторонней противоположностью, а не то, что я там до этого плел.
На часах два пятьдесят три – семь минут до конца перерыва. Пустое время, не давшее мне ничего, что я не заполнил ничем, ни одну мысль до конца не довел, как и обычно, впрочем. Не удивляюсь, удивляться-то нечему, удивляться еще вреднее, чем подобные мысли гонять – лучше оборвать их резко, прямо как вот теперь и отложить. Ведь у меня еще день впереди и дорога до дому. И он еще, его отсутствие в его же комнате. Успеется еще подумать, да, успеется…
Иногда кажется, что вся моя жизнь – такой вот рабочий перерыв, получив который не знаешь совсем, как им распорядится.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































