Текст книги "Золотая симфония"
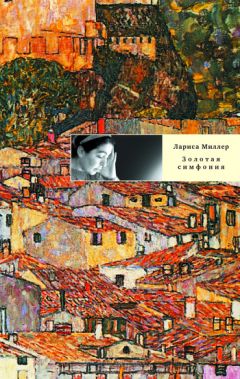
Автор книги: Лариса Миллер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
На лоне природы
Бабушка, закончившая два педвуза (чем очень гордилась), всегда считала, что и с познавательной, и с медицинской точки зрения городскому ребёнку необходимо как можно чаще бывать на лоне природы. И в первое послевоенное лето мы сняли дачу на станции Удельная. Бабушка пасла меня, а наша хозяйка – своих коз, чьим молоком меня усердно отпаивали. Когда я с отвращением подносила ко рту кружку, активно участвующая в процессе бабушка складывала трубочкой губы и шумно втягивала в себя воздух, будто пила. Если рядом оказывалась хозяйка, бабушка в очередной раз показывала ей мои торчащие рёбра и рассказывала, как в эвакуации я погибала от диспепсии и дистрофии и как она меня выхаживала. Удельная и козье молоко были в моём сознании неразлучны, хотя мне очень хотелось, чтоб Удельная осталась, а козье молоко испарилось навеки. И чудо совершилось. Как-то раз, когда дедушка приехал вечером на дачу, бабушка подала ему на ужин кофе с молоком. Едва он допил стакан, она весёлым и звонким голосом сказала: «Ну вот, выпил и не поморщился, а говоришь, что козье молоко терпеть не можешь». Дедушка покраснел, уставился на неё неподвижным взглядом, потом вскочил и, опрокинув табуретку, выбежал из комнаты. Бабушка бросилась за ним, я за бабушкой. Мы нашли дедушку за калиткой. Его рвало. Я смотрела на него с ужасом и восторгом, потому что понимала, что после всего случившегося бабушке вряд ли удастся влить в меня хоть одну каплю столь полезного для рахитичных дистрофиков напитка.
Неотъемлемой частью моего раннего детства была Малаховка, где жил с семьёй дедушкин давний друг дядя Яша. Хотя его дом стоял на бойком и совсем не дачном месте, поездки в Малаховку все же считались выездом на природу. Для меня – московского дворового ребенка, чьим любимым занятием было смотреть, как заливают асфальт, жевать кусочки чёрного блестящего вара и нюхать гашёный карбид, – клочок ранней ярко зелёной травы в Малаховке становился событием. А уж встреча Нового года в заваленном снегом посёлке – рождественской сказкой.
Однажды дедушка вернулся домой раньше обычного и сообщил мне, что дядя Яша умер и мы едем в Малаховку с ним прощаться. Всю дорогу он молчал, качал головой, вздыхал и крякал, а когда мы подошли к знакомому крыльцу, вдруг рухнул на колени и громко завыл. Он выл и причитал на том языке, на который они с бабушкой переходили, когда не хотели, чтоб я понимала. Я смотрела на дедушку и не знала, как быть. Зачем он так раскачивается, всхлипывает и надрывно причитает? Зачем касается лбом ступенек? Почему никто из вышедших нам навстречу не бросается его поднимать? От страха я тихонько хныкала и грызла ногти. Вскоре дедушка поднялся и, слегка покачиваясь, пошёл в комнату. Подойти к гробу я не решилась и дядю Яшу почти не видела. Больше, чем смерть, которую я и осознать тогда не могла, меня потряс странный дедушкин поступок. И лишь когда я подросла и дедушка рассказал мне о своём нищенском витебском детстве, о том, как возле его умершего отца, следуя давней традиции, целый день выли плакальщики, я поняла, что случилось тогда на ступеньках малаховского дома.
Так устроена память, что стоит произнести хорошо знакомое имя или название, как немедленно всплывает одна– единственная навеки прилепившаяся к этому слову картинка или деталь. Так Удельная – это кружка ненавистного козьего молока, Малаховка, в которой я часто бывала и позже и даже снимала дачу, когда у меня родился сын, это навеки та Малаховка, где на крыльце дяди Яшиного дома качается и причитает дедушка.
Дедушке не везло с друзьями: многие из них рано умерли, а про некоторых у нас дома говорили шёпотом и лишь тогда, когда думали, что я сплю. Вопросов про случайно подслушанное я, естественно, не задавала. «Когда посадили мужа, она задушила себя собственной косой», – донеслось до меня однажды. Я прислушалась. Речь шла о жене дедушкиного друга, старого большевика, о котором спустя годы мы узнали, что его расстреляли перед самой войной. У нас бывала их дочь Еничка, забегавшая поболтать с мамой. Однажды ранней весной она пригласила нас с мамой не то в Перхушково, не то в Полушкино – куда-то, где у них была дача. Мы долго ехали на дымящем, сипящем, пронзительно свистящем паровичке. Сперва я, не отрываясь глядела в окно, а, наглядевшись, отправилась путешествовать по вагону. Добравшись до нужной станции, мы спустились по шатучим неудобным ступенькам и оказались в большой луже. Долго шли по талому снегу, по льдистым лужицам. Место казалось пустынным, безлюдным и не верилось, что мы недавно из Москвы. Наконец остановились возле недостроенного забора. «Вот наша дача», – сказала Еничка. Мы пересекли огромный участок и подошли к дому без окон и дверей. Возле крыльца лежало гигантское сырое оструганное дерево. «Милости прошу, – пригласила хозяйка, – я покажу вам дом. Вот здесь мы думали устроить папин кабинет, здесь спальню, здесь кухню…» – её голос странно звенел. Бродя по брошенному дому, слушая Еничку, глядя на её длинные, красиво уложенные вокруг головы косы, я вспоминала произнесённые шёпотом слова: «Она задушила себя собственной косой». Меня тянуло на улицу и, когда экскурсия завершилась, я с облегчением покинула зияющий пустотами дом и пошла бродить по участку. Меня почему-то гипнотизировало то самое сырое бревно, лежащее возле крыльца. Я его гладила, нюхала, садилась на него верхом. От него, как и от всего, что меня окружало, пахло свежестью, какой я не знала прежде. Когда я слышу Перхушково-Полушкино, я всегда вспоминаю эту небывалую весеннюю свежесть, пугающе длинные косы Енички, похожий на привидение дом, талый снег, тонкое кружево льда, на которое так приятно наступать медленно и осторожно.
Неожиданных выездов на природу было в моём детстве не так уж много, и каждый запомнился надолго. Помню длинный воскресный день, проведённый в Химках, где жила мамина близкая подруга Верушка. С ней у меня навсегда связаны загадочные слова «Блокнот агитатора», где она работала редактором, мистические буквы ГЛАВПУРКАКА, по-видимому, означающее место, где обретался этот самый «Блокнот», и часто мелькающее в разговорах Верушки и мамы короткое слово Штром. Потом оказалось, что такова фамилия Верушкиного друга, который жил в Ленинграде и лишь наездами бывал в Москве. Когда приезжал Штром, Верушка исчезала, а, появившись снова, забиралась в угол дивана и долго-долго шепталась с мамой, время от времени прикладывая к глазам сложенный треугольником носовой платок. А глаза у неё были светло-голубые и бесконечно добрые. Мне от этих глаз всегда становилось хорошо и уютно. А ещё оттого, что она называла меня точно так же, как в своих письмах с фронта папа – Ларчонок. «Ларчонок, – сказала она как-то, – приезжай с мамой ко мне в Химки». И мы приехали. Химки оказались далеко, и ехать пришлось долго. Химки – это деревянные дома, палисадники, цветы, огороды, лавочки, куры, козы. Вокруг Верушкиного дома – сплошные кусты сирени. Наконец-то я увидела, откуда берутся те небывалой величины букеты, которые она привозила в мамин день рождения. Букет сперва проплывал мимо наших окон на Полянке, потом вплывал в коридор и уж потом в комнату. Только тогда можно было наконец разглядеть Верушку, её сияющие голубые глаза. Когда мы появились у неё в Химках, она как раз кончала гладить оборки на платье, которое специально для меня сшила. Надев его, я сказала: «Оно парное». «Почему парное?» – удивилась Верушка. «Потому что тёплое, как парное молоко». Платье пахло утюгом, дом и сад – сиренью, а вечером пряно и горько пах табак, который рос под самыми окнами. Химки, сирень, душистый табак, Верушкины голубые глаза, платье с оборками. Счастье.
Сплошные праздники
«Те, у кого в четверти тройки, возьмите портфель и постройтесь, – сказала учительница Лидия Сергеевна. – А теперь марш за мной в раздевалку. Вы пойдёте домой. Остальным тихо выйти в коридор и занять места. Через пять минут начнётся кукольное представление «Али Баба и сорок разбойников». Мы, троечницы 2 класса «Б» (в те годы девочки и мальчики учились в разных школах), повесив головы, побрели за учительницей. Выйдя в коридор, я старалась не смотреть в сторону сцены, но не могла удержаться и сквозь слёзы увидела зелёные шторы с блёстками и длинные ряды скамеек, на которых подпрыгивали от счастья и нетерпения хорошистки и отличницы. Портфель оттягивал руку: в нём лежал табель, где в графе «арифметика» стояла тройка. Единственная тройка в четверти, лишившая меня спектакля, счастливого возвращения домой и безмятежных зимних каникул. Оставалась одна неделя до нового, 1949 года. Я вышла из школы и, ни с кем не прощаясь, пошла домой. Во дворе встретила маму, которая в честь моих каникул пораньше ушла с работы. Увидев мою физиономию, она стала меня тормошить и допрашивать. Я достала табель, показала тройку и всё рассказала. На следующий день мама, придя с работы, подозвала меня к столу и, поставив на стол сумку, спросила: «Что в сумке, догадайся?» В сумке лежали билеты – целый ворох театральных и пёстрых ёлочных. Начиналась новогодняя вакханалия, в которую были втянуты все: бабушка, дедушка, мама и даже мамины подруги. С мамой я ходила на оперетту, с дедушкой – на оперу, с бабушкой – на драму и на все ёлочные представления.
«С Новым Годом, край любимый, Наша славная страна!» – вещали золотые буквы на билете, приглашающем на ёлку в Дом пионеров. На том же билете красовался молодой 1949 год в тулупе и шапке-ушанке, бегущий на лыжах навстречу Деду Морозу с заплечным мешком. А из мешка торчала книжка Гайдара «Тимур и его команда». Билеты можно было изучать бесконечно.
Взгляни на этот праздничный билет
При электрическом и ярком свете.
И если ты теперь потушишь свет,
Огнями вспыхнет ёлка на билете.
Эти стихи были напечатаны на обратной стороне билета в Колонный зал Дома союзов. А на лицевой – розовощёкий, ясноглазый пионер в красном галстуке, белой рубашке и синих штанах с лямочками держал пылающую звезду. Алый стяг, алая звезда, алые щёки – светло, ярко, празднично.
Праздник начинался с утра. Я выходила во двор с пригласительным билетом в руках и показывала его дворовым ребятам. Они приносили свои и спорили, чей лучше. Однажды я вынесла во двор свой самый нарядный билет на ёлку в ЦДРИ. Он был с секретом. Стоило его раскрыть, как вырастала пушистая елка в гирляндах, выбегали звери из чащи, выезжал Дед Мороз на санях, а в санях сидела Снегурочка. И надо всем этим в звёздном небе парил лик Сталина. Билет пошёл по рукам. «Ну-ка, дай посмотреть», – сказал сосед Юрка Гаврилов, к которому я была неравнодушна с того самого дня, как он приехал из Суворовского училища домой на каникулы. Я с готовностью протянула ему билет. Юрку обступили ребята. Они долго вертели билет и шептались. «Поди сюда», – наконец позвал Юрка, стоявший возле моего подъезда. «Дотронься языком до ручки». «Зачем?» – удивилась я. «Дотронься и узнаешь». Я колебалась. «Дотронься, не пожалеешь, – уговаривал Юрка, – она сладкая. Все уже попробовали». Мне очень хотелось ему угодить, и я коснулась языком ледяной металлической дверной ручки. Был сильный мороз, и язык мгновенно примёрз к металлу. Юрка и ребята, гогоча, бросились врассыпную. Я с трудом оторвала язык от ручки, на которой остались следы крови, и пошла домой, начисто забыв о билете и о ёлке. А когда наступил вечер и бабушка стала меня торопить, я поняла, что ёлки не будет, – Юрка убежал с билетом. Сказав, что билет потеряла, я легла спать, накрылась с головой одеялом и заплакала. Плакала долго, вытирая нос наволочкой, и наконец уснула.
А назавтра снова ёлка. И не где-нибудь, а в Доме союзов. В те годы на ёлку пускали со взрослыми. И было так сладко, держась за бабушкину руку, входить в огромный тёмный зал, где тихо звучала музыка и летали снежные хлопья. Я садилась на своё место и озиралась. Зачарованные волшебной метелью зрители разговаривали шёпотом. И вдруг – яркий свет, громкий голос ведущего: «Представление начинается!» Мой любимый номер – танец бабочки. На сцену выпархивает танцовщица в чём-то однотонно-белом и воздушном. Она танцует, кружится. Поворот – и наряд становится голубым, поворот – пёстрым, потом шоколадным, жёлтым. Лучи прожектора неотступно следуют за бабочкой, меняя цвет её крыльев. И каждое преображение сопровождается всеобщим «ах». Но вот лучи гаснут, и на сцене снова танцовщица в однотонном белом наряде. Был ещё один номер, которого я всегда ждала с нетерпением: борьба двух нанайцев. Два крошечных человечка, сцепившись, пытались всеми правдами и неправдами уложить друг друга на лопатки. Они стремительно передвигались по сцене, падали, поднимались, забивались в угол, катались по полу.
В зале стоял гул: дети хлопали в ладоши, подпрыгивали, давали советы. И вдруг – один из человечков взлетал в воздух – перед зрителями в последний раз мелькали его валенки и шубка – и исчезал. А вместо нанайцев появлялся растрёпанный и вспотевший молодой человек, на руках и ногах которого красовались знакомые валенки. Зал на секунду замирал и разражался громом аплодисментов. И сколько бы раз ни показывали этот номер – эффект был тот же: гул болельщиков, потрясённое молчание, гром аплодисментов.
После концерта все бежали к гигантской ёлке, чтобы присутствовать на торжественной церемонии зажигания огней. Громовой голос Деда Мороза: «Раз, два, три – гори», удар его посоха – и ёлка сияет. Дружное «ура», всеобщий хоровод и наконец вопрос Деда Мороза: «Кто почитает стихи?» Ну конечно же, я. Я знаю столько стихов, что могу читать бесконечно. Выхожу и читаю: «У москвички две косички, у узбечки – двадцать пять» или «Счастливая родина есть у ребят, и лучше той родины нет». Или «Потому что в поздний час Сталин думает о нас». Дед Мороз берёт меня на руки и дарит гостинец с ёлки. Дальше – танцы. Я всегда была снежинкой в белой юбке и белом кокошнике и пыталась танцевать что-то неизменно воздушное. На одной из ёлок ко мне подошёл принц в узком трико и золочёной куртке. На его голове красовалась маленькая блестящая корона. Он пригласил меня на танец и не отходил весь вечер. Мы вместе пошли получать подарки, и когда мой бумажный пакет порвался и по полу покатились мандарины и посыпались конфеты и пряники, он бросился собирать. В раздевалке мой принц аккуратно положил на столик возле зеркала всё, что подобрал с пола: вафли, мандарины, печенье, – и пошёл одеваться. Я чувствовала себя Золушкой на балу и от волнения и спешки не могла попасть в рукава кофты. Скорей, скорей, он ждёт. Всё. Я готова. Где же он? Оглянувшись, я увидела возле себя высокую стройную девочку. Лицо её показалось мне знакомым. «Меня зовут Таня», – сказала она, протянув мне руку. «Это твой принц», – засмеялась высокая молодая женщина, очень похожая на Таню – Танина мама. Мы пошли к выходу. Бабушка беседовала с Таниной мамой, а Таня пыталась говорить со мной, но я почти не слышала и отвечала невпопад. У троллейбусной остановки мы простились. По дороге домой я почему-то всё время повторяла про себя стихи, напечатанные на пригласительном билете:
Говорят: под Новый год
Что ни пожелается —
Всё всегда произойдёт.
Всё всегда сбывается.
Очень часто мои зимние каникулы затягивались из-за болезни. В конце каникул у меня обычно заболевало горло или ухо или распухали желёзки, поднималась температура, начинался жар, и я с удовольствием укладывалась в постель. Однажды я обнаружила, что стою на столе и, показывая рукой на стенку, шепчу: «Красный бант, на стене красный бант». Мама и бабушка испуганно жмутся друг к другу. «Соглашайся, – шепчет бабушка, – когда ребёнок бредит, надо соглашаться». Что было дальше – не помню. Потом узнала, что болела скарлатиной. Детская болезнь – это блаженство. Это – жар и лёгкое головокружение. Это – обеспокоенная и заботливая мама, которая не уйдёт на работу и будет варить кисель и ставить горчичники. Болеть – это значит лежать в постели в тёплых носках и ходить в туалет в валенках. Болеть – это значит мне будут читать, а когда спадёт температура, на постели появятся книги, карандаши и альбом для рисования. Болеть – это значит пить сладкую микстуру от кашля, которую выпишет районный врач Бухарина, замечательный детский врач, добрая и вечно усталая пожилая женщина, внезапно и навсегда исчезнувшая где-то в начале пятидесятых. Как я потом узнала, её посадили из-за несчастной фамилии, хотя она никакого отношения не имела к «врагу народа».
Когда я заболевала, я пыталась вспомнить всё, что видела за время зимних каникул, и в голове моей была каша. Я отлично помнила «Двенадцать месяцев» и «Синюю птицу», потому что видела их сто раз и готова была смотреть еще столько же. В «Синей птице» мне больше всего нравились потустороннее царство и Насморк, который в образе молодой женщины с распухшим красным носом бегал по сцене и непрерывно чихал. А в «Двенадцати месяцах» я любила сказочника в полосатых брючках. Он выходил перед каждым действием и, забавно подпрыгивая, приговаривал нечто вроде «бимс-бамс-буры, буры-базилюры». Ещё я помнила пьесу «Снежок», которую смотрела с бабушкой в ТЮЗе. Снежком звали бедного негритёнка, угнетённого и забитого. Его мучили и притесняли белые янки в ненавистной Америке. Как мне хотелось спасти мальчика, выкрасть его, привезти в Москву, поселить у себя, обогреть и утешить! По дороге домой мы с бабушкой строили многочисленные планы по спасению мальчика и посылали проклятье Америке.
Но что же ещё я смотрела? Ведь я ходила в театр почти каждый день. Отлично помню, как мы с дедушкой случайно сели не в свой ряд и как дедушка, к моему ужасу, легко и быстро перешагнул через спинку одного и другого кресла и оказался в нужном ряду на наших законных местах. Помню, как он предложил мне последовать его примеру и как я, ни на кого не глядя, пошла вдоль ряда, от смущения наступая людям на ноги. Но что мы с ним смотрели, так и не вспомнила. Я пыталась восстановить всё с самого начала и вдруг отчётливо увидела школьный коридор, зелёные шторы с блёстками и большой плакат, где витиеватым почерком было написано «АЛИ-БАБА и сорок разбойников» – самый интересный, самый желанный и самый недоступный спектакль, запретный плод моего детства.
Мёртвый час
Что за страсть такая – вспоминать, вспоминать? Летний день. Мой самый первый день в детском саду на даче в Расторгуеве. Нас укладывают спать на улице. Расставлены и застелены раскладушки. «Быстро лечь. Считаю до трёх. Раз, два…» – командует воспитательница. Залезаю под одеяло и ложусь на казённую подушку с полустёртым фиолетовым штампом: «Детсад ф-ки «Парижская Коммуна»». Тоска. Тоска. Мама далеко, в Москве. Кругом все чужие. И этот ненавистный «мёртвый час» – дневной сон средь бела дня при ярком солнце. Мимо ходят взрослые, негромко переговариваясь друг с другом. Приехала «новенькая». Она опоздала. Её накормили обедом и разрешили не спать. У неё неправдоподобно писклявый голос. Она говорит со своей мамой, которая даёт ей последние наставления, называя «птенчиком». Я с завистью слушаю писк «птенчика» и смотрю вверх на тонкие верхушки деревьев, которые покачиваются и скрипят. И постепенно к чувству тоски примешивается что-то ещё: ощущение новизны, голубизны неба, белизны берёз, запах травы, леса, чистого белья; головокружение от плывущих облаков, колеблемой листвы, качающихся вершин; чувство сиротства, заброшенности в текучем, впервые обнаруженном пространстве, где ты один на один с небом, деревом, ветром; чувство покинутости всеми и причастности неизвестно чему. Господи, сколько надо потратить слов, которых я и не знала тогда в свои шесть лет, чтобы в результате так и не смочь передать и малой доли того, что чувствовала.
Расторгуевское лето сорок шестого богато такими «открытиями». Дождливое утро. Гулять нельзя. Нас усадили за длинный стол на терраске, раздали карандаши и белую бумагу. Дождь стучит в окно, все старательно рисуют, сопя и хлюпая носами. Воспитательница, сидя в углу, точит запасные карандаши. Карандашная стружка пахнет лесом, грифель истончается, растёт цветная горка свежеоточенных карандашей. Я умела рисовать лишь несколько вещей: солнце, похожее на ромашку, избушку с традиционной треугольной крышей, человекообразное существо с косой, ягоду, дерево, гриб. Но, несмотря на скудость сюжетов, я извела много бумаги, наплодив уйму разноцветных миров, а аппетит всё рос и рос. На какое-то время рисование стало моей страстью. То и дело, найдя лист бумаги и карандаш, я принималась рисовать, желая испытать созидательный «раж» того дождливого утра. Но раж не повторялся. Может быть, недоставало рисующих соседей, может быть, растущей горки карандашей, может быть, дождя за окном. Но навсегда осталось томление по сосредоточенной тишине, рождающей миры.
Всматриваюсь в давние мгновения, как в старые снимки. Вот один из них: дети в трусах и майках сидят кружочком на траве, а в центре женщина в белом халате. Это Кира Ивановна, наш музыкальный работник. Она обладала чудесным прибором, который всегда приносила с собой на занятие и ставила возле себя на табуретку. В начале урока она, ударив по прибору специальным молоточком, извлекала из него звук, который немедленно подхватывала. «Ля-я– я», – пела Кира Ивановна, делая нам знак рукой повторять за ней, «ля-я-я», – старательно басили и пищали мы. Кира Ивановна снова ударяла по камертону и ещё настойчивее тянула своё «ля». Затем она подходила к каждому и, присев на корточки, приближала ухо к самым ребячьим губам. «Ля-я-я.» – шептали робкие. «Ля-я-я!..» – кричали смелые. Она обходила всех и, казалось, вытягивала из нас душу вместе с этим звуком. Наконец, то ли отчаявшись, то ли удовлетворившись, она приступала к занятию.
Однажды Кира Ивановна сказала, что к родительскому дню нам нужно подготовить большой концерт: песни, пляски, игры. «Учим новую игру», – объявила она. – «Цапля и лягушки». Ну-ка покажите, как прыгают лягушки на болоте. Так. Молодцы. А теперь идёт цапля. Лягушки, прочь по домам. Валя, пройдись как цапля». Валя Баранова, миниатюрная, длинноногая, пошла, разведя руки в стороны и высоко поднимая колени. «Так. Тяни носочек. Умница. Вот ты и будешь цаплей. Наденешь крахмальную юбочку, как у балерины. Кто скажет, как называется такая юбка?» «Пачка», – первая отвечает Валя, которая занимается балетом и всё про это знает. Я смотрю на Валю с завистью и восторгом. Как бы я хотела быть на её месте. Я всегда мечтала стать балериной и приставала к маме, чтоб меня учили танцам. Мама куда-то меня водила и кому-то показывала. Не помню, куда и кому, но помню, что пожилой мужчина постучал по моим коленкам и сказал: «Да что это за Кощей Бессмертный? Вы сперва её откормите, а уж через годик приводите». Но через год меня записали в соседнюю музыкальную школу и решили, что этого хватит. И вот концерт, цапля, пачка… Я ни о чём больше не могу думать. Убегаю в укромное место и репетирую: хожу, разведя руки в стороны, высоко поднимая колени и оттянув носок. Близится родительский день. Валя уже примерила пачку. Что делать? «Бабуля, – шепчу я бабушке, которая работала в том же саду завпедом и иногда заходила в нашу группу, – бабуля, попроси Киру Ивановну, чтоб было две цапли на болоте». «Какие цапли? На каком болоте?» – не понимает бабушка. Торопливо и сбивчиво объясняю ей, в чём дело, но бабушка категорически отказывается по блату устраивать внучку цаплей. Однако через два дня она пришла в группу с чем-то воздушным в руках. То была юбка, которую она спешно для меня сшила. Зажав во рту булавки, бабушка давала мне невнятные команды, что-то подкалывая и подправляя. Я всё выполняла как во сне, не помня себя от счастья. «Зашиваю, – приговаривала бабушка. – Держи палец на лбу, а то пришью память».
Настал родительский день. Вокруг большого поля стоят длинные ряды скамеек. Те, кому не хватило места на скамейках, сидят прямо на траве. Ко мне приехала мама и привезла гостинцы. Но я ничего не вижу вокруг себя. Я жду своего «выхода». Вот заиграл аккордеон, и запрыгали лягушки. «Цапли», – кричит ведущий. С двух сторон на поле выходим мы с Валей. Господи, какое длинное поле. Иду, иду, а оно не кончается. Машу руками, высоко поднимаю ноги, которые меня не слушаются, а оно всё тянется и тянется. Наконец, ура! Поле кончилось. Меня подхватывает мама, целует и суёт в рот конфету. А через некоторое время в группу принесли фотографии нашего концерта: медведи, зайцы, бабочки, Кира Ивановна. А вот цапли. Но неужели это я? Рот приоткрыт, руки деревянные, плечи подняты до самых ушей. А главное – ноги с загнутыми внутрь носками. Косолапая цапля! Смотрю на снимок и не могу поверить своим глазам. Мне-то казалось, что я балерина. Зачем же мама так целовала меня? Это было моё самое первое в жизни сильное разочарование. «Нечего голосить, ты не первая и не последняя», – говорила нянечка молоденькой роженице в роддоме. «Не последняя» – это правда. Но разве «не первая»? Первая!
Каждый из нас великий исследователь, первопроходец, открыватель земель и морей. И неважно, что море, открытое мной, уже имело имя, что в нём плескались купальщики, его бороздили корабли. Оно – моё. Я открыла его в первое послевоенное лето в городе Сочи, куда мы с мамой приехали навестить моего дядю, он лежал там в госпитале. Только что кончилась война. Тёплый летний вечер. Мама загорелая, в свободной черной пижаме с цветком магнолии в волосах. Дендрарий: пальмы, цветы, кипарисы. Как-то, гуляя в дендрарии, мы услышали нерусскую речь, произносимую тонким детским голосом, музыку, смех. Что это? Пошли на звук и вышли на поляну, где под открытым небом шёл мультфильм про оленёнка, которого учили ходить. Его непослушные ноги разъезжались, и он падал. Может быть, это был «Бэмби»? На скамейках перед экраном сидели зрители: в основном раненые из госпиталя, их друзья и родные. В темноте белели бинты, вспыхивали огоньки сигарет, мелькали светлячки, пахло табаком и магнолией, в южном небе горели звёзды, а где-то, неведомо где, во тьме, в глубине плескалось море. Мой самый первый, неповторимый юг – страна, которой больше нет ни в одной точке планеты.
На смену маме приехала бабушка. По утрам мы с ней ходили на пляж. Она была одержима идеей научить меня плавать. Однажды, когда я безмятежно вошла в море, она резво вбежала следом за мной и, обхватив меня поперёк живота, потащила всё глубже и глубже. Я стала захлёбываться и отбиваться. «Простофиля ты, дурачина», – кричала я, не зная иных ругательств, кроме тех, которые встречала в сказках Пушкина. Но моя энергичная и ещё молодая бабушка не отпускала меня, приговаривая: «Плыви. Я держу. Плыви!» Вода попадала мне в рот, я барахталась, рвалась прочь и, наконец поняв, что погибаю, закричала: «Братцы! Спасите!» И «братцы» ринулись спасать. Им это было непросто. На берегу находились госпитальные больные. Откликнувшись на мой призыв, они, кое-как, хромая, прыгая на одной ноге, опираясь на костыли, двинулись к морю. Растерянная и смущённая бабушка выпустила меня из цепких объятий и, взяв за руку, повела на берег, сопровождаемая недружелюбными и подозрительными взглядами. Так я и не научилась плавать в то лето.
…Приходилось открывать не только моря и земли, но и душу, чужую и собственную, её тайники и темноты. Снова Расторгуево. Лето. Но теперь я уже первоклассница. И потому живу не с детьми, а с бабушкой – в доме для персонала. Я часто ходила в младшую группу помогать взрослым укладывать детей. Там я чувствовала себя Гулливером среди лилипутов. Особенно во время «мёртвого часа», когда воспитательница отлучалась и я оставалась полновластной хозяйкой. «Всем закрыть глаза», – произносила я металлическим голосом. Дети повиновались и лежали не шелохнувшись. Только веки слегка вздрагивали.
Как-то раз девочка, испанка по имени Кармен, не спала и смотрела на меня широко раскрытыми чёрными глазами. «Кармен, закрой глаза. Считаю до трёх», – приказала я. Но глаза не закрылись. «Не будешь спать, поставлю возле кровати». Кармен смотрела на меня. Я подошла и вынула из постели лёгкое тельце в трусиках и майке. У маленькой испанки была наголо обритая, искусанная комарами и смазанная зелёнкой голова. Девочка стояла покорно и тихо. Я уложила её в постель и потребовала: «Закрой глаза». Кармен смотрела на меня. «Ах, так?! – не унималась я. – Тогда пойдём. Я выброшу тебя за забор». Я схватила малышку на руки и понесла вон из спальни, пройдя между рядами окаменевших, насмерть перепуганных детей. Подтащив девочку к забору, за которым лежала куча угля, я начала раскачивать её, делая вид, что вот-вот брошу за забор. «Раз, два, три», – считала я. Девочка молчала, только слегка прижималась ко мне, глядя печальными чёрными глазами. «Что ты делаешь?» – услышала я перепуганный крик воспитательницы. «Она не хочет спать, – оправдывалась я, – не слушается. Глаза не закрывает». «Вот ещё командирша на мою голову. Заставь дурака богу молиться…» – сердилась воспитательница, выхватив девочку из моих рук.
Больше на меня никогда не оставляли детей, но я часто приходила в группу, чтоб увидеть Кармен. «Эй, Карман, – кричали дети. – Иди. Тебя ищут». Кармен тихо подходила ко мне и молча смотрела. Я протягивала ей яблоко или конфету, но она стояла не шелохнувшись. Тогда я сама вкладывала ей в руку свой гостинец. Я пыталась говорить с ней, но, не зная, что спросить, задавала одни и те же дурацкие вопросы: «Как тебя зовут?» «Кармен», – еле слышно отвечала девочка. «А у тебя мама-папа есть?» «Есть», – шептала она. Я ни разу не видела Кармен смеющейся, плачущей, оживлённой. Она осталась загадкой для меня. Да и я сама была для себя загадкой: что я хотела от неё? Зачем я её мучила? Сколько раз со стыдом и недоумением вспоминала я тот давний «мёртвый час». Помню, что, вернувшись с дачи, надеялась найти Кармен в Москве. И даже приходила в дом, где жили рабочие обувной фабрики «Парижская Коммуна», среди которых было несколько испанских семей. Смутно помню тот дом и те семьи. Даже по сравнению с другими коммуналками, их жильё казалось мне сырым и убогим. Но Кармен среди них не было.









































