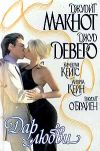Текст книги "Золотая струна для улитки"

Автор книги: Лариса Райт
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
18
– Пойдем в комнату, там теплее, – гнусавит Андреа, плотнее закутываясь в махровый халат.
– Пойдем, я здесь потом сама уберу, ты ложись. – Алла отодвигает чашки с недопитым чаем. – Где тебя так угораздило? На работе продуло?
– Нет, – заходится в кашле… – под Биг-Беном.
– Где?
– На Пушкинской.
– На скульптуры ходила смотреть? Ну наконец-то выползла! – радуется Алка. – И какой он?
– Ледяной и без циферблата. Ничего интересного, как я и думала.
– А по-моему, ничего.
– Вот именно. Ничего. Растает и испарится без следа. Странное занятие – строить ледяные скульптуры. Несколько дней радости – и все, одни воспоминания.
– Бывает, некоторым суждены лишь минуты счастья. И они потом всю жизнь благодарны, – философски замечает подруга. – А ты как хотела?
– Я хотела, чтоб навсегда.
– Так не бывает.
– Бывает…
– Неужели так бывает, Анди?
Пас недоверчиво смотрит на младшую сестренку. Прошло целых три года с момента их последней скоропалительной встречи. Все это время каждая жила своими проблемами. Пас – постоянным появлением детей, Андреа – их отсутствием. А ведь до замужества старшей они были очень близки. Теперь младшая пытается восстановить утраченную душевность. Она только что прошла в последний тур международного конкурса и доехала, наконец, до Мадрида взглянуть на «свежерожденного» племянника.
– Что тебе кажется удивительным? – не понимает Андреа. Она покачивает коляску с хрюкающим Марио-младшим, мысленно примеряя на себя роль матери, и с улыбкой наблюдает за двухлетней Марией, которая увлеченно готовит песочную кашу.
– Все, Анди. Абсолютно все. Твой отъезд, конкурс, Дим, Россия. Россия! – повторяет Пас с таким ужасом, как будто Андреа уехала на необитаемый остров работать Пятницей у господина Крузо. – Может, вам переехать сюда? Для гитаристов здесь столько же возможностей, если не больше.
– У Дима группа, концерты. Языки ему не даются. И потом, это я играю испанскую гитару, Дим нет.
– Вот именно, ты играешь испанскую гитару, а живешь где?
– С мужем живу. И потом, тебе ли меня поучать? Ты тоже собиралась совершать открытия, производить элементы, а производишь… – Кидает красноречивый взгляд на коляску.
– Да, теперь не до открытий… – грустно вздыхает Пас.
– Ты могла бы дома попробовать. Микроскоп же стоит мощный.
– Микроскоп-то стоит, только разглядывать в него мне, кроме кишечной палочки младенца, нечего. Все пробирки Марио давно забрал в лабораторию, подальше от детей и от греха. Я ничего не могу: ни задачу решить, ни опыт провести.
– Ну, знаешь! – укоряет Андреа. Она не тот собеседник, которому можно пожаловаться на наличие детей. – Во-первых, это твой выбор, во-вторых, ты каждый день решаешь целую кучу стратегических задач: во что одеть, чем накормить и как развлечь. Ну, а в-третьих, у тебя целая куча подопытных кроликов. Экспериментируй, не бойся! Потом поделишься результатами.
Пас не разделяет энтузиазма сестры, не поддерживает шутки.
– Я просто не хочу, чтобы ты повторила мою ошибку. Не растворяйся в мужчине.
– Я и не растворяюсь. Видишь, на конкурс приехала.
– Приехала. Первый раз за три года домой заглянула! Куда ты сбежала, Андреа? Зачем?
– За счастьем.
– Нашла?
– Нашла.
– Если бы нашла, не сорвалась бы опять на конкурс. Сидела бы в Москве, говорила бы по-русски и смотрела испанские сны. А гитару бы на стенку повесила.
– Да я никогда не собиралась вешать гитару на стенку. Какая муха тебя укусила?
Пас молчит, хмурится. «Интересно, – думает Андреа, – я тоже стану такой грымзой-всезнайкой, когда рожу троих?» Пас вроде бы не сильно изменилась: такая же миниатюрная, как Андреа, те же непослушные кудряшки, только выкрашенные ядреной смесью «Пепельный блондин», упрямый покатый лоб, вздернутый подбородок. Все, как прежде – и все совершенно не так. Пас устала, сдалась, поблекла. Миниатюрность смотрится худобой, кудряшки не блестят и не прыгают при ходьбе, по лбу расползаются глубокими лучиками первые дорожки морщин, а вздернутый подбородок отчетливо говорит об утомленной покорности. Для женщины, родившей троих детей, Пас выглядит прекрасно, но изменения, произошедшие с ней, катастрофичны и необратимы. Она перестала быть собой, потерялась в огромном доме среди игрушек, горшков и распашонок, забыла о личном, потаенном, интимном. Пас счастлива, потому что должна быть счастлива. Она делает то, что должна, а не то, что хотела бы. И выдает, как заезженная пластинка, чужие мысли за свои.
– Постой, – вдруг понимает Андреа. – Вы что, все так думаете? Раз я опять устремилась к лучам славы, значит, у нас с Димом что-то не так? Ты выражаешь общее семейное мнение?
– Не кричи! Разбудишь Марио. Я выражаю общее семейное беспокойство о судьбе блудной дочери.
– Ну так приехали бы хоть кто-нибудь да посмотрели, как блудная дочь живет. Успокоили бы свое беспокойство.
– Не говори глупостей! – Пас забирает у Андреа коляску, поправляет младенцу одеяльце, заботливо проверяет, теплый ли носик. Машет рукой Марии и поднимается со скамьи. – Ну сама посуди, куда я поеду…
Контакта не получается.
19
Не получается у него с этой пациенткой контакта. Она, будто змея, изворачивается и выскальзывает. То позволяет подобраться к разгадке, просит о помощи, подбрасывает ключи. То вдруг лихорадочно спешит заползти под какой-нибудь неподъемный камень, чтобы ее ни в коем случае не обнаружили, не потревожили, не заставили ползать, двигаться, извиваться. Зачем она вообще приходит? Вот и сейчас он задал вопрос, а она словно не слышит. Пропустила два сеанса из-за болезни – и все, что было с таким трудом наработано, коту под хвост. А прогресс явно наметился. Небольшой, но все-таки. Аллочка сказала, она ходила на выставку. Значит, восстанавливается потребность в развитии, в движении, в социуме, наконец. А она красивая, эта маленькая испанка, необычная, уязвимая. Все, что нужно, – вернуть хоть немного призывного блеска в глаза, и жизнь наладится. Он это отлично понимает, и она понимает, он в этом уверен, просто не хочет, нарочно сдерживается, сопротивляется по одной ей известной причине. Нет, она же не страдает аутизмом. Нормально разговаривает с людьми, с Аллой даже дружит, наверное (или Алла с ней?), на работу ходит. Кто она? Переводчик? Так, может, она просто разговаривать устала и в его кресле расслабляется, отдыхает? Хотя нет, что там, в мебельном салоне, переводить? Все общение с поставщиками нынче в электронном виде. Сидит, поди, перед монитором да письма строчит. Как с ней разговаривать? О чем? О музыке он теперь не решается. О книгах? Он спрашивал, она не говорит, что читает. Может, о мыслях? Она ведь постоянно в себе, что-то прокручивает, прослеживает, проживает заново.
– Так о чем вы думаете, Анечка? Снова секреты?
Андреа переводит взгляд на врача. Как он, бедный, с ней мучается! И с той стороны зайдет, и с этой – а все без толку. Она, конечно, может сказать. Здесь нет тайны. Только чем он поможет? Андреа слегка пожимает плечами и позволяет тени ободряющей улыбки мелькнуть на своих губах. Карлович с профессиональной ловкостью хватается за соломинку, придвигается ближе и участливо спрашивает:
– Вас что-то беспокоит?
Андреа отрицательно качает головой и выжидающе смотрит.
– Кто-то?
Утвердительный кивок.
– Мужчина? Женщина? Анечка, вы меня заинтриговали.
– Она больше не приходит.
– Кто?
– Девочка. Она больше не танцует, понимаете? А она должна. У нее дарование, понимаете? Редчайший талант. А она не приходит.
Кто не приходит? Куда не приходит? Что за бред!
– Почему не приходит?
– Я… Я не знаю… Могу только предположить, что…
– Может быть, она заболела.
– Я как-то не думала об этом…
– Так подумайте. Найдите причину.
Андреа думает. Она уже месяц думает. Она даже вернулась на старый наблюдательный пункт и вышагивает на морозе положенный час, хотя за стеклом сиротливо оттачивает па лишь одинокий педагог. Что-то не дает Андреа уйти, остаться безучастной. Сегодня она наконец решается. Она хочет узнать.
– Простите. Ваша ученица, лет десяти. Она обычно занималась в это время.
– Наташа?
– Да. То есть, наверное… В общем, я не знаю… Та девочка, что гениально танцует фламенко. Где она?
– Надеюсь, пытается кое-чему научиться…
– Чему? – Андреа надеется, что ей назовут адрес, где юное дарование совершенствует свою пластику.
– Умению преодолеть себя.
– Значит, она не занимается хореографией…
– К сожалению…
– Извините, я… Я просто видела, что произошло между вами. Конечно, это не мое дело, но может, вам вернуть девочку, поговорить с ней? В ее ногах столько музыки, столько счастья, столько гармонии… А про руки она сама потом поймет.
– Потом может быть поздно.
Андреа понимает, что преподаватель права.
– И конечно, это не ваше дело. Но раз так интересуетесь, отвечу: с Наташей я разговаривала. Она категорична в своем решении: никакой хореографии, а я не вижу смысла продолжать занятия, если девочка не займется пластикой. Мы говорили с ней. И я, и бабушка. Бесполезно.
– А родители?
– Родителей нет.
– Может быть…
– Извините, я занимаюсь.
– Да-да, конечно.
Андреа выходит из класса, беспомощно опускается на скамейку, на которой раньше так уютно мелькала спицами бабушка юной танцорки. Теперь она знает причину, но от этого знания только хуже. Что остается? Ждать и надеяться? Хуже не придумаешь. Сколько девочке лет? Десять? Девять? До переходного возраста еще далеко, а такая категоричность! Может, узнать адрес, поговорить с ней? Что за странные мысли? Станет она слушать незнакомую женщину? И какое дело Андреа до этой малышки? Почему она ее так волнует? Карлович, определенно, нашел бы ответ. Может, это сама Андреа замкнула круг, наставила препятствий и не желает преодолевать их или не хочет преодолеть себя? Может, это она забыла о своем предназначении, опустила руки, сдалась, стала похожа на Пас и заставляет себя быть несчастной? Кто самый несчастный из людей? Конечно, тот, кто считает себя таковым. Неужели Андреа опустила голову, навсегда отстегнула крылья? Надо что-то сделать, куда-то бежать, найти ее, вернуть девочку в зал. Нет, что за ерунда! Нет ей никакого дела до чужих проблем, до незнакомых людей. Почему же эта танцовщица кажется ей такой знакомой? Неважно. Ей вообще ни до кого нет дела. Хотя это не совсем так.
…Говорят, весна уже на подходе? Только не у меня. Здесь все одним цветом, одним словом, одним днем. Даже не знаю, как назвать это состояние…
Иркутский пленник – в раздумьях, а у Андреа готов ответ:
…Не грустите, это межсезонье. Оно холодное, медленное, вязкое, но не вечное…
В следующем выпуске газеты вопрос:
Как переждать эту нескончаемую вечность?..
Ответ:
Пишите стихи, у Вас хорошо получается…
Собеседник молчит три недели, Андреа ждет возвращения танцовщицы. Девочка не приходит, зато прилетают сибирские строки:
Вязкое и холодное
Межсезонье болотное.
Некрасивое, неуютное,
Бесконечное и безлюдное.
Сиротливое, одинокое,
Молчаливое и глубокое,
Постоянное, вездесущее,
Бесконечное, всемогущее.
Безнадежное, бессердечное,
Бесконечное, но не вечное…
Конечно, не вечное. Его межсезонье закончится, как только захлопнутся за спиной тюремные ворота. А Андреа? Когда она выйдет из тюрьмы? Освободится от добровольного заточения, подарит себе забвение?
– Пойдешь обедать? – Это Лидочка, секретарь. Хорошая девочка. Записалась на курсы языка, и иногда Андреа разговаривает с ней по-испански.
– Пойдем.
– Читаешь прессу на рабочем месте?
– Скорее изучаю психологию.
– Чью? – Лидочка пытается с любопытством заглянуть в газету, но Андреа закрывает страницы.
– Да так, свою.
Андреа снимает пальто с вешалки. Зачем только она его надела? Конечно, уже не холодно. Зато в привычном пуховике уютно, тепло и как-то отстраненно. Она не любила пальто, оно требовало соответствия: высоких каблуков, расправленных плеч, прически, мордашки. От каблуков у Андреа болели ноги, от всего остального – душа. Так они и существовали отдельно друг от друга: пальто и Андреа. Так оделись, так доехали до работы, так вышли на обед.
– Тебе нужен другой шарф.
– Что?
– Этот к пальто не подходит, – смущенно стоит на своем Лидочка. – Знаешь, сейчас такие широкие продают типа шалей. Можно подобрать подходящий. Хочешь, помогу?
– Нет, спасибо, я как-нибудь сама.
– Ну, как знаешь.
– Ну, как знаешь! – Дим с сомнением качает головой. – Я бы все же играл классику.
– Но почему? – Андреа откладывает дредноут. Он что, не верит в ее возможности?
– Потому что классикой ты получила Гран-при в Кракове.
Муж складывает чемодан. Едет на гастроли с новеньким Samsonite. У него вообще все новенькое: машина, квартира, альбом. Только жена старенькая со своими стремлениями к всемирной славе. Крепко все же с ней отец поработал. Ладно. Пускай. Чем бы дитя ни тешилось…
– Вот именно. – Андреа вскакивает с дивана. – Получила Гран-при. Это уже пройденный этап. Неинтересно, понимаешь?
– Понимаю, – Дим взглядом усаживает ее на место, – но и ты пойми. Я не хочу, чтобы ты разочаровывалась, чтобы не оправдались ожидания. Что ты можешь ждать после главного приза? Только еще один главный приз, верно?
– Верно, – нехотя признает Андреа свои амбиции.
– Вот. А женщина и испанская гитара…Ты уж меня извини.
– Не вижу разницы между твоей фразой и фразой «женщина и гитара». То же самое, но я выиграла конкурс. И раньше ты так не говорил.
– Не говорил, потому что ты играла классику.
– Не говорил, потому что я играла то, что играю хуже тебя. А сейчас я хочу быть собой.
– Не говори ерунду, Анди! Ты играешь испанскую музыку в тысячу раз лучше меня. Ты гений, я знаю это. Но как доказать другим?
– Играть.
– Можно сто лет играть и никогда не выиграть.
– А можно не играть и навсегда остаться в проигрыше.
– Мужской мир жесток. Особенно в музыке, Анди. Я просто хочу предостеречь.
– Я знаю, милый. Давай посмотрим на это с другой стороны. Возьмем рок-музыку. Разве мало женщин, играющих на гитаре? Сюзи Кватро, Кортни Лав, Шерил Кроу, Аврил Лавин, Алланис Мориссетт. А ваши? То есть наши: Земфира, Диана Арбенина, Янка. Всех не перечислишь. А сколько из них гениев, признанных мужчинами? Можно пересчитать по пальцам. Дженифер Батон, Линда Перри и еще парочка. А почему их признают мужчины?
– Потому что играют агрессивно, мужиковато.
– Играют так, как надо играть рок.
– Допустим.
– Вот и меня признают, потому что я звучу так, как должна звучать испанская гитара. Я играю не хуже Анабель Монтесинос[23]23
Знаменитая испанская гитаристка.
[Закрыть], и ты это знаешь.
– Ладно, Мария Луиза[24]24
Речь идет об Исабель Марии Луизе Анидо Гонсалес, великой аргентинской гитаристке ХХ в. (1907–1996).
[Закрыть]. Убедила. – Дим берет ладошки жены и нежно целует. – Твое упрямство – это диагноз.
Андреа горько усмехается. Диагноз у нее другой. Невынашивание. Логичный после шести неудач. Зоя говорит, надо радоваться безопасному сексу. Зоя – дура.
– Когда летишь?
– Ухожу через час.
– Пойдем. Перед уходом поешь.
– Эй, Андреа, поешь, – Лидочка трясет ее за руку. – Сидишь как истукан. Уже все остыло давно. Тебе тут не нравится? Там, куда ты раньше ходила, было лучше?
– Да. – Там, за углом, кафе, за стеклом которого пламенело фламенко, но Лидочке необязательно об этом знать.
– А чем там кормят?
– Живой водой.
20
– О чем ты думаешь, Марат? – Дебелая малярша Тоня лихо заправляет свои груди в безразмерный лифчик.
Что за дурацкий вопрос?! А женщины так и норовят влезть в корень, вывернуть наизнанку. Да ни о чем он сейчас не думает. Спасибо, Тоня, за эту возможность. Так хорошо было, ни одной мысли! Прекрасная, манящая пустота. Зачем все портить разговорами?
С Тоней все сложилось как-то быстро и просто, без уговоров, без льстивых слов, без намеков. Марат еще даже подумать не успел, а она пришла и все сама сделала. И продолжает делать уже полтора месяца.
С чего же все началось? Ах, ну да, с фисгармонии, конечно. На отделку приехала женская бригада, а прораб возьми и похвастайся инструментом да музыкантом. Марат отнекивался, но разве отвертишься от насквозь пропахших краской хохотушек? Всех ошеломил. А еще говорят, женщины стали разборчивые, до несметных богатств охочие. Да ничего подобного. Чуть душу потревожишь, и они уже глядят на тебя томными глазами. Молоденькая Нюра – та еще кокетка, до сих пор глазки строит, но Марат с такими не связывается. Сначала глазки, улыбки, потом – слезы и сопли. Татьяна лет тридцати с красивым, грудным голосом смотрит серьезно, многообещающе, но и требовательно. Шуры-муры ей не нужны, и так в девках засиделась. Заведет глаза поволокой и сверлит мыслями: только шагни навстречу, я уж тебя поймаю, заберу и руку, и сердце. Марат бы отдал, если б мог. Не на того Татьяна нацелилась. То ли дело Тоня, у нее в активе примерно на пятнадцать больше прожитых лет, отсутствие иллюзий и присутствие постоянного спутника в московской квартире. Никаких надежд, никаких обязательств. Марат – это так, праздник для тела. А место для совместного поедания борщей и просмотра сериалов прочно занято. Так с чего бы лезть в душу?
– Ни о чем, – буркает Марат привычный ответ.
– Я думала, скажешь, обо мне. – Странное, неподходящее жеманство. Тоне не идет.
– Я о тебе не думаю. – Жестко, но правдиво.
– Ясно. А о ком?
– Ни о ком.
– Ни о чем… Ни о ком… Скучная у тебя жизнь, Марат. Пустая. Только Мила и я. Я не твоя, а Мила – собака.
– Много ты понимаешь!
– Разве я не права?
– Нет.
21
– Разве я не права, Марат? – Женщина смотрит на него выжидающе. Марат не реагирует. – Надо что-то делать.
– А что?
– Не знаю.
– И я не знаю!
Откуда он может знать, что делать, если появляется дома от силы раз в месяц? Да и то помоется, поест, перекинется парой слов и обратно на объект. Он бы, может, и остался ночевать, но там, за городом – Мила. Если собаку сюда привезти, домочадцы, конечно, обрадуются, попросят оставить, Марат и оставит, а сам потом с ума сойдет от одиночества. Привык уже задушевные разговоры вести с лохматой дворнягой. Идеальный собеседник: слушает внимательно, не перебивает, ни о чем не спрашивает, не требует деталей и пояснений, не докучает жалостью, не обременяет советами. Тактичная волосатая жилетка с длинным хвостом и мокрым носом.
– Чему ты улыбаешься, Марат?! То, что происходит, ужасно. Она себе жизнь покалечит.
– Вы напрасно утрируете.
– Я не утрирую. Поговори с ней. Пожалуйста, поговори.
– Станет она меня слушать! Я ей никто!
– Был бы никем, не корячился бы на стройке! – Марату не по себе от этого испытующего взгляда, мягкого, укоряющего тембра.
– Ладно, как-нибудь.
– Как-нибудь… Конечно, как-нибудь. Как-нибудь, когда уже будет поздно.
– Чего вы от меня хотите? – неожиданно взрывается Марат. Тарелка отпрыгивает на середину стола, вилка летит на пол. – Чего? Я делаю все, что могу, и даже больше. У меня нет дома, нет быта, нет оркестра, наконец. Я почти не помню, кем был когда-то, но до сих пор дирижирую во сне. Посмотрите на мои руки. Трещины от мороза, мозоли, ссадины. Это ли руки музыканта? Отнюдь. Я уже сам поверил, что прошлая жизнь – сон, фантом, а сам я призрак из прошлого, который барахтается в настоящем, как в чане с дерьмом. И, наглотавшись вдоволь, пыжится изо всех сил, чтобы не захлебнуться. У меня был театр, была музыка, были зрители, эмоции. А теперь? Вместо театра – череда особняков, музыку заменил рокот дрелей и бой молотков. Зрители… Ну, на отсутствие зрителей я не жалуюсь. У меня есть один беспородный, зато благородный и благодарный. А вот эмоций почти не осталось. На кой они? Мне нечего теперь выражать. Коплю золотой запас. Знаете, каково это – смотреть телевизор, видеть сцену, представлять, что и ты мог бы, но… Я знаю. Поэтому не смотрю. Попадаю в город и стараюсь ни в коем случае не скользнуть взглядом по афишам. Вдруг там знакомые имена тех, кто смог, пробился, достиг? Что чувствуют люди, оказавшись в помещении, где только что отлакировали паркет? Отвращение, желание поскорее выйти. А я мечтаю, когда работы на очередном объекте дойдут до этого этапа. И я смогу вдыхать этот запах нового дерева, новой скрипки, гитары, виолончели. Буду слышать кантаты и фуги, проходить симфонии, отбивать марши. Думаете, легко изо дня в день съедать себя мыслью, что ты не там и не с теми? Сначала я ненавидел рабочих – за то, что вынужден находиться в их обществе, слушать пьяную ругань, бахвальство, тупые анекдоты. За то, что не о чем говорить с ними. Теперь я ненавижу себя. Ненавижу за эти мысли, за неискоренимый снобизм. А главное, за то, что эти работяги умеют слушать, слышать, понимать, тонко чувствовать, а еще строить дома, декорировать стены, вешать зеркала. А вот мне это ремесло не по зубам. Мои руки способны только рассекать палочкой воздух и извлекать звуки. Все. Я ни на что не гожусь! Вытащил себя из одной жизни, а в другой не живу. Я отброс общества, просиживающий штаны и непонятно зачем забивающий голову умными книжками за зарплату. И все это ради того, чтобы у нее все было. Ради ее желаний, ради вашего спокойствия!
– Мы об этом не просили, Марат. – У женщины в глазах слезы, подбородок дрожит. – Я умоляла тебя не делать этого. Не хотела принимать твою жертву. Я знала, что когда-нибудь ты попрекнешь меня…
– Простите, простите меня. – Марат обнимает собеседницу. – Не знаю, что на меня нашло. Я вовсе так не думаю и ни о чем не жалею. Я сделал выбор и уверен, что правильный.
– Ох, Марат. – Женщина отстраняется, промокает салфеткой глаза, поправляет седые волосы. – Я просто хочу, чтобы ты был счастлив, сынок. Чтобы мы все были счастливы.
– Как вы еще можете этого хотеть?
– Я же живой человек. Каждый ждет счастья.
«Вот оно что, – понимает Марат. – Я, оказывается, умер».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?