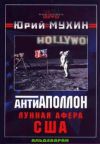Текст книги "Посредник"

Автор книги: Ларс Кристенсен
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
12
Я сидел за машинкой, ждал, что снова появится Хайди, а потому, конечно, не написал ни слова. Невозможно одновременно сочинять и ждать, даже когда ждешь самих стихов, понимай кто может, но я-то, конечно, мало-помалу понял. «Закат Луны» замер. Бумага начала желтеть. Выгорать на солнце. Я выдернул лист из машинки, вставил новый, напечатал заголовок и опять застрял. Хайди не приходила. Как я ни молотил по клавишам, не приходила. К счастью, шел дождь. По крайней мере, не услышу, как мама талдычит, что я должен пойти купаться, ведь летом все купаются, и, если я осенью приду в новую школу бледным, как покойник, все подумают, что на каникулы я никуда не ездил, а значит, у нас нет средств, а уж этого ей, понятно, совсем не хотелось. К тому же я полагал, что большинство на французской линии такие же бледные, и если я не буду достаточно бледным, то заключу с Тетушкой Соффен уговор заработать значок за плавание в уксусе. Выходил я только в туалет или спускался по утрам к почтовому ящику за газетой, а еще дважды в неделю приносил коробку с колониальными товарами, которую торговец ставил у калитки, и выносил пустую коробку, в смысле – когда полная пустела. Мама временами ходила к вдове Суета Гулликсен позвонить папе, узнать, как он себя чувствует. У него дела шли неплохо. Нога срасталась, но, вообще-то, больше всего пострадала стопа. Я все сидел за пишмашинкой и не писал. Мечтал только об одном – услышать визг ржавой калитки и увидеть на дорожке Хайди. Но слышал лишь грузовозы, такие тяжелые от цемента и железа, что шли они чуть ли не под водой.
Рано или поздно дождь кончился. Июль сидел в засаде. Надо бы говорить не «апрельский дурак», а «июньский». Небо обернулось тугой голубой скатертью. Я видел ее изнанку или лицо? Примерно так я размышлял. Смерть – белая скатерть, которую ты накрываешь с изнанки. Пустые стаканы и тарелки висят прямо над тобой, столовые приборы ищут твоих рук, салфетка падает на пол, ставший потолком. Примерно так я думаю до сих пор. Я вдыхал прозу и выдыхал метафоры. Но что проку? Только болели голова и живот. Потом сидеть в доме стало слишком жарко, особенно в мансарде. Клавиши-буквы на машинке едва не плавились. Откроешь окно – вообще дышать нечем. Мусорная корзина скоро наполнилась, а на странице по-прежнему красовался один только заголовок. Я пытался успокоить себя тем, что не могу закончить стихи, пока «Аполлон» не сел на бедную Луну, нельзя же писать авансом, это обман, ну а когда закончу, прочту вслух Хайди. Она первая услышит, самая первая. Я перебрался в шезлонг в узкой, бесценной тени за флагштоком и взялся за «Моби Дика». Что-то ведь надо делать. Мне не отвязаться от Ивера Малта, пока я не прочту эту книгу. Но я не справился. Прочел первую страницу и был вынужден перечитать ее еще раз. Прочел первую страницу и был вынужден перечитать еще раз. Прочел первую фразу и был вынужден перечитать еще раз. Зовите меня Измаил[3]3
Здесь и далее «Моби Дик» цитируется в переводе И. Бернштейн. – Примеч. перев.
[Закрыть]. Вместо чтения я принялся считать слова. Только на первой странице их оказалось 763. Сколько это букв? 2214. Не говоря уже о пробелах. Их тоже больше чем достаточно, а именно 634. Меня охватила паника. Как я могу стать писателем, если только считаю слова, а не пишу их? Ивер Малт, мой злой гений, приговорил меня к опасному для жизни чтению.
Господи, наконец-то скрипнула калитка. Бинокль лежал наготове, не то чтобы без него я не мог разглядеть, кто пришел, но хорошо иметь его под рукой, когда меня никто не видит. Пришла не Хайди. Пришел Ивер Малт. Принес ящик с провизией, поставил на крыльцо. Когда мама выглянула из кухни, он сдернул с головы безнадежную кепку, глубоко поклонился и взмахнул рукой, будто держал в ней бархатный берет. Мама изменилась в лице. Что-то сказала (я не расслышал слов), ненадолго исчезла, потом вернулась и дала Иверу Малту монетку. Мне хотелось провалиться на самое дно колодца и остаться там со всеми моими обличьями. Ивер Малт на нас не работал! Ему не надо платить! Ивер Малт не должен получать чаевые! Мама что, решила его нанять? Теперь он шел ко мне. Я спрятал книгу под шезлонг, закрыл глаза и притворился, будто сплю и ни фига не вижу. Услыхал, что он остановился рядом.
– Классная у тебя мамаша.
Я открыл глаза и громко зевнул.
– Привет, Ивер. Это ты?
– Орел или решка?
– Без разницы.
– Выбирай. Иначе нельзя.
– Орел.
– Решка.
Ивер подбросил монетку, она взлетала все выше и выше, сверкая в ярком свете, на миг замерла в вышине ребром, то бишь разом орел и решка, и упала прямо к нему на ладонь. Он прихлопнул ее другой ладонью, подождал немного, снял руку и посмотрел:
– Орел.
– И что?
– Ты выиграл.
– Что?
Ивер только плечами пожал:
– Какая разница. Выиграл, и все. Вот что главное.
Я не понял Ивера Малта, да и не хотел понимать. Он прислонился плечом к флагштоку, отколупнул кусочек краски, сунул в карман.
– Почему ты не носишь ботинки? – спросил я.
– Потому!
– Почему «потому»?
– Потому что они мне не нужны.
– Всем нужны ботинки.
– Но не индейцам. Знаешь, как говорили индейцы?
Я хмыкнул.
– Они говорили, надо ходить босиком, чтобы не свалиться с шарика.
– Свалиться?
– Прямо под землей расположены магниты, верно? Иначе бы мы все попбдали.
– Я-то не упал.
– Пока что. Тебе бы тоже не помешало ходить босиком.
– Я-то не упал, – повторил я.
– Слышу.
– Тебе что, начхать на мою ногу, да?
– На какую?
– Как «на какую»? Ясное дело, на правую.
– Не вижу разницы.
Я дал ему бинокль и поднял ноги повыше:
– Теперь видишь разницу, а?
Но Ивер Малт на меня не смотрел. Смеясь, он медленно поворачивался по кругу. Наконец остановился и кивнул в сторону сортира:
– Твой велик.
– Не могу отпереть замок.
– Какой замок?
– Кодовый.
Мы пошли туда, вернее, я пошел следом за Ивером.
– Ты забыл код?
– Нет. Просто он не действует.
– Что за код?
– Мой рост.
Ивер долго смотрел на меня.
– Наверно, ты подрос, – сказал он.
– И что?
– Стал выше, верно?
– И что?
– Значит, нужен новый код. Неужели не понятно?
От Иверовой логики у меня голова пошла кругом. Убедительно и вместе с тем безумно. Конечно, надо придумать новый код. Я стал выше прошлогоднего кода. Неудивительно, что он не действует. Все теперь не так. Ивер порылся в кармане коротких штанов, что-то там нашел – гвоздь, кусок стальной проволоки или еще что, я не видел, потому что он присел на корточки спиной ко мне и мигом открыл замок. Я услышал замечательный щелчок, с каким детали встают на свои места, и ощутил глубокое удовлетворение, будто замок шлепнул по моей ладони.
– Как ты это сделал?
– Не скажу.
– Да ладно тебе!
– Не скажу. Иначе ты по гроб жизни будешь воровать велики.
– Не ерунди. Скажи. Вдруг я забуду код.
– А ты его не запирай. Какая разница.
– А вдруг сопрут?
– Кто? Я?
– Я не это имел в виду.
Ивер Малт помолчал, стоя с биноклем на шее.
– Ты закончил? – наконец спросил он.
– Что закончил?
– «Моби Дика».
– Нет еще. Но…
Он замахал руками, перебил меня:
– Ничего не говори! Ни слова, пока не прочтешь до конца! Ни слова!
Он хотел снять бинокль, и я, в свою очередь, остановил его:
– Можешь оставить себе.
– Оставить? Бинокль?
– Да. Я же сказал.
Ивер Малт медленно отпустил ремешок, как-то странно улыбнулся, чуть ли не смущенно. А потом исчез среди сосен и муравейников, за живой изгородью и под землей, за оградой, в Яме, поднялся к почтовым ящикам и двинул к Сигналу. Испарился. Сегодня я по-прежнему сомневаюсь, когда падаю духом и меня одолевают сомнения, – сомневаюсь, а было ли то лето вообще или оно существует только в моей памяти, в моем собственном мире, искривление времени и пространства, которое могу помнить один я, а больше никто.
13
Случалось, сидя на балконе под синей маркизой, мама пела, особенно по утрам, когда думала, что, кроме нее, еще никто не встал, но я-то слышал. Она и в городе пела, в остальное время года. Порой, когда я приходил из школы раньше обычного – я не прогуливал, нет, просто кто-нибудь из учителей заболевал, а подменить его было некем, – я уже внизу, у лестницы, слышал, как мама поет, и тогда стоял возле почтовых ящиков, слушал ее песни, и они наполняли меня огромным облегчением, а одновременно тревожили, вроде как внушали сомнения и печаль, хотя в ту пору я бы, конечно, не употребил именно эти слова, чтобы описать свои чувства, – эти слова предназначены исключительно для воспоминаний, однако ж я далеко не уверен, мудрее ли я сейчас, когда пишу. В ту пору я ничего не знал, зато все понимал. Теперь я все знаю, но ничего не понимаю. В общем, я стоял в прохладном подъезде и слушал, а мама даже не подозревала. Почему она не пела для других? Тетушки всегда твердили, что мама могла бы стать знаменитостью, ее голосом восхищались, а когда училась в средней школе, она пела перед разными обществами и на разных собраниях в округе. Ей всегда аплодировали стоя. Тетушки говорили, она могла бы добиться большого успеха, если бы продолжала петь. Но мама бросила пение и пела теперь, только оставаясь одна в городской квартире, то есть в первой половине дня, когда папа был в конторе, а я в школе. Квартира была ее сценой, а дачный балкон летом – оперой. Когда она бросила пение? Когда вышла за папу? Когда родился я? Мое рождение поставило крест на ее будущем? Она больше не могла петь из-за нас? Или из-за меня? Я был так требователен, это я-то, который и в дверь обычно входит тихонечко? Неужели мы с папой занимали в ее жизни столько места, что пение, ее пение и песни мало-помалу отступили: «Over the Rainbow», «Heaven Can Wait», «Cheek to Cheek», «We’ll Meet Again», «Bei mir bist du so schön», «There’s a Song in the Air», «Will You Remember», «Whistle While You Work», «Thanks for the Memory». Достаточно одних названий. Они радовали меня. Летели вдаль на глубоком искреннем дыхании. Особенно я любил «Blue Skies», «Синее небо». Слова, ритм, мелодия – все как надо, песня без сучка без задоринки, которая ни за что не цеплялась, просто лилась, песня, которая оставляла все позади, указывала вперед и, стало быть, была мне по сердцу, потому что мое сердце сделано не так. И все же: «You Can’t Stop Me», «Вы меня не остановите». А она остановилась, бросила. Сколько же песен мир проворонил? Но мгновение спустя я думаю: может, она бросила пение по своей воле? Может, ей казалось, она поет недостаточно хорошо и продолжать нет смысла? Может, она просто-напросто знала свой потолок? Может, знала, что петь лучше уже не сумеет, и потому ограничила пение кухней и балконом? Позднее я, конечно, сообразил, что угадывал здесь собственный страх – страх перед собственной полной ограниченностью и огромной посредственностью. Я помню день, когда издательство приняло мою первую книгу – сборник стихов. Мне было двадцать лет. Я поэт. Я сожгу все мосты. Они уже в огне. Всю дорогу от студгородка Согн до мамы я шел пешком, мама тогда сидела одна в квартире, где я вырос, и не пела, во всяком случае не пела, когда я взбегал по лестнице и отпирал дверь (значит, ключи у меня были по-прежнему), я нашел маму на кухне – где же еще – и протянул ей письмо. Прочти! – сказал я. Я сжигаю мосты! – сказал я, когда она читала письмо. Они уже в огне! Она вернула мне письмо. Я тобой горжусь, сказала она. Правда горжусь. В ту же секунду я, будто в этом была некая логика, вспомнил, что тем летом мне самому следовало сказать ей то же самое: что я ею горжусь. Я хоть раз спросил маму, как ей живется? Чего ей хочется? Никогда. Я сжигаю все мосты, повторил я. Они в огне. Эта неподходящая и фальшивая фраза втемяшилась мне в голову. Почему? – спросила мама. Почему? Почему! Разве ты не видишь, что здесь написано! Я принят! Я горжусь тобой, повторила мама. Только сперва закончи учебу. На это у меня нет времени! Есть, Умник. У тебя вполне достаточно времени. А писать можешь по ночам. Я громко рассмеялся, прошелся по кухне, где мама накрыла для себя – желтая чайная чашка, зеленая масленка, салфетка в серебряном кольце, черносмородинное варенье в синей вазочке, два ломтика свежего хлеба и один хрустящий хлебец, завтрак, священная трапеза домохозяйки. Ты не представляешь себе, о чем говоришь! – воскликнул я. Отчего же, представляю. Я прекрасно знаю, как важно быть свободным. Эти ее слова ошеломили меня, даже поразили. Что ты сказала? Свободным? Мама отвернулась к окну. Самые высокие деревья в Робсампарке успели вырубить, поэтому солнце заливало всю кухню, материнскую контору на неспешной домашней фабрике. Мама стояла сейчас в своей конторе на бездействующей фабрике. Она вздрогнула всем телом, я заметил эту секундную дрожь, а может, и еще более короткую, но все ее существо словно бы ослабело – так мне подумалось, – однако она тотчас выпрямилась, взяла себя в руки, собралась и одним движением обуздала себя. Была весна. Писателем я стал в мае. Свободным? Что ты имеешь в виду? Только одно: ты не должен ни от кого зависеть, сказала мама. Закончи учебу и будь независимым. Только тогда ты сможешь сделать правильный выбор. Тебе понятно, чту говорит старая глупая женщина? Да, я понимал. Понимал, что говорит старая глупая женщина. Она тогда была на десять лет моложе, чем я сейчас. Бульшую часть того, что умею, я усвоил именно там, в недрах квартирной фабрики. Быть свободным – значит довести до конца. Быть свободным – значит завершить. Накрыть тебе тоже? – спросила мама. Или у тебя нет времени, раз уж ты теперь стал писателем? Мы рассмеялись. Конечно накрывай, сказал я. Писатель проголодался.
Книга вышла. Мир остался прежним. Я закончил учебу и некоторое время работал учителем, правда недолго, в одной из гимназий северного Осло, преподавал норвежский и историю. За это время я выпустил несколько книг, точнее, роман и два сборника стихов, одним я даже был доволен, по крайней мере названием, – удивительно, чаще всего я доволен именно названиями, – «Верблюд в моем сердце». В первое же утро, войдя в класс, где мне предстояло быть классным руководителем и вести норвежский, я получил прямо в лоб апельсином. Я видел, кто его бросил, но не стал ничего предпринимать, выжил ведь как-никак, и подумал, что, пожалуй, заставил себя уважать, сделав вид, что этого апельсина не существовало. Но я очень ошибался. Одним апельсином дело не кончилось. Мало-помалу у меня установились с классом хорошие отношения. Я полюбил учеников. Они тоже ко мне привыкли. Мы заключили своего рода перемирие, и всех это устраивало. Так что, наверно, я поступил правильно, сделав вид, что никакого апельсина не было. Добавлю только, что я попытался написать стихи об апельсинах, которых нет. Получилось очень плохо. Писал я, кстати, вечерами и ночами, проверив сочинения и подготовившись к завтрашним урокам. Однажды утром я совершенно продрогший шел по коридору в класс. Я даже опоздал, что совершенно не в моих привычках. У меня как раз вышел сборник стихов, и накануне появились рецензии, неоднозначные. Несколько рецензий вправду задели меня за живое. Там были оценки, с которыми я тогда примириться не мог, да и до сих пор не могу: что я-де неглубокий, остроумный и неглубокий и что мне нечего сказать. Я тащился по пустым коридорам, между вешалками, которые в таком состоянии духа напоминали мне бойню. Убоина вернулась на место происшествия. Стало быть, я был с похмелья и продрог. Вдобавок остроумный и неглубокий. Я снова и снова твердил фразу, которая всю ночь не давала мне заснуть: в следующий раз буду глубоким и тупым. Я мог бы даже пропеть ее. Может, и правда пропел, потому что дверь физического кабинета вдруг открылась и оттуда выглянул учитель, Гундерсен. Я пристыженно поник головой, ускорил шаг, нашел свой класс, и первое, что заметил, водворившись наконец на кафедре, была тишина. Не то чтобы они обычно шумели или вредничали; как я уже сказал, после апельсинов мы вполне ладили. Эта тишина была другая, совсем другая. Она прикрывала что-то еще, а именно тайну, известную ученикам, но не мне. Я мгновенно насторожился. Напомню, я не люблю неожиданностей. Предпочитаю, чтобы все оставалось как обычно. Я что, угодил в ловушку? Скоро тишина стала невыносимой, а у меня не было сил перейти в контратаку. Я просто ждал большого незримого апельсина. Как долго это продолжалось? Не знаю. Ученики что же, хотели таким манером наказать меня за опоздание на урок, наказать примерным поведением? Наказать тишиной? Но в лицах этих молодых ребят – моложе меня лет на пять-шесть, не больше, и живших другой жизнью, их лица были юные и нескладные – я не сумел отыскать тем утром дурных намерений, ни намека на малейшую каверзу, только ожидание. В конце концов класс тоже не выдержал. Один из мальчиков встал – кстати, тот самый, что в свое время залепил мне первым апельсином, – и показал на меня, вернее, куда-то мимо меня. Поскольку же это, с точки зрения класса, явно не помогло, они не вытерпели. Рухнули на парты, вздыхали, стонали, крича наперебой: Смотрите! Там! Я обернулся и увидел. На доске ученики нарисовали верблюда, заключили его в большущее сердце, а внизу написали: «Поздравляем, писатель Умник! Мы вами гордимся!» Они тоже звали меня Умником. Я не знал, куда деваться, как выйти из положения. Смутился и ушел в коридор. Уткнулся лбом в вешалку и заплакал. Хорошенькое дело – я, учитель, стою в коридоре и плачу от радости. Ученики отправили меня сюда. Отправили в коридор, чтобы плакать от радости. Я взял себя в руки, вернулся в класс, теперь тишина была другая, густая и сытая, почти тупая, ведь эти неуклюжие ученики смекнули, сколько серьезности заключено в признании. Они признали меня. Тут раздался звонок, урок окончился, и началась моя оставшаяся жизнь. Той же осенью я бросил работу учителя, зная, что мама была права тем утром на кухне, когда я, двадцатилетний, собирался сжечь все мосты. Тот, кто лишь сжигает мосты, сгорает сам. А глупец сжигает мосты, прежде чем их перейдет. Класс Грефсенской гимназии осенью 1980-го был моим мостом, переходом в общество, где я вплоть до сегодняшнего дня, когда пишу эти строки, буду заниматься писательством, – этот класс стал моей свободой.
Почему я не сказал маме, что она замечательно пела? Что я тайком слушал ее? Что песни действовали на меня успокаивающе, что я любил ее репертуар, ведь эти песни несли весть о легкости, о непринужденности, которую я рано научился ценить, потому что мне самому ее недоставало, во мне все тянуло вниз или указывало прямиком вверх. Ее песни дарили утешение, радость, сон, акустическую меланхолию. У ее песен была своя пора года. Когда она пела «Blue Skies», я знал, что пришла весна. Точно так же я знал, что, если она не пела, что-то было не в порядке. Так почему же, если она не пела, я не спрашивал, чту не в порядке? Почему не подарил ей свое признание, не сказал прямо, что она пела замечательно, да-да, совершенно замечательно? Я ничего не сказал. Наоборот, использовал любую возможность, чтобы обругать ее песни: мол, они замшелые, она может оставить их себе, им место в доме престарелых и еще того хуже. Что говорила на это мама? Это теперь мои песни совершенно заурядные, говорила она.
Это теперь мои песни совершенно заурядные.
14
Хайди в гости не приходила, и мало-помалу я, при моей умственной отсталости, понял, что, если Луна не идет к тебе, ты попросту должен сам отправиться на Луну, пусть даже это не так уж просто, поскольку я еще не утвердил свой флаг на этой планете и вообще ни на какой, раз уж на то пошло, а так оно и было. Я сидел в мансардной комнате и боялся, то есть пытался сочинить, как все будет. Хотел опередить мечты. Мечты, принадлежавшие ночи и сну, были непроизвольны и отрывочны. Их вечно заносило, когда все начинало идти на лад. Иначе с сочинительством, со снами наяву, которые можно с первой же минуты контролировать, а не идти у них на поводу. Прежде всего, когда я приду, Хайди будет одна. Шайка папенькиных сынков утонула возле Стейлене, а Лисбет сидела под арестом за тунеядство и дожидалась в женской тюрьме Бредтвейт смертного приговора. Помощник судьи уехал на Нордкап выносить там приговоры. Я тоже тосковала по тебе, скажет Хайди, выйдя мне навстречу. Я тоже. Что же тебя так задержало? Стихи, милая. Мне надо было закончить стихотворение, иначе я бы не рискнул посмотреть тебе в глаза. Прочти, дорогой. Прочти мне. А после я прочту его тебе. После чего? Сперва мне хочется трахнуться.
Мой девиз: все в голове!
Я надел рубашку, которая висела в шкафу со времен распада унии, оставил теннисные туфли и выдрал из джинсов несколько ниток. Мне тоже нужна форма, тогда никто не спутает меня с подонками из Тройки.
Мама сидела на балконе.
– Ты вправду решил идти в таком виде?
– А что?
– Сущий оборванец. Хотя бы обуйся.
– Босиком лучше. Иначе я рискую свалиться с шарика.
– Да ты давно свалился. Пробуешь походить на Ивера?
Я жутко разозлился. Всю маркизу в клочья бы порвал. Неужто все, даже родная мать, думают, что я подражатель, копия, дурацкий оттиск? Знали бы они, насколько я уникален. Знали бы, что мое стихотворение приняли в журнал, – стихотворение, которое никто за меня не писал, которого не существовало, пока я его не сочинил. Они бы споткнулись о мои вмятины и никогда больше не встали. Я им покажу. Рано или поздно покажу.
– Незачем было давать ему деньги!
– А что в этом плохого? Он оказал нам услугу.
– И что?
– Ты мог бы и сам принести ящик. Если б немножко напрягся.
– Может, я вообще особо не напрягаюсь!
– Ты куда?
– Никуда.
– Никуда? Значит, к Иверу Малту?
– Нет, не к Иверу Малту. Прокачусь на велике. Это тоже не годится?
– Я думала, мы сходим искупаться и позагорать.
– Пожалуй, в другой раз.
– В другой раз? Другого раза может и не быть.
Мама смотрела на фьорд, на холмы по другую сторону, тонувшие в сиянии света и воды. Не надо было маме так говорить. Эти слова повторялись тем летом снова и снова. В другой раз. Другого раза может и не быть. Невыносимый припев. Можно положить на музыку и нанять «Серебряных мальчиков», звучать будет прескверно, и хуже всего, что не фальшиво, а правильно. Я сел, не смея спросить, что она имела в виду, когда сказала, что другого раза может и не быть.
– У нас есть фотографии Тетушки Соффен в молодости? – спросил я.
– Зачем тебе?
– Просто вдруг подумал. Нельзя, что ли? Для всего нужны причины?
– А я подумала, почему тебя вдруг заинтересовали старые фотографии Тетушки Соффен. Кстати, злиться совершенно незачем.
– Я не злюсь.
– Но выглядишь злым.
– Ты еще не видала меня злым, – сказал я.
Некоторое время мама молча с удивлением смотрела на меня, потом ушла в комнату и принялась рыться в ящиках. Желтый блокнотик лежал на столе. Лето 1969-го. Мне захотелось в него заглянуть. Не знаю почему. Почему мне захотелось взглянуть на ее подсчеты и списки для памяти? Но мысль, что надо заглянуть в желтый блокнотик, застряла в голове. Не давала покоя. Так уж я устроен: если вбил что-то себе в голову, то непременно должен сделать, иначе не успокоюсь. Но пришлось одуматься. Мама вернулась с фотоальбомом, положила его на стол между нами. Я перелистал несколько фотографий, которые ни о чем мне не говорили. Тут мама остановила меня, показала:
– Вот она. Тетушка Соффен в молодости.
Она сидит в плетеном кресле перед балконом. Лето. Резкие тени. Платье по щиколотку. На коленях зонтик от солнца. Личико круглое, маленькое. Похожа на щеночка. Как давно это было? У Тетушек нет возраста. Это могло быть до Рождества Христова или около того, если б тогда уже придумали снимать на пленку, я имею в виду.
– Самая красивая девушка в Христиании, – сказал я.
– Да, она действительно была хороша собой. Как и все Тетушки.
На снимке было несколько человек. За спиной у Тетушки Соффен стоял господин в белом костюме, в шляпе, из-под усов выглядывала трубка. Он опирался рукой о спинку кресла и щурил глаза, то ли из-за дыма, то ли из-за яркого солнца, то ли еще из-за чего.
– Кто этот тип?
– Не говори так.
– Кто этот джентльмен?
– Кавалер Тетушки Соффен. Француз. Кажется, музыкант.
– Господи. Вот почему, стало быть, Тетушка Соффен знает французский.
– Ты говорил с ней по-французски?
– Нет. Она со мной. И что с ним случилось?
– Они собирались пожениться. Но ничего не вышло. Он вернулся во Францию, и больше Соффен о нем не слышала.
Ничего не вышло. Эти слова вцепились в меня мертвой хваткой. Сколько всего никогда не выходит. По сути, бульшая часть. Мир полон того, что так и не вышло. Совершенно невыносимо. На снимке Соффен улыбается и выглядит лукаво, будто у нее есть большой секрет и этот секрет – будущее. Видимо, она счастлива. Да, счастлива. Так я решаю. Жизнь на пороге. На пороге свершения. Соффен закончила сборы. Приготовилась. Ждет только команды «старт!», ведь она готова, целиком и полностью. Но команды не последовало. Когда мы рассматриваем фото, всё уже в прошлом. Дистанция пройдена. И что в промежутке? То, что так и не вышло. Меня захлестнула огромная печаль, селезенка разрослась, не только из-за Тетушки Соффен, но и из-за меня самого, ведь я был занят собой и занят до сих пор, потому что вдруг подумал обо всем том, что не выйдет и в моей жизни, этот баланс всегда будет минусовым, красные цифры над кроватью.
– Значит, он оказался мерзавцем, – сказал я.
Мама фыркнула:
– Так и есть. Мерзавцем.
На фото был еще один человек, девочка, чуть-чуть повыше цветочных ящиков на балконе. Фотографироваться ее, скорее всего, не звали. Ей просто любопытно посмотреть, что происходит. Она не хочет ничего пропустить. Короткостриженная, с челочкой, под пажа, так это называется, взгляд открытый навстречу всему и вся. Она тоже готова, хотя и не до конца.
– Это я, – сказала мама.
Из нее что-то вышло? Свершилась ли ее жизнь? Была ли мама тем человеком, каким мечтала стать маленькая девочка среди цветов на балконе? Была ли мама той, что шла ей навстречу и исполняла ее желания? Я не знал. Не мог знать, о чем она мечтала. Если на то пошло, я мало, а то и вовсе ничего не знал ни о маме, ни о девочке, какой она была когда-то. Я обречен строить догадки. Утверждать иное – ложь.
– Сколько тебе там лет? – спросил я.
– Семь и четыре месяца.
– Ты так хорошо помнишь.
– Тем летом я выучилась плавать.
– Мне пора бежать, – сказал я.
Мама закрыла альбом:
– Я не то имела в виду.
– Ты о чем?
– Ну, когда сказала, что ты думаешь только о себе.
– Ничего страшного.
Пожалуй, она таки была права. Я не мог не признать. Я почти забыл, что папа в городе, в больнице, со сломанной ногой, а не здесь. И меня снова поразила смутная и мучительная мысль: я плохой человек, да, плохой. Чтобы стать хорошим, мне надо сосредоточиться. Такое само собой не получится, и, вообще-то, я предполагал, что хорошим человеком бывают от природы, а не по решению.
– Ты слышала о папе что-нибудь еще?
– Ему нужен покой.
– Может, съездим навестим его?
– Посмотрим.
– Посмотрим? Почему?
– Потому что ему нужен покой. – Мама вдруг улыбнулась и ласково посмотрела на меня. – Ее зовут Хайди?
– Кто тебе сказал?
– Тетушки упоминали девочку по имени Хайди.
– И что?
– Я просто спрашиваю, Крис. Ты ведь теперь ничего мне не рассказываешь.
– Как я могу рассказать, если рассказывать нечего?
– Я думала, ты поглядываешь на Лисбет.
– Лисбет? Зря ты так думаешь.
– Ладно. Но будь осторожен.
– Осторожен? Ты о чем?
– Когда ездишь на велосипеде. Ты легко можешь замечтаться. А в таком случае и до беды недалеко.
Вообще-то, я бы и не возражал, если б случилась беда. Ничего ведь не оставят в покое. Все им надо перевернуть вверх дном. Все камни надо непременно перевернуть, а я изволь выползать на их мерзкий свет. Невыносимо. Невыносимо даже просто подумать, что ничего в секрете не сохранишь. Тут у меня мелькнула мысль, головокружительная и всепоглощающая, почти нестерпимая, что сберечь в тайне я могу только одно – то, что напишу, оно еще не написано, еще не существует, но из него выйдет толк.
Я поехал довольно длинной окольной дорогой, чтобы успокоиться, но так и не остыл, в конце концов спрятал драндулет в кустах и дальше пошел пешком. Лисбет сидела в высокой траве, с крокетным молотком и пивом. Вдобавок только в одной половинке бикини, в нижней. А это не много. Да что там, исчезающе мало. Я сунул руки в карманы и совершенно непринужденно, не спеша направился к ней, но смотрел куда угодно, только не на ее грудь, не особенно большую и не вызывающую желания кричать «ура», но я бы кричал «ура» при виде любой груди, а она наверняка давно ходила без бюстгальтера, это точно, потому что грудь была такая же загорелая, как и остальной торс, да и бедра тоже, если взглянуть на них, и я невольно взглянул.
– В крокет играешь?
– Умный вопрос. Пиво пью.
– Вижу. А в перерывах играешь в крокет?
– Наоборот, в перерывах пью пиво. Ты нынче шикарный. Прифрантился?
– Не-а, с какой стати? А ты?
– Как видишь. Я прифрантилась совсем чуть-чуть. А ты чертовски пристально глядишь как раз на те места, где я не прифрантилась.
– Я думал, ты под домашним арестом.
– Я свободна. Как видишь. Свободна как птица.
– Вижу. А летать умеешь?
– Чертовски забавно с тобой поболтать. Но, кроме как болтать, ты еще что-нибудь умеешь?
– Ловить на жестянку.
Лисбет засмеялась, встала, допила пиво, а одновременно отмахнулась от назойливого слепня, который свалился в гамак, где отдыхала кошка, которая наконец-то могла чуток развлечься в этой знойной духоте. Больше я не нашел что сказать. Лисбет обернулась ко мне, опять хихикнула:
– Ловишь на жестянку… Я думала, ты вообще не осмелишься прийти.
– Не осмелюсь? Это почему же?
– Во всяком случае, собирался ты чертовски долго.
– А куда спешить?
– Как куда, храбрец? Она ждет возле купальни.
– Кто?
– Кто? Ты что, приперся глазеть на меня, красавчик?
– Я не глазею.
– По-твоему, тут глазеть не на что?
– Почему? Много на что можно поглазеть.
– Вот как? Чрезвычайно убедительно. Присмотрись получше, поэт. Ради меня.
Лисбет шагнула ближе и выпятила грудь, бесстыдно и в то же время застенчиво. Я отпрянул, поскольку не хотел впутываться в это, что бы это ни было. Она только что назвала меня поэтом?
– Твоих родителей здесь нет?
– Нет. А что? Они еще вчера уехали. Ты что-нибудь натворил? Требуется приговорчик?
– Вообще-то, нет. По горло сыт проповедями.
– Черт, Чаплин. Разговаривать с тобой все забавнее. Надо нам почаще общаться.
– С тобой тоже. Возле купальни, говоришь?
Лисбет кивнула в сторону фьорда:
– Вон там, дорогуша. Как замочишь ноги, считай, ты почти на месте.
– Отлично.
– А поймаешь ртом водоросли, значит забрался слишком далеко.
– Спасибочки. Очень мило с твоей стороны.
– Не стоит благодарности, красавчик. Веди себя хорошо.
Я пошел в ту сторону, куда указала Лисбет. Внезапно лес кончился, высокие сосны расступились, я вышел к береговым скалам и остановился. Мне почудилось, будто из одного мира я шагнул в другой. Расстояния исчезли, остались только во мне. Этим летом каждый день был дверью, которая скользила вбок, и я не имел выбора, поневоле шел вперед. Она сидела лицом к воде, на мостках возле купальни. Влажные волосы облепили плечи. Я видел блестящие капли на ее коже, секунду казалось, будто ей холодно, она завернулась в желтое полотенце. Это от меня повеяло холодом? Она заметила, что я стою и смотрю на нее? Я пошел к ней, стараясь, чтобы под ногами хрустели ракушки. Не хотел появиться чересчур неожиданно. Наконец она обернулась и вроде как не особенно удивилась, зато удивление изобразил я:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?