Текст книги "Нам нужно поговорить о Кевине"
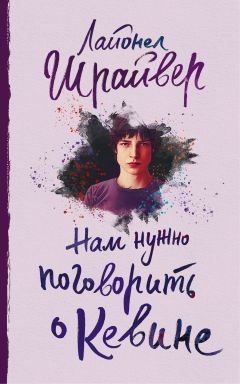
Автор книги: Лайонел Шрайвер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Я тоже часто тебя ненавижу, Кевин.
Круто развернулась и ушла.
Так что ты понимаешь, почему мне требовалось взбодриться чашкой кофе. Это была попытка устоять перед желанием отправиться в бар.
По дороге домой я размышляла о том, что как бы ни хотела я избежать жизни в стране, где граждане, поощряемые «делать по большей части то, что они хотят», потрошат пожилых людей, было совершенно закономерно, что я вышла замуж за американца. У меня было больше причин, чем у большинства людей, считать иностранцев вчерашним днем, поскольку я разглядела их экзотичность до той пустоты, которой они являются друг для друга. Кроме того, к тридцати трем годам я устала той накопленной усталостью, которая бывает, когда приходится весь день проводить на ногах, и которую чувствуешь лишь когда садишься. Я сама была вечной иностранкой, которая лихорадочно репетировала по разговорнику, как сказать по-итальянски «хлебная корзинка». Даже в Англии мне приходилось помнить о том, что нужно говорить «метро» вместо «подземка». Сознавая, что я в некотором роде посол, я ежедневно противостояла шквалу предубеждений, стараясь не быть высокомерной, бесцеремонной, невежественной, самонадеянной, грубой или шумной на людях.
Но если я присвоила себе всю планету в качестве личного заднего двора, сама эта наглость выдавала во мне безнадежную американку, так же как и странная идея, что я могу перекроить себя в гибрид тропической интернационалистки, имея жутко специфическое происхождение из города Расин в штате Висконсин. Даже легкомыслие, с которым я покинула родные места, классически представляло собой единое целое с нашим любопытным, беспокойным, агрессивным народом, каждый представитель которого (за исключением тебя) самодовольно полагает, что Америка постоянна и неизменна. Европейцы осведомлены получше. Они знают о том, что история жива и современна, знают о ее сиюминутной ненасытности, и часто торопятся обратно в свои бренные сады, чтобы позаботиться о них и убедиться, что, скажем, Дания все еще на своем месте. Но для тех из нас, для кого слово «вторжение» ассоциируется исключительно с космосом, наша страна – это неприступный фундамент, который останется нетронутым и будет бесконечно ждать нашего возвращения. И я в самом деле часто объясняла иностранцам, что моим странствиям способствовало понимание того, что «Соединенные Штаты во мне не нуждаются».
Кажется неловким выбирать спутника жизни, исходя из того, какие телешоу он смотрел в детстве, но в каком-то смысле именно так я и поступила. Мне хотелось иметь возможность описать какого-нибудь жилистого, низкорослого, никчемного мужчину как «Барни Файфа», не добавляя при этом многословных объяснений, что Барни – один из героев в милом, редко показываемом за границей сериале «Шоу Энди Гриффита»[61]61
Американский комедийный телесериал, выпускавшийся на CBS с 1960 по 1968 г.
[Закрыть], в котором неумелый помощник шерифа то и дело попадает в неприятности по причине собственной надменности. Я хотела иметь возможность напевать заглавную песню из «Новобрачных»[62]62
Американский комедийный телесериал, основанный на одноименных скетчах и выпускавшийся в 1951–55 г.
[Закрыть] и чтобы ты стал подпевать на фразе «Как это мило!». Мне хотелось иметь возможность сказать: «чудной, как мяч с третьей базы»[63]63
База – одна из четырех точек бейсбольного поля, которых последовательно должен коснуться бегущий игрок, чтобы набрать очко.
[Закрыть], и не ругать себя за то, что я позабыла: образы из бейсбола не обязательно должны быть понятны за границей. Мне хотелось избавиться от необходимости притворяться, что я двинутая на культуре чудачка, у которой нет собственных традиций; хотелось иметь дом, в котором будут свои правила относительно обуви и гости должны им подчиняться. Ты вернул мне понятие домашнего очага.
Домашний очаг – это именно то, что Кевин у меня отнял. Соседи теперь смотрят на меня с той же подозрительностью, которая припасена у них для нелегальных мигрантов. Они подыскивают слова и разговаривают со мной с преувеличенной неторопливостью – как с женщиной, для которой английский язык не является родным. И поскольку меня депортировали в эту редкую категорию – матерей «мальчиков из Колумбайна», – я тоже подыскиваю слова, потому что не уверена в том, как правильно перевести свои мысли из параллельного мира на язык распродаж «два-по-цене-одного» и штрафов за неправильную парковку. Кевин вновь сделал меня иностранкой в моей собственной стране. И возможно, это помогает объяснить субботние визиты в тюрьму дважды в месяц, потому что только в исправительной тюрьме в Клэвераке мне не нужно переводить мой иностранный жаргон на язык обычных жителей пригорода. Только в исправительной тюрьме в Клэвераке мы можем ссылаться на что-то без объяснений и воспринимать наше общее культурное прошлое как нечто понятное.
Ева
8 декабря 2000 года
Дорогой Франклин,
в турагентстве «Путешествие – это мы» я тот, кто добровольно вызывается задержаться на работе и закончить дела; но большинство рейсов на Рождество уже забронированы, так что сегодня нас всех в качестве поощрения отправили по домам пораньше – пятница же. Снова начинать одинокий марафон в этом дуплексе, когда на часах едва пять вечера, – это почти доводит меня до истерики.
Сидя перед телевизором, лениво ковыряя курицу и вписывая легкие ответы в кроссворд в «Таймс», я часто испытываю неотступное чувство ожидания чего-то. Я не имею в виду классический случай ожидания, когда начнется жизнь, словно болван на старте, который не услышал выстрел к началу гонки. Нет, это ожидание чего-то конкретного – стука в дверь, и это чувство может стать весьма настойчивым. Сегодня оно вернулось. Что-то во мне прислушивается вполуха и всю ночь, каждую ночь ждет, что ты вернешься домой.
И это неизбежно напоминает мне тот майский вечер в 1982 году, с которого все началось и в который ожидание того, что ты в любой момент можешь войти в кухню, было не таким беспочвенным. Ты искал место для съемок рекламы «Форда» в сосновых пустошах на юге Нью-Джерси и должен был вернуться домой около семи вечера. Я незадолго до того прилетела из месячной поездки, посвященной обновлению путеводителя «Греция на Крыльях Надежды», и когда ты не появился и к восьми, я напомнила себе, что мой рейс задержался на шесть часов, и поэтому ты не смог забрать меня в аэропорту Кеннеди и отвезти в кафе на Юнион-сквер.
И все же к девяти я начала нервничать, не говоря уж о том, что была голодна. Я рассеянно сжевала кусок фисташковой халвы из Афин. На волне этнического настроя я приготовила сковороду мусаки, с помощью которой планировала убедить тебя, что, если смешать баклажаны с рубленой бараниной и большим количеством корицы, то окажется, что ты все-таки их любишь.
К 21.30 корочка на мусаке стала темнеть и подсыхать по краям, хоть я и убавила температуру в духовке до 120°. Я достала оттуда сковороду. Балансируя между гневом и душевными терзаниями, я позволила себе приступ раздражения: хлопнула ящиком, достав из него фольгу, и поворчала, что мне пришлось отдельно обжарить каждый кружочек баклажана, а теперь все это превращается в кучу пересушенного и обугленного непонятно чего! Резким движением я достала из холодильника приготовленный мной греческий салат и стала яростно удалять косточки из греческих оливок, но потом бросила их засыхать на столе, и одна чаша весов перевесила. Я больше не могла злиться. Я была напугана. Я проверила, лежат ли на месте обе телефонные трубки. Я убедилась, что лифт работает – хотя ты мог подняться и по лестнице. Через десять минут я снова проверила телефоны.
Вот почему люди курят, подумала я.
Когда около 22.20 телефон наконец зазвонил, я схватила трубку. Сердце у меня упало – я услышала голос матери. Я коротко сказала ей, что ты задерживаешься уже больше чем на три часа, и мне нельзя занимать линию. Она мне посочувствовала – редкость для моей матери, которая в то время расценивала мою жизнь как одно бесконечное предъявляемое ей обвинение – словно единственной причиной, по которой я отправилась в очередную страну, было желание утереть ей нос, потому что она в очередной раз не вышла из дома дальше его крыльца. Мне следовало вспомнить, что она тоже пережила такое в двадцать три года и ждала не часами, а неделями, пока однажды в щель для писем на парадной двери не опустился тонкий конверт от Военного ведомства. Вместо этого я жестоко ей нагрубила и повесила трубку.
22.40. Юг Нью-Джерси не опасен – лесозаготовки и фермерские угодья, это же не Ньюарк[64]64
Крупнейший город штата Нью-Джерси.
[Закрыть]. Но ведь были еще машины, несущиеся, словно реактивные ракеты, и водители, чья глупость могла оказаться смертоносной. Почему же ты не звонишь?!
Это было еще до появления мобильных телефонов, так что я тебя не виню. И я понимаю, что такое случается сплошь и рядом: муж, или жена, или ребенок задерживаются, ужасно задерживаются, но потом они все-таки возвращаются домой, и всему есть объяснение. По большей части эти картинки из параллельной вселенной, в которой они так и не возвращаются домой – для чего тоже есть объяснение, но такое, которое разделяет всю жизнь на до и после – исчезают потом без следа. Часы, которые тянулись, словно целая жизнь, внезапно схлопываются как веер. Поэтому, хоть соленый вкус страха во рту и был мне знаком, я не могла припомнить случая, чтобы я ходила туда-сюда по квартире, а в голове у меня крутились бы мысли о катаклизмах типа аневризмы или огорченного почтового работника с автоматом в «Бургер Кинг».
К 23.00 я начала давать клятвы.
Я залпом выпила бокал совиньон блан. На вкус оно показалось мне огуречным рассолом. Это было вино, выпитое без тебя. Мусака, вся эта пересушенная, невкусная масса, была едой без тебя. Наш лофт, полный международных трофеев в виде корзин и резных украшений, стал похож на безвкусный и захламленный магазин заграничных товаров; это был наш дом без тебя. Я никогда прежде не замечала в предметах такой инертности, такого воинственного нежелания что-то собой компенсировать. Оставшиеся после тебя вещи словно насмехались надо мной: безвольно висящая на крючке скакалка; грязные носки – застывшие, карикатурно сдувшиеся очертания твоих ног сорок пятого размера.
Ох, Франклин, ну конечно же я знала, что ребенок не может заменить мужа, потому что я видела, как сутулился мой брат под гнетом необходимости быть «маленьким мужчиной в доме»; я видела, как терзает его то, что мать вечно ищет в его лице сходство с нестареющей фотографией на каминной полке. Это было несправедливо. Джайлс даже не помнил нашего отца, который погиб, когда брату было три года, и который давно перестал быть папой из плоти и крови, проливавшим суп на галстук, и стал высоким и смуглым кумиром в безукоризненно чистой форме летных войск; он стал маячившим над камином безупречным символом того, чем его сын не являлся. Джайлс до сих пор держится неуверенно. Когда весной 1999 года он заставил себя прийти ко мне и нам нечем было заняться и нечего было сказать друг другу, он вспыхнул от безмолвной обиды, потому что в моем присутствии в нем оживало то же чувство – что он не соответствует требованиям, – которым было пропитано все его детство. Еще больше его оскорбляло внимание общественности, которое из-за нашего сына частично попало и на него. Кевин и тот четверг выгнали его из собственной кроличьей норы, и он злился на меня за это публичное обнажение. Его единственным стремлением является безвестность, потому что любое пристальное внимание Джайлс ассоциирует с тем, что его сочтут неполноценным.
И все равно я кусала себе локти, потому что прошлой ночью мы с тобой занимались любовью, а вечером перед тем я снова рассеянно поставила маточный колпачок. Что мне делать с твоей скакалкой и с твоими грязными носками? Ведь есть лишь одно напоминание о мужчине, которое стоит сохранить – такое, что будет рисовать открытки ко Дню святого Валентина и учиться правильно писать слово «Миссисипи». Никакой отпрыск не смог бы заменить мне тебя. Но если бы мне когда-нибудь пришлось скучать по тебе, тосковать по тебе вечно, я бы хотела иметь кого-то, кто тосковал бы вместе со мной, пусть бы он знал тебя лишь как глубокую трещину в своей жизни, так же как ты был глубокой трещиной в моей.
Когда телефон снова зазвонил почти в полночь, я помедлила. Было уже достаточно поздно, чтобы это оказался вынужденный эмиссар из больницы или из полиции. Я дождалась, когда он зазвонит во второй раз, держа руку на трубке и согревая пластик, словно волшебный фонарь, который, может быть, исполнит одно последнее желание. Мать рассказывала, что в 1945-м оставила конверт на столе на долгие часы, в течение которых снова и снова заваривала себе черный терпкий чай, который каждый раз остывал в чашке. Она была уже беременна мной – результат его последнего отпуска дома – и часто ходила в туалет, закрывая дверь и не включая свет, словно прячась. Она сбивчиво описала мне почти гладиаторский день: как она смотрела на врага, который был больше и безжалостнее ее, и знала, что проиграет.
Голос у тебя был очень усталый и такой бестелесный, что на какой-то ужасный миг я приняла его за голос моей матери. Ты попросил прощения за то, что заставил меня волноваться. Твой пикап сломался в какой-то глуши. Ты прошел пешком двенадцать миль в поисках телефона.
В долгих разговорах не было смысла, но повесить трубку оказалось пыткой. Когда мы попрощались, глаза мои наполнились слезами от стыда за то, что я говорила «Я люблю тебя» таким тоном, каким это обычно говорится с поцелуем у дверей и который представляет собой пародию на страсть.
Меня пощадили. За тот час, что такси везло тебя на Манхэттен, мне была позволена роскошь вернуться в мой прежний мир, в котором я беспокоилась о запеканке, уговаривала тебя поесть баклажаны и доставала требованием заняться стиркой. Это был тот же мир, в котором я могла еще на одну ночь отложить возможность завести ребенка, потому что у нас оставались сомнения и потому что впереди ждало еще много ночей.
Но я не желала немедленно расслабиться и свалиться в привычное безрассудство, которое делает возможной повседневную жизнь, и без которого мы все безвылазно сидели бы в своих гостиных, как моя мать. По сути, на несколько часов мне была дарована возможность на собственной шкуре ощутить вкус всей послевоенной жизни моей матери и понять, что ей, возможно, не хватает не столько мужества, сколько необходимой дозы самообмана. Представителей ее народа массово убивали турки, ее мужа сбили в небе далекие низкорослые и желтолицые люди; поэтому моя мать видит, как хаос грызет порог ее дома, в то время как мы, остальные, живем в искусственно созданном мирке, чья благожелательность – лишь коллективное заблуждение. В 1999 году, когда я навеки попала во вселенную моей матери – в место, где может случиться что угодно, и часто так оно и бывало – я стала гораздо мягче относиться к тому, что мы с Джайлсом всегда считали ее неврозом.
Ты и вправду вернулся домой – на этот раз. Но когда я положила трубку, раздался щелчок, в котором слышался шепот: и все же может настать день, когда ты не вернешься.
Таким образом время, вместо того чтобы тянуться бесконечно медленно, понеслось безумно быстро. Когда ты пришел, ты был таким уставшим, что едва мог говорить. Я позволила тебе пропустить ужин, но не дала тебе спать. Я знаю, что такое пылкое сексуальное желание, и я могу тебя уверить, что это была потребность другого рода. Я хотела создать резервную копию тебя и нас, так же, как вставляла копирку в пишущую машинку. Я хотела быть уверена, что, случись несчастье с кем-нибудь из нас, на свете останется что-то кроме носков. Только в ту ночь я хотела, чтобы ребенок был в каждом углу – как деньги, рассованные по банкам, как спрятанные бутылки водки для слабовольных алкоголиков.
– Я не поставила колпачок, – пробормотала я, когда мы закончили.
Ты пошевелился.
– Это опасно?
– Это очень опасно, – сказала я. И правда, ведь через девять месяцев у нас в доме мог появиться какой угодно незнакомец. С тем же успехом мы могли бы оставить незапертой дверь.
На следующее утро, когда мы одевались, ты спросил:
– Ты ведь не просто забыла, да?
Довольная собой, я отрицательно покачала головой.
– Ты уверена, что хочешь этого?
– Франклин, мы никогда не будем уверены. Мы понятия не имеем, каково это – иметь ребенка. И есть только один способ об этом узнать.
Ты подхватил меня под мышки и поднял вверх; я увидела на твоем лице то же радостное выражение, с которым ты играл в «самолетик» с дочками Брайана.
– Супер!
Я говорила уверенно, но, когда ты поставил меня на землю, я запаниковала. Самоуспокоение имеет свойство восстанавливаться само по себе, и я уже перестала тревожиться, что ты можешь не дожить до конца этой недели. Что я наделала? Когда позже в том же месяце у меня пошли месячные, я сказала тебе, что огорчена. Это была моя первая ложь, и она была бессовестной.
Следующие шесть недель ты старался каждую ночь. Ты любил, когда перед тобой стояла какая-нибудь задача, и делил со мной ложе с тем же энергичным подходом – «хочешь сделать что-то – делай как следует», – с которым сколачивал наши книжные полки. Сама я была не так уж уверена насчет этих добросовестных совокуплений. Мне всегда нравилась фривольность секса, и я любила, чтобы он был бесстыдным и непристойным. Тот факт, что даже армянская апостольская церковь теперь смотрела бы на него с горячим одобрением, сбивал мне весь настрой.
Тем временем я стала видеть свое тело в новом свете. Впервые я поняла, что холмики на моей грудной клетке – это соски, которые будет сосать детеныш, а их физиологическое сходство с коровьим выменем или вытянутыми молочными железами у кормящих собак внезапно стало неизбежным. Странно, что даже женщины забывают, для чего нужна грудь.
Моя промежность тоже изменилась. Она утратила определенную оскорбительность и непристойность или же приобрела непристойность иного сорта. Казалось, теперь половые губы открываются и ведут не в узкий и укромный тупик, а в нечто зияющее. Само отверстие стало дорогой в какое-то реальное место, а не просто во тьму в моем мозгу. Складка плоти спереди стала чем-то вторичным, ее присутствие казалось чрезмерно скрытым – этакий искуситель, подсластитель для тяжелой видовой работы, как леденец, который дают у зубного врача.
Глядь – и все, что делало меня красивой, отдано во власть материнству, и даже само мое желание быть привлекательной для мужчин оказалось находчивой затеей тела, созданного для того, чтобы воспроизвести себе замену. Я не стану притворяться, будто я первая женщина, узнавшая о предназначении пестиков и тычинок. Но все это стало новым для меня. И откровенно говоря, я не была уверена, что мне это нравится. Я чувствовала себя расходным материалом, одноразовой деталью, затерянной в большом биологическом проекте, который я не выбирала и которому не я положила начало – это был проект, который произвел меня на свет, но который точно так же сжует меня и выплюнет. Я чувствовала себя использованной.
Я уверена, ты помнишь наши ссоры из-за выпивки. Ты считал, что мне вообще не следует пить. Я упиралась. Как только я узнаю, что беременна – я беременна, я не ударялась в эту ерунду про «мы» – я сразу завяжу с алкоголем. Но зачатие может занять годы, и я не собиралась все это время ломать себе кайф по вечерам, попивая из стакана молоко. Многие поколения женщин бодро потягивали спиртное во время беременности, и что – все они родили умственно отсталых?
Ты обижался. Ты замолкал, если я наливала себе второй бокал вина, и твои неодобрительные взгляды лишали меня удовольствия (на что они и были нацелены). Ты угрюмо ворчал, что на моем месте ты бы прекратил пить, и да, на годы, если нужно, и в этом я не сомневалась. Я бы позволила роли родителей влиять на наше поведение; ты бы позволил этой роли диктовать его. Кажется, что разница очень невелика, но на самом деле это небо и земля.
Я была лишена классических киношных намеков на беременность в виде рвотных позывов над унитазом, но кажется, киношники не хотят принимать тот факт, что некоторых женщин не тошнит по утрам. Хоть ты и предложил пойти со мной сдавать анализ мочи, я тебя отговорила: «Я ведь не проверяюсь на рак или что-то подобное». Я помню эту фразу. Очень похоже на то, что обычно говорят в шутку.
У гинеколога я достала свою баночку из-под маринованных артишоков, прикрывая проворством внутреннюю неловкость от того, что передаю в ней незнакомым людям дурно пахнущие отходы жизнедеятельности, и села ждать. Доктор Райнштейн – молодая женщина, холодная для своей профессии, с равнодушным и бесстрастным темпераментом, который больше подошел бы для фармацевтических опытов на крысах – вплыла в кабинет через десять минут и, наклонившись над столом, что-то коротко записала.
– Тест положительный, – сказала она коротко.
Подняв глаза, она присмотрелась ко мне повнимательнее.
– С вами все в порядке? Вы побледнели.
Я и правда ощущала странный холод.
– Ева, я думала, что вы пытались забеременеть. Это ведь должна быть хорошая новость для вас.
Она сказала это сурово, с упреком. Было такое впечатление, что, если я сейчас же не проявлю радости по этому поводу, она заберет моего ребенка и отдаст его тому, кто нормально соображает и кто примется скакать от радости, словно участник телешоу, выигравший машину.
– Опустите голову между коленей.
Кажется, я закачалась.
Когда я заставила себя выпрямиться, сделав это лишь потому, что у нее был такой скучающий вид, доктор Райнштейн зачитала длинный список того, чего мне нельзя делать, есть и пить, когда я должна прийти на следующий прием – и плевать на мои планы по обновлению нашего издания, посвященного Западной Европе. Это было мое первое знакомство с дорогой, на которой, перейдя порог материнства, ты внезапно становишься социальной собственностью, живым эквивалентом общественного парка. Это жеманное выражение «Ты теперь ешь за двоих, дорогая» целиком направлено на то, чтобы дать тебе понять, что даже твой обед не является больше твоим личным делом. И в самом деле, земля свободных людей стала все больше склоняться к принуждению, и кажется, что вывод звучит так: «ты теперь ешь за нас» – за 200 с лишним миллионов людей, вмешивающихся не в свои дела, чьей прерогативой является возражать, если ты вдруг захочешь съесть пончик с вареньем, а не полноценный обед с цельными злаками и листовыми овощами, в который входят пять основных групп питательных веществ. Право третировать беременных женщин наверняка вот-вот закрепят в Конституции.
Доктор Райнштейн перечислила рекомендованные марки витаминов и прочла лекцию об опасности продолжения игры в сквош.
У меня впереди был целый день, чтобы собраться и принять сияющий вид будущей матери. Я инстинктивно выбрала простой хлопковый сарафан – скорее дерзкий, чем сексуальный, потом подготовила продукты для обеда, который был агрессивно питательным (тушеный лосось без панировки и щеголяющий проростками салат). По ходу дела я пробовала разные подходы к избитой сцене: жеманный и замедленный; ошеломленный и искусственно сымпровизированный; сентиментальный – о, мой дорогой! Ни один из них не казался мне подходящим. Бегая по лофту и вставляя новые свечи в подсвечники, я храбро попыталась петь, но в голову мне лезли лишь театральные мелодии из высокобюджетных мюзиклов типа «Хэллоу, Долли!».
Ненавижу мюзиклы.
Обычно последним штрихом к праздничному ужину являлся выбор вина. Я уныло смотрела на нашу просторную винную полку, которая теперь будет пылиться без дела. Тот еще праздник.
Когда лифт остановился на нашем этаже, я стояла спиной к двери и приводила в порядок лицо. Бросив взгляд на несогласованный набор мучительных жестов, которые мы делаем, приводя в порядок лицо, ты избавил меня от необходимости делать объявление.
– Ты беременна.
Я пожала плечами.
– Похоже на то.
Ты поцеловал меня – целомудренно, не взасос.
– И как ты себя почувствовала, когда узнала?
– Вообще-то у меня закружилась голова.
Ты нежно коснулся моих волос.
– Добро пожаловать в новую жизнь.
Поскольку моя мать боялась алкоголя так же сильно, как соседней улицы, бокал вина так и не утратил для меня манящего свойства чего-то недозволенного. Я не считала, что у меня с этим проблемы, но долгий глоток насыщенного красного вина вечером с давних пор был для меня символом взрослости, тем самым хваленым американским Святым Граалем свободы. Но я уже начинала понимать, что абсолютная зрелость не очень-то отличается от детства. И там, и тут кругом правила, которым нужно следовать.
Так что я налила себе клюквенного сока и бодро произнесла тост: «Лехаим!»[65]65
За жизнь! (идиш).
[Закрыть]
Забавно, как легко загнать себя в угол мелкими шагами – крошечными компромиссами, небольшими смягчениями фраз, легкими преобразованиями одних эмоций в другие, чуть более соответствующие или лестные. Меня не очень заботил отказ от бокала вина сам по себе. Но, как в том пресловутом путешествии, которое начинается с одного шага, я уже ощутила первую обиду.
Обида была мелкая, но большинство обид именно такие. И именно из-за ее малости я чувствовала себя обязанной ее подавить. Если на то пошло, то природа обиды – это возражение, которое мы не можем выразить. Само молчание, а не жалоба, делает это чувство таким отравляющим – словно яд, который тело не может вывести с мочой. Поэтому, как бы усердно я ни старалась быть взрослой по отношению к клюквенному соку, который тщательно выбрала за сходство с молодым божоле, в глубине души я была бунтующим подростком. Пока ты придумывал имена (для мальчика), я ломала голову в попытках понять, чего во всем этом – в подгузниках, в бессонных ночах, в поездках на тренировки по футболу – я должна с нетерпением ждать.
Ты очень хотел разделить это со мной, потому предложил добровольно отказаться от выпивки на время моей беременности, хотя наш младенец не стал бы более здоровым, если бы ты воздержался от крафтового пива перед ужином. Так что ты радостно принялся литрами заливать в себя клюквенный сок. Казалось, ты наслаждался возможностью доказать, как мало значит для тебя спиртное. Меня это раздражало.
И потом, тебя всегда захватывала идея самопожертвования. Какой бы привлекательной ни была твоя готовность отдать свою жизнь другому, она в некоторой степени происходила из того факта, что, когда твоя жизнь полностью принадлежит тебе, ты не знаешь, что с ней делать. Самопожертвование было простым выходом. Я знаю, это звучит жестоко. Но я в самом деле считаю, что это твое отчаянное желание – избавиться от самого себя, если это не выглядит слишком абстрактно – оказалось огромным бременем для нашего сына.
Помнишь тот вечер? По идее, мы должны были столько всего обсудить, но мы говорили неловко, запинаясь. Мы больше не были Евой и Франклином; мы стали мамочкой и папочкой, и это был наш первый ужин в качестве семьи – это слово и это понятие всегда вызывали во мне тревогу. И я была вспыльчивой, отвергая все предложенные тобой имена – Стив, Марк, Джордж – как «слишком обычные», а ты обижался.
Я не могла с тобой говорить. Я чувствовала, что мне мешают, меня ограничивают. Мне хотелось сказать: Франклин, я не уверена, что это хорошая идея. Ты знаешь, что в третьем триместре меня даже не пустят в самолет? И меня бесит вся эта нравственная чепуха – придерживаться правильной диеты, и подавать хороший пример, и искать хорошую школу…
Слишком поздно. Нам полагалось праздновать, и мне полагалось быть в приподнятом настроении.
Неистово пытаясь воссоздать мое страстное желание иметь «копию», которое ко всему этому привело, я воскрешала в памяти ту ночь, когда ты застрял на бесплодных сосновых пустошах: неужели слово «бесплодный» побудило меня к этому шагу? Но то необдуманное решение, принятое майским вечером, оказалось иллюзией. Да, я приняла решение, но гораздо раньше – когда так сильно и непоправимо влюбилась в твою американскую улыбку, твою душераздирающую веру в пикники. Как бы сильно я ни устала составлять подробные описания новых стран, с течением времени еда, напитки, цвета, деревья и сама жизнь неизбежно теряют свежесть. Но даже если этот блеск потускнел, это все равно была жизнь, которую я любила и в которую невозможно было без всякого труда вписать детей. Единственным, что я любила еще больше, был Франклин Пласкетт. Ты желал столь немногого: была лишь одна дорогая вещь, которую ты хотел и которую я могла тебе подарить. Как я могла лишить тебя того светящегося от радости лица, с которым ты кружил в воздухе визжащих девчонок Брайана?
В отсутствие бутылки, с которой можно посидеть подольше, мы легли спать рано. Ты нервничал насчет того, «положено» ли нам заниматься сексом, не повредит ли это ребенку, и меня это рассердило. Меня, словно какую-то принцессу, уже сделал своей жертвой организм размером с горошину. Сама я действительно хотела заниматься сексом – впервые за многие недели мы наконец могли делать это, потому что хотим секса, а не потому что должны внести свой вклад в эту гонку. Ты уступил. Но был тоскливо нежен.
Я ожидала, что мои метания улягутся, но эти противоречивые чувства лишь обострились и потому стали еще более скрытыми. Мне следует наконец рассказать все начистоту. Думаю, мои метания не исчезли, потому что они не были тем, чем казались. Неправда, что я испытывала «двойственные» чувства по поводу материнства. Ты хотел ребенка. Я, по большому счету, нет. Сложенные вместе, эти чувства были похожи на нерешительность, но, хоть мы и были превосходной парой, мы не являлись одним человеком. Я ведь так и не заставила тебя полюбить баклажаны.
Ева
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































