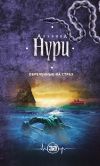Текст книги "Колокольчики Папагено"
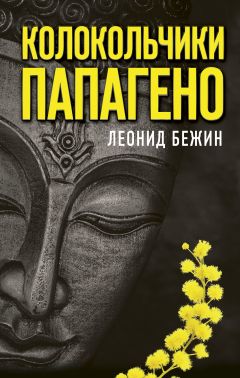
Автор книги: Леонид Бежин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Приветствую славную компанию. Разрешите присоединиться?
Поскольку на ступеньках не было места, он принес с террасы стул, но садиться не стал.
– Присоединяйся, – лишь после этого сказала Наталья, словно только теперь появилась надежда, что он ее услышит.
– Будем пить и веселиться.
– А не хочешь сначала объяснить, что все это значит? Ты всем надавал обещаний и ни одно не выполнил. – Наталья сама села на стул, словно он принес его для нее (позаботился), но забыл ей об этом сообщить.
– Каких обещаний? Родиться на свет в этом аду – это обещание я выполнил, хотя мог бы и не выполнять. Остальные же не столь важны.
– Миленькое дело! – Наталья обратила к нему лицо, стараясь, чтобы и в нем прочитывалось что-то дьявольски миленькое. – А обещания Наталии, Натали, Дарье, наконец? О себе уж и не говорю.
– Хорошо, я открою вам секрет. Вернее, Божественный План. Вы будете жить долго и счастливо. Наталия – до девяноста двух лет, Натали – до восьмидесяти четырех, Дарья – до восьмидесяти, а ты как моя жена – до ста четырех. Правда, под конец жизни тебя будут возить. В роскошном лимузине.
– Каком это еще лимузине?
– Ну, в кресле для парализованных…
– Ах ты дрянь!
– А остальными предсказаниями вы довольны?
– Ты все шутишь. Никак не уймешься. А уж седой весь…
– Ну, положим, не весь. – Он спрятал выбившийся клок под фуражку. – Повторяю, довольны сроками жизни?
– Многовато. Зачем столько? Можно подсократить. – Наталья обернулась к подругам, словно надеясь, что они тоже согласны подсократить свои сроки.
– Нет уж, вы сокращайте, а лишнее можете отдать мне. Пригодится. – Наталия любезно улыбнулась, чтобы никто не сомневался в том, что сказанное соответствует истине.
– А у меня хоть все забирайте. Мне не жалко. – Натали разглядывала свои ядовито-зеленые ногти, словно они были единственным, о чем она, может быть, пожалела.
– Никаких сокращений не будет. Так положено. Не возражать. – Андрей хотел для солидности тронуть бородку, но вспомнил, что она сбрита.
– Слушаемся, товарищ генерал. Какие еще будут распоряжения? – Наталья по-военному выпрямилась и приставила ладонь к виску.
– А вот какие, любезные дамы. – Андрей сам не заметил, что все-таки тронул отсутствующую бородку. – Вы все можете здесь жить – дача отныне ваша. Располагайтесь, как вам удобно, а мне дайте одну маленькую комнату.
– Какую? – Наталья сочла, что уточнение в данном случае не будет лишним.
– Ту, которую твой дед пристроил для гостей.
– Но у нас нет такой комнаты.
– Как это нет! Есть! Он принимал там бывших однополчан – генералов, маршалов. Словом, архистратигов. И хранил именное оружие.
– Да где она? Где?
– На втором этаже. Под самой крышей. Он в ней и застрелился однажды ночью.
– Дед никогда не стал бы стреляться. Он просто умер. Во время сна.
– Нет, он застрелился.
– Андрей! – Сказанное им было настолько абсурдным, что Наталья сочла достаточным произнести его имя, чтобы тем самым возразить ему.
Но он не принимал никаких возражений.
– Застрелился из этого именного пистолета. – Он на мгновение достал из кармана и снова спрятал в него нечто, похожее на пистолет.
– Андрей, прошу тебя, дай.
Он словно не слышал.
– Дай, пожалуйста. Отдай это мне.
Он пожал плечами, словно ему нечего было давать и он не понимал, о чем его просят.
Ей стоило больших – мучительных – усилий заговорить о другом.
– Ну, хорошо. Пойдем, ты нам покажешь. Покажешь эту комнату.
– Когда наступит срок, сами ее найдете.
– И что ты будешь в ней делать?
– Я буду вести жизнь совершенного мужа. Читать Конфуция, к примеру. Или Данте.
– Кажется, я догадалась. – Наталья постаралась, чтобы все в ее лице свидетельствовало о необыкновенной догадливости (и гадливости к самой себе). – Умереть – то же самое, что перейти в другую комнату. Твои слова, мерзавец? Ты эту комнату имеешь в виду, сволочь?
– Я буду жить двести лет.
– Поздравляю. Значит, ты еще успеешь нас помучить.
– Успею, успею.
Ночью он застрелился.
Фил и Фоб
«… Разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление…»
Лермонтов, «Герой нашего времени»
Разговор становился уж очень отвлеченным, заоблачным, к тому же с каким-то инфернальным оттенком, а для дружеской вечеринки или, как сейчас говорят, корпоратива это, конечно, непозволительно. Более того, это скверно, ровным счетом никуда не годится – хоть зажимай нос, словно от дурного запаха. Но, увы, так бывает, и довольно часто: тот, кто болтал без умолку вначале, развлекал публику, сыпал остротами, шутками, каламбурами, под конец увядает. Зато молчуны получают вожделенную возможность хоть как-то заявить о себе, обозначить свое присутствие и подхватывают разговор, хотя и уводят его в непроходимые дебри, отстойники и выгребные ямы, без которых не обходятся наши привокзальные сортиры (кажется, меня повело немного не туда, вы уж меня простите).
Так получилось и на этот раз: когда за столом почти все замолкли, двое скучнейших половиков (так у нас называют плановиков, о которых все вытирают ноги) с тридцатилетним стажем стали крутить свою заунывную шарманку. Крутить и спорить о том, каких грешников будут вертеть над огнем, чтобы с них капал растопленный жир, каких варить в кипящем, измазанном сажей котле, а каких сажать на кол. Это, разумеется, вольный пересказ их беседы, ее, так сказать, общий смысл, к которому, по мнению большинства, сводятся все на свете отвлеченности: их ведь у нас очень не любят и не жалуют.
Поэтому наши милые дамы откровенно заскучали, томно зевая и напуская на лица выражение кокетливой меланхолии. Мужчины начали жадно курить, оркестранты – укладывать в футляры свои тарелки, барабаны и саркофаги… пардон, саксофоны (все-таки я сегодня изрядно набрался, хотя и обещал себе много не пить), а официанты убирать посуду и уносить бутылки, прежде всего выбирая те, на дне которых оставалась кое-какая пожива.
И лишь два наших философа упорно продолжали спорить и даже этак увлеклись, расхорохорились, ударились в азарт – словно от нетерпения поскорее попасть на вертел или на острие осинового кола.
Но их если и слушали, то недолго, и общество против них дружно восстало:
– Ну, хватит, господа. Пощадите. Давайте о чем-нибудь попроще и повеселее, а то эти ваши отвлеченности… Право же, надоело, мы устали.
Один из споривших, худой и сухощавый, благородной внешности, с бородкой лауреата Гонкуровской премии, но при этом – с йодистого цвета лицом и каким-то медицинским прибором, выпирающим из-под пиджака, обернулся на эти слова:
– Да ведь вся наша жизнь – сплошные отвлеченности. И чем она проще, тем загадочнее. Вот у меня вырезана половина желудка, я и жить-то не должен, благодаря же каким-то трубочкам, шлангам и краникам не только живу, но и философствую. Загадка!
– Полноте, любезный, – возразил ему коротко стриженный, гладко причесанный, с пиявочным отливом волос крепыш, – оставьте ваши трубочки медицине. Но что загадочного, к примеру, в том, что я сижу и курю? Или в том, что у меня дочь восьми лет? Для нее я на воскресенье взял билеты в цирк – лучшие места. Она будет хрустеть вафельным стаканчиком мороженого, болтать ногами и смеяться до упаду, глядя, как клоуны в огромных ботинках гоняются друг за другом по манежу, колотят один другого невесомыми чугунными гирями и истошно вопят.
Гонкуровский лауреат возразил:
– Цирк – это, может быть, самое загадочное и отвлеченное из всего, что я знаю. Неизвестно, что в нем происходит по ночам, когда никого нет. А уж клоуны-то с их огромными ботинками – воплощение самых утонченных абстракций. Если позволите, я вам кое-что расскажу – о нет, не историю. Истории рассказывать сейчас не умеют, а так, кое-что… анекдотец. Все-таки у нас оплачено до двенадцати, и время еще есть.
– Ну, пожалуйста, расскажите, раз уж вы столь педантичны по части времени, – смирился пиявчатый крепыш.
– По части времени – да, пожалуй, – подхватил гонкуровский лауреат. – Время сейчас прекрасное! Все отстойники прежней эпохи позолотили, выгребные ямы, – он старался не смотреть в мою сторону, – выложили мрамором – красота! Вот только немножко воняет, из-под мрамора-то потягивает, но это не беда, и мы не в претензии. Ведь Россия – это сплошная, бесконечная провинция, хоть у нее и две столицы. Поэтому у нас ко всему привыкли.
– Вы и сами, кажется, из провинции? – уточнил крепыш.
Гонкуровский лауреат не ответил и начал рассказывать.
I
В нашем городе нет стадиона. Это всем известно, и не стоило бы об этом упоминать, если бы стадион у нас просто отсутствовал, а не прекратил неким образом свое существование. Он же именно прекратил и при этом не оставил никаких следов – не только на местности (там все быльем поросло, разметка беговых дорожек лишь кое-где угадывается, а к покосившимся столбам от футбольных ворот привязывают бельевую веревку), но и в памяти целого поколения горожан, родившихся позже его исчезновения. Да, лишь только стадион наш исчез, рождаемость стала побивать все рекорды. И не только, так сказать, в одиночном, но и командном зачете, поскольку с той поры преимущественно двойни и тройни оглашали родильные палаты истошным криком.
Поэтому я уж упомяну – ради новых-то поколений, коих я приветствую вслед за поэтом. Здравствуй, племя молодое, незнакомое.
Впрочем, пафос здесь неуместен, и я прошу впредь меня одергивать и не позволять слишком уж расходиться. Поэтому ограничусь тем, что в силу моего преклонного возраста засвидетельствую: стадион у нас был. В подтверждение этих слов могу каждому любопытствующему точно указать место на пустыре, за свалкой, где когда-то бегали стометровку и гоняли мяч. И как гоняли! При ударе искусно подкручивали его, чтобы он, совершив дугообразный полет, плавно влетел в ворота.
Впрочем, я снова впадаю в пафос. Влетел в ворота! Такое, увы, случалось редко: гораздо чаще мяч вместо ворот улетал на трибуны к зрителям, и приходилось вбрасывать другой, но и тот улетал, после чего зрители свистели, топали ногами и расходились.
Словом, не пошло у нас.
Не хватало настоящих игроков (чтобы выписывать их, к примеру, из Сенегала, у города не было средств: казна не позволяла), а без них какая ж игра. Поэтому стадион сначала опустел, а затем зачах и захирел, о чем многие у нас жалели, особенно из числа испытанных болельщиков, умеющих свистеть в два пальца, размахивать сорванной с головы засаленной кепкой и кричать на всю округу: «Судью на мыло!» Жалеть-то жалели, хотя исправить ничего не могли.
Но со временем футбол по всему миру приобрел такие варварские, дикие формы, что наша жалость сменилась сначала пугливой, недоверчивой радостью, а затем восторгом и ликованием. И слава богу, что нет! И не нужно! Зачем нам столкновения фанатов, драки, увечья, разбитые витрины, поджоги машин и прочие выплески футбольного азарта! Мы уж как-нибудь без этого обойдемся.
Мы вместо футбола будем смотреть, как перебрасывают мяч дрессированные тюлени, енот стирает белье, заяц выбивает дробь на барабане и прыгают в огненные кольца львы. И обитатели нашего города повалили в цирк, где сразу начались аншлаги и подскочили сборы. Казалось бы, вот она удача – держи за хвост и не выпускай. Но случилось несчастье – умер старый клоун дядя Миша, любимец публики, особенно, конечно, детей, которые его просто обожали и боготворили. Ждали с лихорадочным нетерпением, когда же, зачерпнув из глубокого кармана, он бросит им горсть конфет.
Хотя и взрослые от души смеялись шуткам дяди Миши, тем более что он прохаживался по здешним властям, не боялся их всячески подкалывать, подпускать им шпильки, а они терпели и делали вид, будто благодарны ему за справедливую критику. Даже с озабоченным видом что-то черкали в блокнот, словно перед столичным начальством, и надо было видеть выражение на их лицах – лицах благочестиво-кротких служителей исполнительской дисциплины. Обещали исправиться, навести порядок: понимали, что иначе на ближайших выборах их с позором провалят.
Доставалось от него и нашим толстосумам-олигархам. Те натянуто и слащаво улыбались шуточкам дяди Миши, поскольку тоже выставляли свои кандидатуры на выборах и были вынуждены заботиться об общественном мнении, иначе бы дяде Мише бы, конечно, несдобровать. После угроз по телефону подкараулили бы в подъезде и отбили все внутренности, чтобы кровью харкал, чтобы впредь (если останется жив) было неповадно просунутым сквозь решетку прутиком дразнить и заставлять рыкнуть спящего льва.
А так ему все сходило с рук: выборы есть выборы…
Лишь церковь не то чтобы не жаловала дядю Мишу, но проявляла некую тревогу, озабоченность, обеспокоенность: «А ну как из него нового святого сделают, так сказать причислят к лику. Шут и фигляр будет грехи отпускать».
Я дружил с дядей Мишей: мы жили на одной улице, рядом с последней остановкой трамвая. И часто бывал у него дома, в коммунальном закутке с продавленной раскладушкой, пустой цирковой гирей, на которой намалевана белилами цифра 100 кг, и подвешенной к потолку резиновой клизмой, заменявшей ему боксерскую грушу. Он любил меня лечить разными настойками, а чаще водочкой, которой приписывал всевозможные целебные свойства. «Сам-то как?» – спрашивал я его, а он все отмахивался, отшучивался, хотя за бок при этом держался.
И тут на беду ему посоветовали: греть на огне булыжник и прикладывать к боку – прогревать, чтобы выгнать рака. Дядя Миша послушался и тем ускорил дело: рак только этого и ждал, чтобы его стали тревожить, выкуривать, выгонять с насиженного места, и он смог бы в отместку побольнее цапнуть своей клешней.
И вот не стало дяди Миши.
Случилось это весной, в самое чудесное время, когда набухли почки у вербы, треснул и двинулся на реке грифельно-серый лед. Главную площадь нашего города запрудило горчичной, лениво колыхавшейся, пенистой водой, в которой раскачивались слепящие солнечные обручи. Хозяева двухэтажных домишек широкими цинковыми лопатами сталкивали с крыш снежные оползни и шестами сбивали сосульки. И на кладбище было не пройти от смородинно-черной грязи с мутными озерцами воды, и сторожа говорили, что недели через две-три подсохнет и зацветет сирень, которую так любил дядя Миша.
II
После смерти дяди Миши долго искали ему замену, – считай, все лето. А лето было душное, с тополиным пухом, носившимся в воздухе, дымящими торфяниками и вытоптанными до табачной желтизны коровьими лежанками под дубами (у нас на окраине все еще пасут коров, и пастух по утрам щелкает веревочным кнутом). Немые зарницы полыхали над лесом, и овраги пересохли так, что их вскоробившиеся днища казались усыпанными черепками разбитой глиняной посуды.
Искали, но никак не могли найти.
В городе второго дяди Миши не было – разве что его закадычный приятель, восторженный (при этом завистливый и ревнивый) поклонник и подражатель долговязый Кадик, цирковой завсегдатай, вместо обоев обклеивший свою комнатушку старыми афишами и использованными контрамарками. Контрамарки ему выдавали за то, что он оглушительно хлопал и бросал под ноги артистам цветы, сорванные на клумбах. Было известно, что Кадик тоже комиковал, стараясь не уступать дяде Мише. Но выступал он лишь после второй бутылки. Да и то сбивался, все путал, перевирал, ради пьяных амбиций пытался добавлять что-то свое, но так неудачно, грубо и аляповато, что было ясно: не потянет, кишка тонка.
Директор Самсон Багратович, толстенький, круглый, с усиками над маленьким детским ртом и двумя клоками волос на висках, про него и слышать не хотел. Требовал привести ему истинного, прирожденного артиста. А где такого взять? Всю округу переворошили, из Москвы пытались сманить – сулили золотые горы, оклад, как у футболистов, чуть не бесплатное жилье в рассрочку, но никто не купился. Более того, находились насмешники, утверждавшие: мол, не там ищете, клоуны теперь не в цирке, а поближе к Кремлю, рубиновым звездам. Иными словами, в Охотном Ряду.
А без клоуна какой же цирк. Конферансье с его остротами, фраком и бабочкой в мелкий горошек клоуна не заменит. Укротителям и воздушным гимнастам красные носы не прилепишь. Образно выражаясь, мячи снова полетели в никуда – на трибуны к зрителям. Аншлаги скисли. Сборы сразу упали – хоть закрывай цирк. Директор Самсон Багратович стал грозить, что сам натянет клетчатые штаны, огромные ботинки, нарумянит щеки, прицепит красный и нос и выйдет на арену потешать публику.
И тут под видом заботы о цирке к директору пожаловал важный гость, хорошо известный в нашем городе. Он подкатил с бритоголовой охраной на черном джипе. Небрежно уронил перед секретаршей несколько заморских купюр, мягко спланировавших ей на стол. Бесшумно и вкрадчиво, словно в чужую квартиру, проник в кабинет, деликатно взял из рук директора телефонную трубку (тот собирался звонить) и положил на рычаг.
Это был один из наших олигархов – Рома Быков, большегубый, с красивыми карими глазами на грубом, иссеченном шрамами лице, узкой выгнутой спиной (казался немного сутулым) и впалой грудью доходяги, которого в детстве постоянно возили по туберкулезным санаториям. Кроме того, по нервической судороге на лице и подергивающимся плечам чувствовалось, что он психопат и истерик. Словом, рамсит.
Быков, как о нем говорили, держал подпольные казино, тогда еще разрешенные. Но он на всякий случай их задрапировал, занавесил, замаскировал под клубы, и как показало время, оказался прав: стали запрещать, а его не тронули. Поговаривали, что откупился, но причина была не только (вернее, не столько) в этом.
Рома имел десять судимостей и столько же правительственных наград, врученных ему за своевременный демократический выбор, умение поклясться в верности до гроба. Поклясться и выпить три стакана водки, преданно глядя в глаза. За это и дали ему подняться, а когда сменилась власть, опускать не стали: авось понадобится.
Состоялся разговор меж ним и директором цирка, причем Рома Быков выставил на стол такой коньяк, какого Самсон Багратович к своему стыду (как-никак армянин из Еревана) ни до, ни после не пробовал. Вместе помянули дядю Мишу. Рома пожаловался на козни конкурентов и враждебность новых властей: «Житья не дают», а Самсону Багратовичу (он был туговат на ухо) послышалось, что – жилья. И он немало удивился, даже возмутился (как это такому человеку, о которого спички можно зажигать, не дают жилья!).
Выразил горячую готовность посодействовать, и тот терпеливо, даже с удовольствием слушал, не пытаясь его поправить, а затем сказал (доверительно признался), что за последнее время изрядно обнищал, заключив два невыгодных контракта, да и вообще профинтил, поистратил накопленное и что поэтому ему нужна… война.
– Война? – спросил Самсон Багратович, на этот раз безнадежно уверенный, что уж тут-то он наверняка ослышался.
Но оказалось, что слух его не подвел и речь шла именно о войне. Правда, Рома стал сглаживать, округлять, чтобы ниоткуда не торчало, не выпирало и не кололо:
– Ах, вы не подумайте. Я тоже хорош: напугал вас. Не в глобальном масштабе, конечно же, а так… маленькая местная война, даже без особых выстрелов.
– Для чего?
– Чтобы решить кое-какие проблемы. Так часто бывает: в мирное время проблемы накапливаются, множатся, пухнут, и нужна война, чтобы с ними справиться. Да и надоедает изрядно мирное-то житье. Скучно становится. Вернее, как-то томно, тягуче, словно в туберкулезном санатории…
– Но ведь любая война – это жертвы, страдания невинных. Да и под каким предлогом? Снова эрцгерцога Фердинанда прикончить, да где ж его теперь найдешь?
– Ну, зачем же. Достаточно самого пустячного, даже смехотворного предлога, как в цирке. Ударил пустой резиновой гирей по голове, облил краской из ведра, подставил подножку – и война. А жертвы? Ну, пострадают немного, зато и очистятся, как у Достоевского или кого там еще из классиков. Впрочем, я вижу, что вы меня не совсем понимаете. Будем считать, что я пошутил.
Самсон испугался, что дал промашку, спохватился, стал доказывать, что, наоборот, все прекрасно понял, но Рома Быков смотрел мимо, без всякого интереса.
– Ну, а как у вас в цирке? Я слышал, трудности? Готов помочь…
Самсон Багратович посетовал на нехватку истинных и прирожденных. Снова помянули дядю Мишу: выпили, не чокаясь, и коньяк лег, как бархат. Роман сказал, что есть у него на примете клоун.
– Берег для себя – на тот случай, если когда-нибудь куплю ваш цирк с потрохами или создам свой. Но раз такое дело, готов уступить.
– Нам нужен независимый, – скромно заметил директор, и олигарх заверил, что он не позволит заокеанским воротилам и их здешним пособникам вмешиваться в дела нашего цирка и сам со своей стороны обещает…
Словом, они друг друга поняли.
Рома лишь высказал пожелание, что хорошо бы напустить побольше… он так и не нашел нужного слова и поэтому добавил: – Мистики или гипноза.
– Какая же мистика нужна? – спросил директор, не совсем понимая, о чем речь, но делая вид, что ему лишь нужно выбрать из всех видов мистики наиболее подходящую.
– Какая? – Роман удивился тому, что и здесь приходится ломать голову – выбирать, но быстро нашелся: – Разумеется, самая демократическая.
III
Хотя Рома, прощаясь с Самсоном Багратовичем и выливая ему на голову тонкой золотистой струйкой недопитый коньяк, просил зря не болтать – не базарить попусту об их разговоре, – эти меры предосторожности не возымели действия. Слушок, как дымок, взвился над куполом цирка, а затем, подгоняемый ветром, быстро облетел весь город. При этом он оброс самыми невероятными домыслами, догадками и такими подробностями, какие мог слышать только тот, кто при разговоре присутствовал. Или в нем участвовал, хотя, кроме Самсона Багратовича, не участвовал никто…
Сам же обсуждаемый предмет раздули до размеров циркового слона Везувия, который в гневе опрокидывал прилавок буфетчика и расшвыривал кадки с пальмами. Укротить его в такие минуты мог только друживший с ним дядя Миша (Быков же хотел однажды застрелить за неповиновение).
Поговаривали, что цирк теперь снесут бульдозерами, а на его месте построят детский оздоровительный центр. Иными словами, еще одно подпольное казино и притон для наркоманов – так называемый жокейский клуб. Артистов же вместе с реквизитом и их подопечными выставят на аукцион, пустят с молотка.
Вот какую несли несуразицу. Самсону Багратовичу даже пришлось звонить Быкову, оправдываться и клясться, что он к этому непричастен, что со своей стороны ни единым словом… даже жене… никому.
– Ну уж, жене-то наверняка… – сказал в трубку Быков, как бы вовсе не порицая, а наоборот, всячески приветствуя доверительные отношения и откровенность между супругами. – А жена по дружбе и под большим секретом взяла и выложила все Акимушке – Акиму Бане, моему главному конкуренту и сопернику на выборах. Как не сказать, если они любовники! Это ведь святое…
– Да как вы смеете!.. Да кто вам такое?!.. – вступился за честь жены Самсон Багратович, но вступился как-то неуверенно, не заносясь, не напирая…
– Вам фотографии по почте прислать или специальным курьером? – спросил Быков, словно его больше всего заботил способ присылки фотографий.
– Какие фотографии? – брезгливо спросил директор.
– Фотографии с видами. С видами нашего городка. Вот зимние виды, вот весенние…
– Оставьте их себе. И любуйтесь.
– Мне они как-то ни к чему. Разве что выставить где-нибудь. Для всеобщего обозрения, а? – Быков участливо давал время подумать, прежде чем ответить.
– Умоляю, – тихо простонал Самсон Багратович.
– Лады, лады. Я не настаиваю. Тогда вам остается лишь выбрать вид казни. Ваши пожелания будут удовлетворены.
– Казни для жены? – спросил Самсон Багратович с неясной надеждой, которую Быков сразу отсек.
– Ну, зачем же. Для вас. Слух-то от вас пошел. Так что выбирайте, что вам больше нравится – на вертеле жариться или вариться в кипящей смоле. Можем и под асфальт закатать, как того журналиста…
– Какого журналиста?
– Да был тут один… – Рома не желал распространяться о нехорошем, несговорчивом журналисте. – Ну? Выбрали?
Самсон Багратович ответил как по уставу, как рядовой командиру:
– Вину свою признаю. Обещаю выполнить все, что вы прикажете.
– Вот так-то лучше. Ставлю боевую задачу, – командовал Быков. – Явится к вам Акимушка, разговор записать, с точностью запротоколировать и мне на стол положить.
– Будет исполнено.
Быков там, на дальнем конце провода, бросил трубку, а Самсон Багратович свою трубку еще долго – мечтательно – держал в руках.
IV
Дня через два явился к нему Аким Баня – бородка цвета опавших дубовых листьев, в белом костюме, вышитой украинской сорочке с расстегнутым воротом и сам белесый, стекловидный, струящийся, разве что не прозрачный.
Явился как простой смертный, с нарочитым смирением, предварительно записавшись на прием. Секретаршу баловать не стал: удостоил лишь шоколадки, маленькой, в простой обертке, какие буфетчицы вместо сдачи дают. Скромненько сел на потертый рыжий диван и терпеливо дождался своей очереди, хотя все в приемной, вдохновленные его присутствием, ему предлагали, уступали, выражали готовность пропустить.
Но Аким отказывался, просил не беспокоиться. И все решили, что не к добру, что чем-нибудь отзовется, что Аким не простит тем, кто оказался свидетелем его добровольного унижения…
Наконец кто-то не выдержал и подмигнул секретарше: ты, мол, шепни там. Секретарша змейкой проскользнула в кабинет, после чего Самсон Багратович сразу выбежал (выкатился), вскинул короткие тюленьи ручки, гостеприимно распахнул дверь, придержав ее носком зеркально начищенного ботинка, чтобы не захлопнулась:
– Прошу, прошу!..
– Да мы уж как положено… – заскромничал Баня.
Тут все подхватили, словно приглашая его, как артиста, на сцену:
– Просим, просим!..
Тогда Аким снизошел, позволил себя уважить.
Дверь за ним закрылась, и разговор он начал якобы с шутливого вызова, с невольной оплошности, случайной оговорки.
Словом, начал так:
– Слышал, Рома Быков вам себя в клоуны предлагает…
После этого он пододвинул к себе стул, но сел на краешек стола. На стул же положил вытянутые ноги.
Самсон Багратович боязливо и застенчиво улыбнулся. Поддержать шутку было бы опрометчиво, но не поддерживать – еще более рискованно и опасно. Поэтому он выбрал среднее: отдал должное остроумию гостя, как бы не догадываясь (ведать не ведая), против кого именно оно заострено.
– Да, с клоунами у нас сейчас плохо…
Аким тем временем гнул свое:
– А у него бы получилось… Только колпак с бубенчиками ему надеть.
– Вот как умер дядя Миша…
– Да что ты мне про дядю Мишу! Я тебе о Роме Быкове толкую!
– О Быкове? Виноват, ослышался. Это о каком же?
– О том, что у тебя был…
– Ах, о Быкове! – Самсон Багратович словно бы подставил истинного Быкова на место ложного.
Подставил и не знал, что с ним делать.
– И что же он от тебя хотел?
– В клоуны себя предлагал, – застенчиво произнес директор, не столько отваживаясь пошутить, сколько придавая особое значение услышанной от Акима шутке.
– Ладно, ты сам, я вижу, клоун. Порешим так. Быков пришлет своего – что ж, пускай. Но у меня тоже для тебя есть подарочек. Возьмешь обоих. Согласен?
Смотревшие в пустоту, безучастные, стекловидные глаза Акима Бани внушили Самсону Багратовичу, что лучше не отказываться. Хотя он и без всяких внушений об этом знал.
– Согласен, конечно… разумеется…
– Отвечай по уставу. Ты не на гражданке.
– Так точно. Согласен. А испытать их можно? Ну, в клоунском деле…
– Испытать? Вообще-то они ребята бывалые, испытанные, но если есть необходимость…
– Слушаюсь. – Директор встал навытяжку и едва не отдал честь.
– Вот и действуй. Потом доложишь. – Аким перевел взгляд на Самсона Багратовича, словно желая убедиться, что тот понял все как надо и повторять ничего не нужно, и лишь после этого встал и направился к двери, напоследок напомнив директору: – Там тебя народ дожидается. Уж будь любезен всех принять. Ты не на гражданке.
V
В дополнение к тому, что директора цирка удостоили своим посещением олигархи, к их осадным маневрам подключились и группы поддержки. Иными словами, помимо посещений были еще и звонки: из городской управы, с угольной шахты, от дирекции рыбного и тракторного заводов, из прокуратуры и прочих мест, где могли обитать сторонники того или иного олигарха. Даже из лесничества позвонили, хотя связь была плохой и из телефонной трубки слышались щелканье, хрипы, стоны, подвывание и столь же мелодичные звуки, напоминавшие сопение лося, волка или медведя.
Каждый звонивший начинал издалека. Мол, жаркое нынче лето и почти без дождей, разве что чуть-чуть покрапает, давно такого не было. Спрашивал, когда открытие сезона. Сетовал, что так рано проводили в последний путь дядю Мишу, вспоминал его рискованные, крамольные шуточки и, понизив голос для придания ему особой значительности, просил порадеть за своего.
Для одних своим был «тот, что от Быкова», для других – «тот, что от Акима Бани».
Самсон Багратович, конечно, догадывался, что речь идет о кандидатах в клоуны – кандидатах от той или иной партии. И всем отвечал уклончиво, ничего не обещая, но и не отказывая, стараясь вселить надежду: «Постараемся выбрать достойного. Непременно учтем вашу рекомендацию. Уверен, что победит сильнейший».
А тех, кто слишком наседал, напирал, угрожал и запугивал, намекая на свои связи, ссылаясь на поддержку неких могущественных сил, директор умел и осадить, срезать заранее заготовленной фразой: «Хватит морочить нас всякой дурацкой мистикой».
И вот в последний августовский день, когда немного спала жара, повеяло зыбкой прохладой – предвестницей осенних заморозков, и стал рассеиваться дым от горящих торфяников, кандидаты пожаловали для первого знакомства – почти одновременно, словно ни одному не хотелось пропустить вперед другого. Пожаловали и, словно боксеры на ринге, сели в приемной по разным углам.
Первым директор принял того, что от Быкова, широкого, распахнутого, словно прячущего под рубашкой развернутую во всю грудь гармонь, с чемоданом, наполненным реквизитом, в огромных ботинках и клетчатых штанах, державшихся на полосатых помочах.
Самсон Багратович усадил его в кресло с овальной (медальонной) спинкой. Затем попросил привстать, словно что-то его не удовлетворило, кресло чуть-чуть сдвинул, чтобы оно попало в некий мысленно выстроенный кадр, и снова усадил. Отойдя на два шага, взглянул, оценил и лишь тогда успокоился.
– Ну что ж, для знакомства вот вам несколько проверочных заданий. Для начала поплачьте немного.
Тот придал лицу блаженно-бессмысленное выражение, сморщился, часто-часто заморгал, а затем словно надавил невидимую грушу пульверизатора, насаженного на флакон с соленой влагой, и из глаз у него прерывистыми струйками брызнули слезы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?