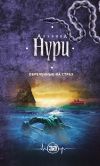Текст книги "Колокольчики Папагено"
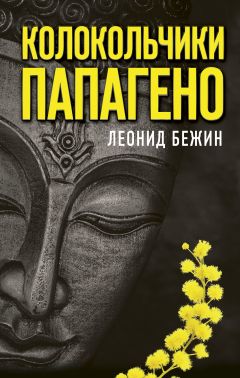
Автор книги: Леонид Бежин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Очень хорошо… – с веселостью одобрил Самсон Багратович, – а теперь высморкайтесь в платок, но так, чтобы было слышно на улице.
Тот достал платок и трубно высморкался – аж задрожали стекла и на столе сам включился вентилятор.
Самсон Багратович еще больше повеселел и даже рассмеялся, приоткрыв свой маленький детский рот с золотыми коронками на каждом третьем зубе.
– А теперь побоксируйте с невидимым противником, – сказал он, неожиданно став грустным.
Кандидат от партии Быкова достал из чемодана боксерские перчатки, надел их и стал наносить удары по тому месту, где за стенкой сидел его соперник.
– Достаточно, – остановил его директор и сам снял с него перчатки. – Теперь задание потруднее. Изобразите, если можно… горящий торфяник.
И тут случилось чудо: испытуемый взвился, истончился, заклубился, после чего приник к самому полу и стал расстилаться дымом по кабинету.
– Замечательно! Превосходно! Не зря вас рекомендовали… – Самсон Багратович даже открыл форточку, чтобы выветрился воображаемый дым. – Ну, и напоследок… посмейтесь. Да, посмейтесь – и надо мной, и над самим собой, и над нашей похожей на цирк, балаганной, клоунской жизнью.
– Простите?.. – Тот словно чего-то не понял, даже несколько растерялся (оторопел).
– Я говорю, посмейтесь, посмейтесь…ну что же вы?
– Я бы хотел уточнить, какой вид смеха вы предпочитаете?
– А вы всеми видами владеете?
– Всеми – от иронической улыбки, смешков и хихиканий до гомерического хохота. Это мой конек.
– В таком случае седлайте вашего конька и… а впрочем, не надо. Иронической улыбки для нашей жизни мало, а гомерического смеха мы не заслужили. Поздравляю. Вы выдержали испытание. Ждем вас в начале осени. Да, чуть не забыл. Ваше имя?.. – Директор выбрал в стаканчике надежную, много раз проверенную ручку, чтобы записать.
– Филимонов Сергей Альбертович, – с достоинством представился тот.
– Так и запишем, – сказал директор, но тут надежная ручка неожиданно подвела: ее хватило лишь для того, чтобы написать: Фил, а дальше она иссякла. – Что за чертовщина! – Он с досадой исчеркал весь лист. – Ведь только что писала! Ладно, я запомню: Филимонов Сергей Арнольдович.
– Альбертович, – поправил тот.
– Да, да, извините.
VI
После этого был вызван тот, что от Акима Бани, весь зауженный, ввинченный, вобранный в самого себя, с бухгалтерскими заплатами на рукавах пиджака, потертым баулом и зонтиком. Самсон Багратович усадил его в то же кресло с овальной спинкой. Усадил и остался доволен, уже не просил привстать, словно тот сразу попал в кадр.
– Вас я попрошу разыграть сценку, простенькую, даже банальную. Но уж, пожалуйста, постарайтесь. Итак, вы возвращаетесь раньше обычного домой, неслышно открываете дверь, крадущимся шагом поднимаетесь по лестнице, собираясь извлечь шутливый эффект из своего неожиданного появления, и застаете жену в объятьях некоего лица, вам хорошо знакомого. Иными словами, любовника. С помутившимся сознанием, вне себя от ярости и негодования, охваченный желанием отомстить, вы убиваете их обоих. – Директор приготовился к тому, чтобы насладиться эффектным кадром.
– Прикажете застрелить, взорвать, задушить, зарезать?
– Ну, а четвертовать сможете? – проникновенно спросил директор.
– Легко, – ответил тот.
– Тогда четвертуйте, четвертуйте!
Когда сценка была с блеском разыграна, Самсон Багратович даже не стал давать другие задания, а сразу пожелал узнать:
– Ваше имя и отчество, пожалуйста.
Тот назвался:
– Илья Борисович Горифоб.
– О, какая красивая и редкая фамилия! Впервые такую слышу…
Не доверяя ненадежной ручке, директор поискал в стаканчике другую, но поскольку более надежной там не нашлось, нехотя взял уже опробованную. Несколько раз царапнул ею по бумаге, но безрезультатно, и лишь на окончании названной фамилии ручка вдруг стала писать.
Получилось: Фоб.
VII
С началом сентября, золотых прохладных дней, когда облачное небо сияло голубыми оконцами, повсюду плавали паутинки, носимые ветром, и на дорогах горчично желтела кашица опавших и раздавленных желудей, обоих клоунов приняли в труппу. И тем самым не только признали достойными, но и уравняли их положение. Получалось, что оба подходят, оба хороши! Хороши вне всякой зависимости от того, кто за ними угадывается, маячит – Рома или Аким.
Словом, уравняли, не посчитавшись с амбициями и жаждой первенства, обуревавшей каждого. Иначе – без жажды-то – какой же он кандидат, если его можно впрячь в одну телегу с другим.
Ведь было понятно, что каждому хотелось обойти другого, вырваться хоть на полкорпуса вперед, оказаться единственным и неповторимым. Но не вышло. Пришлось смириться и… затаиться в расчете на то, что со временем все-таки удастся обогнать (или обогнуть) соперника и восторжествовать над ним.
Впрочем, и эти надежды были сразу отсечены, поскольку клоунам пришлось выступать не по отдельности, а дуэтом, в паре. Тут уж не восторжествуешь: ради собственного успеха придется поработать – поусердствовать – и на успех соперника.
Директор подписал приказ, принятых клоунов провели по всем ведомостям, положили им оклад, не ахти какой, но Рома и Аким обещали доплачивать, и принятые были довольны. Они стали усердно готовиться к выступлениям, перетряхивать свой реквизит, выбирать из него то, что не так уж безнадежно устарело, могло пригодиться.
Вместе с режиссером Митричем (Дмитрием Аскольдовичем), носившим ботинки на высоких каблуках, накладные волосы и подбивавшим плечи пиджака ватой, набрасывали мизансцены, придумывали реплики и трюки, и получалось смешно до чертиков.
По подсказке директора кое-что взяли от дяди Миши, слегка переиначили, повернули по-своему, и осталось лишь найти имена, артистические псевдонимы, под которыми клоуны будут выступать на арене. И тут немного застопорилось, подзастряло, забуксовало…
То, что они предлагали сами, больше походило на тюремные кликухи, чем на цирковые имена, и явно отдавало Бутыркой: Буза и Малява. Нет, никуда не годится – на арене насаждать блатняк мы не будем: его и так хватает. Самсон Багратович кликухи забраковал (да и Митрич как-то мялся, особо не настаивал). Не нравились директору также Сержик и Андрик, придуманные воздушной гимнасткой Люсей Савиной: как-то жеманно, слюняво, по-детски, не для большого цирка.
Словом, сюсю-масю.
Кого-то осенило: переодеть одного из клоунов женщиной, подыскать для него в костюмерной парик, набить ваты сзади и спереди и назвать Глафирой, другого же – Федором. Вот, мол, семейная пара. Публика смехом изойдет, обхохочется.
Но директор отверг, заранее обозвав такой смех гомерическим и сославшись на то, что этак и до однополых браков можно докатиться. Да и Митрич в упомянутой по случаю вате обнаружил иголку, шпильку, усмотрел намек на свои подбитые плечи…
В цирке приуныли: до открытия сезона неделя, пора афиши расклеивать, а имена не найдены. И тут директору вспомнилась та чертовщина, которую совсем недавно, при знакомстве с клоунами выделывало его пересохшее перо, и Самсон Багратович просиял. Просиял и воскликнул со счастливым рыданием в голосе:
– Да вот же, вот же! Как же это я сразу-то!..
– Что? Что? – стали спрашивать его.
– Придумал! Нашел! Фил и Фоб! Так и назовем их!
Всем стало ясно, что лучше не придумать, и на афише появились эти имена.
Четырнадцатого сентября давали первое представление, затем второе, третье, и сезон открылся. Директор потирал руки: в кассах аншлаги и полные сборы. Вернулись благословенные времена. Публика валом валила, чтобы снова увидеть хорошо знакомых дрессированных зайцев и слонов, воздушных гимнастов, фокусников и при этом посмотреть на новых клоунов.
И молодцы не подкачали, не подвели, не осрамились. Бегали по всей арене в клетчатых штанах, огромных ботинках, с бантами на шее. Пинали, щипали, колотили друг друга пустыми – стокилограммовыми – гирями. Распиливали (четвертовали) в фанерном ящике пойманного любовника. Боксировали в перчатках, пускали фонтаны слез, оглушительно смеялись и изображали горящие торфяники (по следам минувшего лета).
Публика ждала разоблачений и критики – подпускали и критику. Олигархов, правда, остерегались, не трогали, не задевали, но доставалось городским властям – за всяческие проволочки, простои и перебои. Словом, все, как при дяде Мише: он бы похвалил и одобрил. Не зря долговязый Кадик, сидевший в первом ряду, громко аплодировал и бросал на арену сорванные перед зданием управы флоксы и георгины.
VIII
Поначалу оба клоуна нравились всем одинаково, и публика никому не отдавала предпочтения. При всей любви к клоунам и вызываемом ими ажиотаже на первых представлениях многие даже путали, кто из них Фил, а кто Фоб. Да и не придавали этому значения, поскольку имена на афише казались настолько похожими (оба на «ф»), что зрители часто звали клоунов по-своему, присваивали им собственные клички и прозвища: Распахнутый и Запахнутый, Печенкин и Селезенкин и проч., проч.
Однажды с дальних рядов под трехпалый свист даже донеслось: «Эй, Буза, пакуй Маляву!» Самсон Багратович, когда ему рассказали, только недоумевал, кому такое могло взбрести на ум (уж не бывшим ли дружкам Фила и Фоба?). Присутствовавшая же на представлении публика возмутилась, вознегодовала, зашикала: это было сочтено хулиганством, и дежурившая в цирке милиция вывела дружков из зала.
Так продолжалось примерно месяц-полтора. Но постепенно клоунов научились различать, чему они сами способствовали тем, что стали использовать в своих костюмах разные преобладающие цвета: Фил – от голубого до лилового и фиолетового, а Фоб – все оттенки красного, включая багровый. Соответственно и публика разделилась, но не на поклонников Фила и поклонников Фоба, а на тех, кто больше любил лиловый и фиолетовый, и тех, кому больше нравился красный.
Вот и все – никаких восторженных поклонников (фанатов) того или иного клоуна и тем более партий в полном смысле слова еще не было. Поклонники и партии появились потом, а именно с той поры, когда лиловые стали утверждать, что их любимец Фил во всех отношениях лучше его напарника Фоба. Ну что там Фоб! Он лишь, что называется, ловит и подает мячи, вылетевшие за штрафную (метафора навеяна футбольным прошлым нашего города), ассистирует, подставляет голову под удары резиновой гирей, а настоящая клоунада – это, несомненно, Фил.
Соответственно и багровые настоящим клоуном считали Фоба, Фила же – так, на второстепенной роли мальчика, подающего мячи, которые Фоб закручивает и посылает в ворота.
В подтверждение своих слов партия Фила (вот вам уже и партия) доказывала, что тот лучше ходит на ходулях, мяучит, изображая мартовского кота, жонглирует кольцами и мячами, и шутки у него смешнее. Иными словами, все мизансцены держатся на нем. Кроме того, он часто встречает зрителей у вешалки, фотографируется с ними, подобно дяде Мише достает из глубокого кармана и дарит детям конфеты, а после представления катает их на пони и даже помогает забраться на слона.
Партия Фоба не отставала и приписывала своему любимцу не менее яркие достоинства: умение кувыркаться через голову, ставить подножки, бросать стрелы с присосками и стрелять из водяного пистолета так, что конферансье (условно назовем его так) приходится вымокшим до нитки убегать со сцены.
Правда, дети побаивались Фоба, поскольку во время выступлений он часто пугал их, показывал им козу рогатую, зловеще выкатывал глаза и строил ужасные рожи. Но детские страхи – те же восторги, и кто из взрослых не помнит, как в детстве сам просил, чтобы его попугали…
В дирекции, конечно, заметили разделение в публике, но приняли это как должное и посчитали естественным. Что ж, пускай: в этом есть какая-то интрига. Во всяком случае, это лучше, чем подсаживать своих и выдавать их за зрителей, которых публика сразу разоблачает (казачок-то засланный) и теряет к ним всякий интерес.
IX
В начале зимы, когда стало раньше темнеть и позже рассветать (иногда казалось, что и не рассветет вовсе), дороги покрылись волнистой наледью, которая быстро таяла и растекалась лужами, отражавшими низкое, оловянного цвета небо, и повалил снег с дождем, режиссеру Митричу пришла на ум судьбоносная идея.
Вернее, было так.
Митрича пригласил к себе долговязый Кадик, и пригласил не просто от скуки, а по случаю юбилея: ему исполнилось пятьдесят, причем тридцать из них, как он считал, были отданы цирку.
Кадику хотелось отметить эту дату, что называется, официально, с некоторой помпой (он даже мечтал, чтобы его наградили, медальку на грудь повесили). Поэтому Кадик усиленно зазывал к себе и других: царственных особ – директора и главбуха, господ укротителей, фокусников, воздушных гимнастов, но те под благовидным (по словам Кадика, благовонным) предлогом отказались. Отказались и снарядили вместо себя Митрича, тоже особу царственную, но помельче, годную на то, чтобы исполнять посольские поручения.
Правда, Митрич от таких поручений всячески отбояривался и возмущался, что его вечно запрягают, но на этот раз ему было не отвертеться, поскольку к нему подобрали верный ключик. Конечно, в цирке все честолюбивы, но Митрича отличало (обуревало) чудовищное тщеславие, которое он даже не пытался скрывать, а всегда выставлял напоказ, словно ботинки на высоких каблуках (Кадик был маленького роста), накладные волосы и подбитые ватой плечи. Воспользовавшись этим, ему внушили, что его никто не запрягает (вот уж чего нет, того нет), что павший на него выбор труппы – знак особого уважения, признания заслуг и проч., проч.
Как тут было не согласиться!
И вот они с Кадиком устроились у него в каморке, обклеенной старыми афишами и использованными (надорванными) контрамарками. Достали, открыли, разлили по граненым стаканчикам, которые подрагивали и позванивали от гремевшего за стенкой лифта, и стали праздновать вдвоем. Конечно, разговорились (под водочку-то как не разговориться). И конечно, о цирке, о клоунах. Кадик, желая показать себя знатоком эксцентрики и клоунады и при этом – патриотом родного цирка, возьми и скажи:
– Согласись, Митрич, что наши тутошние клоуны – это не какие-то тамошние Чарли Чаплин, Пат и Паташон, Карандаш или Олег Попов.
Он поднял стаканчик, подождал, когда за стенкой прогремит лифт, и чокнулся с режиссером. Чокнулся, стараясь не расплескать ни капли и тем самым поощряя Митрича к тому, чтобы согласиться со сказанным.
Но Митрич соглашаться никогда не спешил, предпочитая, чтобы с ним соглашались.
– Ну, положим, Чарли Чаплин не клоун, – на всякий случай возразил он, еще не зная, куда тот клонит.
– Все равно, – разгорячился Кадик, стараясь успеть опрокинуть стаканчик, пока снова не загремит лифт. – Нашим он не соперник. Да и остальные тоже. У наших клоунов даже имена особенные, с глубоким смыслом.
– Какой же в них смысл? – спросил Митрич, с сожалением глядя на опустевший стаканчик Кадика и усматривая именно в нем причину его кажущегося глубокомыслия.
– Трансцендентный. Потусторонний. Мистический.
«Этак еще глоток и, пожалуй, пойдет ко дну, – подумал Митрич с тем опасением, которое всегда вызывают пьяные у трезвых. – Что тогда с ним делать?»
Но Кадик исправно держался на плаву.
– А вот ты смотри, – сказал он, снова наливая, отмечая ногтем уровень оставшегося в бутылке и тем самым подводя Митрича к своей главной мысли. – Филия – это любовь, приязнь, дружеское расположение. Фобия – страх, неприязнь и ненависть. Отсюда Фил и Фоб. Не оттого, что фамилии… С фамилиями-то было бы слишком просто. Улавливаешь, куда я клоню? Эти два начала есть во всем. На них весь мир держится. А ты Чарли Чаплин…
– Постой, постой. – Митрич вдруг почувствовал, что у него рождается идея, – почувствовал, как беременная женщина – приближение родов. – А что если мы это заложим в образ?.. В образ, дурья башка! Получится грандиозно!
– Не знаю, куда вы это заложите, – Кадика несколько задело и обидело, что его после такого откровения назвали дурьей башкой, – но рванет не хуже динамита.
Он спрятал подбородок в ворот дырявого свитера, нахохлился и заснул. Кадик поцеловал его в темя и, крадучись, на цыпочках вышел.
X
На следующий день Митрич уже стучался с новорожденной идеей в дверь директорского кабинета (секретарша была на больничном). Вернее, стучался рядом с дверью, поскольку сама дверь была обита мягкой кожей, поглощавшей резкие звуки, и Митричу пришлось выискать местечко между дверью и висевшей на стене картиной, чтобы именно постучать, а не потукать костяшками пальцев в мягкую обивку.
Для него это было особенно важно – постучать. Для этого он даже поправил на себе пиджак с подбитыми ватой плечами, пригладил накладные волосы и шаркнул ногой, чтобы избавиться от бумажки, прилипшей к высокому каблуку ботинка.
После этого постучал трижды и еще один раз (главная тема Пятой симфонии), словно он вестник судьбы, посланник рока, а не секретарша с чаем на подносе и не бухгалтер с отчетными ведомостями в портфеле.
– Кто там? – спросил директор, который охотно выпил бы чаю и при этом не испытывал ни малейшего желания беседовать с посланцем рока. Но, увы, чай заварить было некому, и поэтому директор смирился с роковой неизбежностью: – Войдите.
Митрич не вошел, а, изогнувшись, проскользнул, втерся в дверь, крадущимся балетным шагом протанцевал по ковровой дорожке и предстал перед директором.
– Позвольте сразу самую суть.
– Садись, садись. Позволяю. Ну, и в чем же она, твоя суть?
– В именах.
– Каких именах? Наших с тобой?
– Не угадали. В именах, которые вы придумали для клоунов. Помните?
– Да я особо не думал. Так… само пришло в голову.
– Все великое так и возникает. Само приходит, словно бы внушенное кем-то свыше.
Директору понравилась ненавязчивая и хорошо замаскированная лесть.
– Что ж, в цирке любой административный работник должен уметь творчески мыслить. Это наш долг. – Скромно потупившись, он стал рассматривать пальцы со следами от драгоценных перстней, своей былой, утраченной гордости.
Но Митрич не стал бы попусту льстить: у него была цель, и он знал, как ее достигнуть.
– Да вы хоть сами-то осознаете, какие открываются безграничные возможности и перспективы? Сама судьба на нас благосклонно взглянула. На нас посыплется как из рога изобилия. Гастроли в Москве, международное признание, победы на конкурсах и фестивалях, звания лауреатов, премии, призы!
– Ты часом не перебрал ли вчера с Кадиком? – Директор грустно взглянул на Митрича, то ли осуждая его за перебор, то ли ему втайне завидуя.
– Обижаете, Самсон Багратович. Недооцениваете. Фил – это филия, любовь. Соответственно Фоб – это ненависть. Мы закладываем в образ эти два начала. Пусть наш Фил будет восторженным, умиленным, готовым всех обнять и расцеловать. Пусть он всем восхищается, всех любит, ведет себя как верный слуга отечества, как истинный патриот…
– Так, так, так… – подхватил директор, уже отчасти угадывая направление поисков главного режиссера.
Тот между тем продолжал:
– Фоб же, напротив, всех ненавидит, хулит, срамит, оправдывает любые пороки, огульно отрицает добродетели, глумится над святынями, критикует власть, оскорбляет самые возвышенные чувства гражданственности и патриотизма.
– Политику, может, не трогать? – с сомнением спросил Самсон Багратович, глядя куда-то в сторону.
– Как же без политики! Без политики нас никто не услышит, мы никому не интересны.
– А с политикой нас прихлопнут.
– Не прихлопнут. Мы осторожненько, намеком, завуалированно. А чуть что: так ведь это же клоуны, это все шуточки, приколы, не всерьез.
– Ну, хорошо, дерзай, – сказал Самсон Багратович, по-прежнему не поворачиваясь к Митричу. – Я еще кое с кем посоветуюсь из ответственных товарищей, но, думаю, возражений не будет.
XI
После ухода Митрича Самсон Багратович открыл настежь форточку, чтобы слегка пробрало фиолетовым утренним морозцем и выветрился запах скверного, дешевого одеколона, которым Митрич себя неумеренно спрыскивал. Затем он выдвинул ящик письменного стола, открыл заветную шкатулку, достал спрятанные туда драгоценные перстни и снова надел их на пальцы. Простенькие часы брезгливо стряхнул с правой руки (ремешок туго не затягивал) и заменил на дорогие, фирменные, с золотом и камнями.
И лишь придав себе соответствующий его положению (положению обманутого мужа, ха-ха, но это в протокол не вносить) вид, счел своим долгом сейчас же доложить. Поставить в известность. Испросить высочайшего (аж самому противно) соизволения.
И пока набирал номер американского президента (Ромы Быкова) и цапался с его верной ратью, допытывавшейся, кто он, откуда и по какому делу, все думал, как бы ему в предстоящем разговоре (докладе) не перемудрить. Не выставить себя этаким умником, жонглирующим словами. И уж тем более не обозначить ненароком своего превосходства, своей причастности к высшим сферам искусства (олигархов это всегда раздражает), а просто и доходчиво рассказать о замысле режиссера, о его последней находке.
Но к удивлению директора Рома сразу во все проник, все понял, схватил самую суть и одобрил:
– Вот-вот… это нам и надо. Только пусть побольше друг друга дубасят. Я это страсть как люблю. Захожусь до судорог. Может, их еще одеть в форму и каждому повесить на шею калаш? Я все оплачу.
Самсон Багратович не расслышал и переспросил:
– Калач?
– Какой калач? – в свою очередь удивился Рома.
– Ну, на шею-то…
Рома от души рассмеялся.
– Да не калач, а калаш, автомат Калашникова. Из калача-то особо не выстрелишь.
– А что, и стрелять придется? – Самсон Багратович будто не верил, что придется стрелять, и по наивности удивлялся.
– Так война же… Помнишь, мы говорили?
– Из-за клоунов?
– Так из-за них все войны…
– Не перебор ли?
– Да, да, – развеселился Рома. – Если двадцать один – очко, то больше уже перебор. На нарах-то самая игра…Не сидел на нарах?
– Не довелось.
– Ну, еще посидишь. – Теперь Рома будто не верил и удивлялся.
И пообещал подарить Митричу породистого щенка и поставить три бутылки лучшего армянского коньяка за такую находку.
Самсон Багратович позвонил и госсекретарю Белого дома (Акиму Бане) – с тем же докладом, но тот долго не мог ничего понять, уяснить, взять в толк. Мычал, бурчал, мямлил что-то невразумительное и в конце концов сказал:
– Решайте сами. Надоели вы мне. Я в вашу кухню не вмешиваюсь. Передай жене, что завтра не состоится.
– Что не состоится?
– Консультация по закупкам. Она знает.
– Что знает? – Самсон Багратович как-то не очень понимал, о чем ему толкуют.
Аким Баня непонятливых не любил.
– Знает, что ты скоро помрешь, копыта отбросишь, если ее в гроб не загонишь. Шучу, шучу.
– Ну, и шуточки у вас… – Самсон Багратович явно пожалел, что нельзя ударить трубкой того, чей голос она доносит, но все же заставил себя спросить: – Есть какие-то пожелания режиссеру, советы и напутствия артистам?
– В Греции все есть. Пусть поменьше друг друга дубасят. А то смотреть бывает тошно на этот мордобой. Все-таки мы на гражданке, цивильные люди. Как говорится, make love, not war.
– Вы оплатите, хотя бы частично, новый замысел? Мы сочтемся, когда сил поднакопим…
– Сам плати. Ты и так богаче меня.
– Снова шутите?
– Все мы дошутимся до того, что наконец умрем, Багратыч, и в землю ляжем. А туда ведь деньги не переведешь. Поэтому какие уж там шутки…
«Ляжем-то ляжем. Только ты, пожалуй, раньше меня», – подумал директор, но промолчал, словно возражать Акиму пока (до поры до времени) не входило в его планы.
XII
К середине зимы, когда февральские вьюги наметали сугробы по самые крыши домиков, залепляли мокрым снегом вечерние фонари, когда днем припекало, а вечером подмораживало (сосульки доставали до земли), начались репетиции. Митрич стал закладывать новое содержание в образы Фила и Фоба.
Он убрал часть реквизита, полностью устранил все претензии на акробатику и эквилибристику, сократил многие мизансцены и реплики, а оставшиеся призвал уподобить… чему-нибудь этакому, да вот хотя бы (всем внимание! Тишина! У режиссера рождается оно!)… устрицам во льду.
Устрицам? Почему же устрицам? Никто толком не понял, но всем это ужасно понравилось. И хотя устриц в нашем городе не только не пробовали, но и отродясь не видывали, все хором подхватили: «Устрицы! Устрицы!» – и ни о чем другом не хотели слушать.
Клоуны на репетициях старались как могли, наизнанку выворачивались, но у них не все получалось. Вернее, поначалу получались… гм… кислые щи, гречневая каша-размазня, простокваша – что угодно, но не устрицы. Вот и решили Фила и Фоба пока на арену не выпускать, считая, что нельзя показывать зрителю грубые заготовки, недопеченный полуфабрикат, сырой материал.
Поэтому администратору манежа (конферансье, но на самом деле не конферансье) поручили объявить, что Фил и Фоб заболели ангиной. Но поскольку (тут он ввернул фразочку) у каждого из них железный организм и чудовищная воля, надеются вскоре выздороветь и вернуться на арену.
Публика, услышав это, вяло зааплодировала – раздались два-три хлопка. Все, конечно, приуныли, но деваться было некуда – только набраться терпения и ждать, тем более что в дирекции рискнули несколько раз выпустить на арену страстотерпца (медаль он так и не получил) Кадика.
Тот обид не помнил, исправно комиковал, показывал всякие трюки: уморительно бегал с ночным горшком, прилипшим к заднице, сдирал с лица нарисованные очки, поочередно перевоплощался то в мигающий телевизор, то в бубнящее день и ночь напролет радио и изображал гремящий за стенкой лифт.
Его, слава богу, терпели, не освистывали, а Митрич тем временем вовсю старался – ради будущей славы, призов и наград, и его тщеславие, по словам завистников и врагов (а в цирке их у каждого достаточно), распускалось, как роза на помойке. Самсон Багратович же о славе не помышлял, скромно присутствовал на репетициях и лишь при крайней надобности Митрича слегка одергивал и поправлял (чтоб не зарывался).
С Фобом у них сразу получилось – даже не понадобилось вешать ему на шею калаш. Тот и без калаша мгновенно все схватывал, как бульдог брошенный мячик, и держал в зубах – не отнимешь и не вырвешь. Он не только ненавидел, оскорблял и глумился, но умел тонко поддеть и одним намеком уничтожить любого несогласного с ним. Кроме того, Митрич к тому же разрешил ему (и даже поощрял к этому) врать, наговаривать, чернить, порочить, злословить – словом, вбрасывать нужную дезу, и от этого дело заспорилось.
А вот с Филом (размазня и простокваша!) что-то не ладилось. Тот никак не мог понять, как это – всех любить, умиляться, восторгаться; хоть калач ему на шею вешай, да и калачом не проймешь.
Самсон Багратович, отведя его в сторонку, успокаивал, вразумлял, проводил с ним воспитательную (душещипательную) беседу:
– Кого ты в детстве любил? Мать любил?
– Нет, она напивалась и меня била.
– А отца?
– Отца я никогда не видел.
– Сестру любил?
– Сестра меня заставляла по вагонам просить, а всю выручку отнимала.
– Девочку из соседнего подъезда?
– Ну, девочку! За ее папой присылали служебную машину, а ее одну гулять не выпускали.
– Кого-нибудь же любил!
– Кошку любил. Рыжую, с оторванным ухом. А ее на дереве повесили.
– Вот и представь себе, что твоя кошка осталась жива, девочка из соседнего подъезда с тобой дружит, сестра тебя любит, отец нашелся и мать бросила пить. Вот и ты их всех люби. Понял?
– Теперь понял.
После нескольких подобных бесед Фил научился любить, а может, и не научился, а умел изображать, будто любит, и очень похоже – аж слеза прошибала.
Митрич возликовал, но тут жена Самсона Багратовича, бывшая примадонна, выступавшая под псевдонимом Роза Фиалкина, чуть было все не смазала, не скомкала и не испортила. Словом, устроила скандал, как это ей свойственно. Неожиданно появившись на репетиции … Да что там появившись – ворвавшись на арену, стремительная, сияющая, обольстительная, как амазонка, в высоких сапогах, собольем манто поверх платья с блестками – она презрительно рассмеялась при виде клоунов с размалеванными лицами и воскликнула:
– Ничего у вас не получится. И не мечтайте.
И ловко подпрыгнув, схватилась за трапецию и стала раскачиваться над ареной (бывшая воздушная гимнастка), посылая Самсону Багратовичу и Митричу воздушные поцелуи.
XIII
Тем не менее все получилось.
Когда номер был полностью готов, отшлифован и обкатан перед своими (поочередно приглашали всех – от укротителей и жонглеров до старых, с благородной проседью и галунами на брюках гардеробщиков), Фила и Фоба наконец выпустили. Выпустили на арену смешить зрителей. Самсон Багратович их перед выходом даже перекрестил, а Филу шепнул на ухо: «Помни про свою кошку».
Митрич, случайно подслушав, долго ломал голову, что это еще за кошка (спросить, конечно, считал ниже своего достоинства). В конце концов решил, что кошка – это нечто вроде устриц во льду, и успокоился.
И вот администратор в микрофон объявил: «А сейчас перед вами выступят неподражаемые Фил и Фоб». Выход! Истомившаяся от долгого ожидания публика устроила своим любимцам овацию, а Кадик, стараясь не завидовать и не поддаваться дешевой ревности, послал им воздушные поцелуи и бросил под ноги три тепличных тюльпана и две гвоздики.
Все ждали повторения прежних трюков, да что там трюков – готовы были смеяться до упаду, если бы им просто показали палец. Но их ждало нечто совсем другое, отчего многие завсегдатаи цирка (хотя до них и долетали всякие слухи) растерялись, не готовые к тому, что любимые образы наполнятся новым содержанием. Никто не смеялся – возникла напряженная, звенящая (отчасти зловещая) тишина, какая бывает в горах перед сходом лавины. И вот зашуршали по горному склону первые камушки, словно из-под копыта оступившегося скакуна, а затем и вся лавина с грохотом устремилась вниз, поднимая тучи щебня и пыли.
Иными словами, публика словно бы очнулась, размытые контуры предметов в ее глазах снова обрели устойчивость, и она стала понимать, что происходит на арене. Ей открылась простая истина: отныне Фил – тот, кто всех любит, готов обнять и расцеловать, а Фоб – тот, кто ненавидит. Клоуны своими гримасами, всяческими ужимками, неестественными, сдавленными до кошачьего фальцета голосами пытались внушить публике, как это смешно – одному любить, все принимать, другому же – ненавидеть и отвергать, но вопреки их стараниям это казалось чем-то странным, даже жутковатым. Хотя все и смеялись (клоуны есть клоуны), но как-то робко, опасливо, боязливо – так, словно это было всерьез.
Фил и Фоб не рассчитывали на такой эффект, но их новые амплуа произвели на всех ошеломляющее воздействие. Их прежних поклонников – прежних партий – не стало, но зато на первом же представлении образовались новые партии из числа тех, кто сами были готовы любить или ненавидеть.
Оказывалось, что каждый из зрителей в душе был закоренелым, неисправимым филом или фобом. В каждом – не только взрослом, но и ребенке – была заложена непреодолимая потребность – любить или ненавидеть: хоть хлебом не корми, а вот дай. Но эта потребность дремала, томилась в несбыточных грезах, словно сомнамбула, поскольку некому было ее разбудить (а может, и незачем, иначе бы все разбуженные стали бы буддами или на худой конец олигархами).
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?