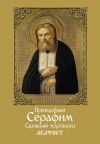Текст книги "Тайна воскресная. Преподобный Серафим и Дивеево"

Автор книги: Леонид Бежин
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава седьмая
Незримые покровители
Как выглядел уездный город Курск того времени, раскинувшийся на крутом берегу реки Тускари? Ничего заранее спланированного, европейского, просторных проспектов, да и, собственно, улиц в нынешнем смысле там не было. Вернее, была одна, называвшаяся Московской, мощенная булыжником, широкая, по ней с ветерком, заливающимся под дугой бубенчиком и прокатиться не худо – ну, если не улица, так дорога. Московская дорога – так она и называлась и шла прямо от Красной площади (раз Московская, то и площадь Красная). Остальные же – слободки, разделенные лугами с копенками сена, огородами с белеющей на грядках капустой, подернутыми ряской болотцами (головы лягушек торчат) и маленькими озерами, на берегах которых дымили кирпичные заводы, из кузниц доносился дробный лязг молотков и вылетали искры от раздуваемого горном пламени. Кому подкову прибить, кому лемех для плуга выковать: заказы не переводились…
Слободки же камнем не мостили. Поэтому как зарядят дожди, так и не пройдешь – сплошные лужи да грязь, жирная, пахучая, сочно чавкающая под ногами, непролазная.
Дома в слободах низенькие, большей частью деревянные (каменные стали строить после пожара 1781 года), одноэтажные или двухэтажные, и возвышаются над ними златоглавые церкви с колокольнями, истинная отрада для глаз, центры тамошней жизни. К ним-то слободские жители по любой грязи и распутице проберутся, поскольку там и крестят, и венчают, и отпевают, и исповедуют, и Святых Тайн причащают. И невесту себе там же присмотришь – вон у иконостаса в белом платке, на лоб надвинутом, со свечой, потупив взор, стоит. И о новостях узнаешь, и о выгодной сделке сговоришься:
– А не уступишь ли, кум, лесу?
– Как не уступить! Уступим! Сколько надо-ть?
– А хоть тот мысок, что к реке спускается.
– Бери.
Таких приходских церквей в Курске шестнадцать. В том числе – и Ильинская, где молились Машнины, а кроме нее Никольская на Торгу, Фроловская, Преображенская и прочие. Есть и монастыри: мужской в честь Коренной иконы «Знамения» Божией Матери (выходил на Красную площадь), а к северо-востоку от него на крутом берегу реки Тускари – женский Троицкий (Прохор в них, конечно, бывал).
Жителей в Курске не так уж много – тысяч восемь, небольшой народец: если не в лицо, то понаслышке друг о друге знали. Все потомки посадских, стрельцов, удалых казаков, пушкарей, лихих ямщиков и степенного духовенства, когда-то поселившихся в городе. По сословиям делятся так: половина – купцы и мещане, затем идут однодворцы (ремесленники и огородники), служилые разных категорий, немного крестьян, а уж дворянского звания совсем мало, не более трехсот. И не скажешь, что живут на широкую ногу, сорят деньгами, дают балы и проматывают состояния. Нет, дворянскую усадьбу подчас и не отличишь от купеческого дома – даже не богатого, а со средним достатком, и быт в ней самый скромный, утесненность, запущенность, бедноватая обстановка и скудная трапеза.
Словом, как на картине, – завтрак аристократа… Где купцы, там и торговля. Вот ею-то жители в основном и промышляют, по лавкам сидят, подперев кулаком подбородок покупателей ждут, зевают и мух считают (со счета сбившись, начинают сызнова). Но есть и купцы с размахом – такие, что и до самого Китая доберутся со своим товаром, а уж Европа, Сибирь, Нижний Новгород, Киев, Петербург и Москва для них – обжитые вотчины. В 1780-х годах, когда Прохора Машнина уже не было в Курске, знаменитый курский гражданин, винный откупщик Иван Илларионович Голиков вместе со своим родственником Григорием Ивановичем Шелиховым добрался до Охотска и основал там первую в России промышленную компанию на паях. Стал осваивать, прибирать к рукам Аляску и Северную Калифорнию, создавать там русские поселения, избы рубить и крепких мужичков-добытчиков сажать.
По купеческому разряду числятся те, кто имеют капитала 500 рублей и выше; если ниже – запишут в мещане. Значит, у Исидора Ивановича капиталец был, деньги в мошне водились. Правда, архивистами предпринималась попытка оспорить принадлежность Машниных к купечеству, но в беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым о целях христианской жизни преподобный Серафим о себе молвил: «Родом я из курских купцов. Так, когда не был я еще в монастыре, мы, бывало, торговали товаром, который нам больше барыша дает». Сказано совершенно ясно и определенно, и это признание самого преподобного гораздо достовернее любых архивных свидетельств, допускающих самые разные истолкования, подчас спорных и противоречивых.
Сергиево-Казанский собор и поныне краса и гордость Курска, с восьмискатным куполом, синяя глава, усыпанная золотыми звездами, на четырехсветном фонаре. Словом, такой, каким мы его и описали в предыдущих главах: залюбуешься, глаз не оторвешь. Дом же Машниных – это доподлинной известно – находился рядом, на Сергиевой улице (улицы появились при позднейшей перепланировке), но Сергиевых-то было три, вот и возникает вопрос, с какой стороны дом примыкал к храму. Усилиями краеведов место это, кажется, обнаружено: «…двор Машниных северо-западным углом упирался в грань юго-восточного угла ограды собора. Теперь это двор дома № 13 по улице Жданова. Здесь родился преподобный Серафим, здесь и жил двадцать лет до ухода в Саровскую обитель». Так пишут протоиерей Лев Лебедев и Н. Ларин в очерке «Загадка одного портрета». Если они правы, можно вздохнуть с облечением: найдено… найдено место, осененное присутствием преподобного Серафима. «Здесь родился… и жил двадцать лет». Авторы очерка исходят из даты рождения – 1758 год, по нашему же получается, что не двадцать, а двадцать четыре года.
Двадцать четыре года на этом месте, место соединено со временем. Ах, как это волнует, трогает, будоражит, сколько вызывает самых разных мыслей, непередаваемых ощущений!..
И Сергиево-Казанский собор он видел таким, каким его сейчас видим мы, поскольку дождался завершения строительства и только потом ушел в Саров. И дали с холма ему открывались те же: «С высоты большого холма, на склоне которого стоял отчий дом преподобного, и сейчас открываются прекрасные дали. Равнины, напоминающие безбрежный морской простор, где-то на востоке переходят в степь, простирающуюся до Монголии. Этот холм, огражденный в древности крепостной стеной, в XVII веке не раз встречал войска поляков и крымских татар (последний набег был в июле 1709 года), однако никто не смог захватить Курск. Здесь граница коренной Руси, один из ее боевых форпостов…».
Здесь, на границе коренной Руси, при слиянии рек Куры и Тускари, возводится крепость, мощное оборонительное сооружение, градостроительный центр Курска. И здесь же рождается преподобный Серафим, крепость духовная, один из столпов православия. Как это символично! Как промыслительно!
И не только это, но и многое другое заставляет задуматься о знаках Божьего промысла, какими отмечено детство Прохора. В названии храма, возведенного Машниными, сочетались два имени: преподобного Сергия и иконы Пресвятой Богородицы – оттого он Сергиево-Казанский. Два имени – две путеводных звезды, горевших на духовном небосклоне Прохора. Двенадцать раз являлась ему Богородица, исцеляя, наставляя, утешая, возвещая Свою волю. Ее он славил и пел. Ей благоговейно поклонялся и Ее именем творил молитву. Да, как всякий православный, как многие, как все, но и сверх того – как он лично, единственный, может быть, избранный. Финифтяный же образ Сергия завещал положить с ним в гроб, что тоже знаменательно. И Сергий, и Богородица с детства рядом – в буквальном смысле рядом с домом, рядом с ним, Прохором, ведь двор Машниных северо-западным углом упирается в юго-восточный угол храма. И Илья, огненный пророк Божий, взирает на Прохора с иконы приходской церкви. Вот оно, окружение, вот они, незримые покровители: поистине взяли за руки и повели.
И нельзя не согласиться с авторами уже упомянутого очерка, подробно прослеживающими, как угасал, прерывался род Машниных со всеми его ответвлениями: «Вот как доподлинно завершился род Машниных. Радостная устремленность к Богу, которая восхищает нас в преподобном Серафиме, была свойственна всему его роду. При этом нельзя не заметить, что эта устремленность определялась и укреплялась в период строительства Сергиево-Казанского кафедрального собора: из преуспевающих подрядчиков и купцов Машнины начали постепенно превращаться в беднеющих мещан вскоре же после полного окончания строительства этого собора. Созидая святой Божий храм, Машнины утрачивали интерес к стяжанию капитала и все более искали, говоря словами преподобного Серафима, “благодатного капитала”, стяжания Духа Святаго Божия. Недолгий род их словно для того и появился на свет, чтобы построить величественный храм и воспитать великого подвижника благочестия».
Возвести храм и воспитать подвижника: таково назначение рода, тайна его судьбы, предначертания, домостроительства. Выполнив свою миссию, он исчез, пресекся, прекратился, а Сергиево-Казанский храм и преподобный Серафим стали его продолжением, но уже в ином, высшем смысле слова.
А теперь от истории, фактов и дат – снова к роману.
Глава восьмая
Два чуда: исцеление и спасение
…Это уж Прохор потом рассказал, что видел во сне, после того, как по двору Машниных крестным ходом пронесли чудотворную икону и, осененный ею, он к ней благоговейно приложился и вскоре стал поправляться. И рассказал по секрету, шепнул на ухо матери – в надежде, что от нее больше никто не узнает, даже самые близкие, брат сестра и бабушка. Слишком дорог ему был этот сон, такой чудесный и необыкновенный, дивный и сладостный, слишком много для него значил, чтобы в семье о нем говорили, друг другу его пересказывали, обсуждали, перебирали подробности. А раз в семье, то вскоре и соседи, рабочие на стройке, подмастерья подхватят, станут на все лады повторять, ахать и изумляться:
– Слыхали?! Слыхали?! Нашему-то Прохору что приснилось?
– Не слыхали еще. А что?
– А то! Говорят, будто сама царица к нему снизошла.
– Как царица?
– А вот так. Разумейте.
– Неужто?! Чудо-то какое! Надо же!
А Наумка-столяр еще, глядишь, и озорно подмигнет, по своей привычке в шутку обратит, исхитрится выставить в смешном свете – так что все чудесное сразу станет тусклым и обыкновенным, увянет и зачахнет, словно придорожный цветок, примятый колесом, поникший, покрытый серой пылью…
Поэтому и доверил Прохор свой секрет одной лишь матери. Уж она-то поймет, по достоинству оценит и – главное – не выдаст. Но Агафья Фотиевна была им настолько поражена, этим секретом, что совершенно растерялась, смутилась, даже оробела немного: подумать только, какие сны снятся ее Прохору!..
– Подумать только!.. – все повторяла она, качая головой и закрывая платком рот. – И что во сне обещано, по жизни-то и сбылось! Значит, сон-то вещий!
Вот от растерянности и не удержалась, секрет-то и выдала – прежде всего Параскеве и Феодосии Наумовне, с которыми долго шепталась в уголке, передавая услышанное от сына:
– Оказывается, сон ему был вначале…
– Ну и ну!..
– Ах!..
Когда же Алексей почувствовал, угадал по их лицам: что-то от него скрывают, и стал дергать мать за рукав, приставать, заглядывать в глаза, пришлось открыть и ему, что брату явилась во сне сама Богородица, Царица Небесная во всем радужном сиянии небесной славы.
– Явилась и пообещала его исцелить, – сказала Авдотья Фотиевна, наклоняясь к Алексею и внушая ему строгим, остерегающим взглядом, что, удовлетворяя любопытство сына, просит его быть сдержанным и не давать волю языку, – а уж затем во время крестного хода с иконой…
Но Алексей (какая там сдержанность!), конечно же, не утерпел, сразу побежал к брату и стал допытываться:
– Расскажи про сон, расскажи, расскажи. Прохор в ответ молчал и в замешательстве смотрел на брата, пытаясь донести до него, что есть вещи, о которых всуе не поминают, просто так не рассказывают. У самого же от обиды навертывались слезы, дрожал подбородок, и, хотя он ни в чем не укорял мать и не посмел бы косо взглянуть в ее сторону, вид у него был такой, словно у него тайком похитили нечто бесконечно дорогое и ценное.
Заметив это, Агафья Фотиевна с опозданием поняла, какую допустила ошибку. Попыталась утешить, обласкать сына и даже, опустив глаза, попросила у него прощения:
– Уж извини, сыночек. Сама не знаю, как это я, глупая…
Домашним же своим, лишь только вспоминали про сон, делала знак молчать, прижимая палец к губам, решительно пресекала все разговоры. И Алексею строго-настрого велела: во дворе об этом ни слова. Никакому там Наумке-столяру – никому. Чудо на то и чудо, что оно не для молвы, а для благодарной молитвы наедине со святым образом, перед пылающей свечой, перед горящей лампадой.
Вот и Агафья Фотиевна потом долго молилась. Молилась украдкой, втихомолку, благодаря Богородицу за обетование во сне и чудесное спасение сына…
Было же все так.
Рослый, сильный и крепкий, как все Машнины, Прохор болел редко, но уж если сляжет, то надолго, а главное, всякий раз и не разберешь толком, какой у него недуг, от чего его лечить-пользовать. В этом он тоже походил на отца, да и с братом подобное иногда случалось: то на зависть здоровы, ни на что не жалуются, похаживают, посвистывают, но уж если скрутит так скрутит.
Вот и полгода назад Прохор тяжко занемог, его уложили в постель, и вся семья за ним заботливо ухаживала. Бабушка Феодосия Наумовна, несмотря на собственные хвори, подолгу сидела рядом с его постелью, поправляла одеяло, трогала лоб морщинистой ладошкой, что-то причитала, святых на помощь звала, а Параскева та просто от него не отходила, да и Алексей всегда был наготове и лишь ждал случая хоть чем-то помочь брату.
Может, в аптеку сбегать; может, доктора привести.
Докторов же каких только к нему не приглашали – и здешних, из Курска, и из других городов. Даже в Киев посылали за знаменитым немцем Гартманом, стариком с покатым розовым лбом, выпученными по-рачьи глазами и клочковатыми бакенбардами, и тот, роняя пенсне, долго осматривал Прохора, мял ему живот, что-то про себя бубнил, гымкал, фукал, а затем, брызгая чернилами, размашисто выписывал гусиным пером рецепты.
Но никакое лечение пользы не приносило, даже назначенное знаменитым немцем. И хотя Машнины старались отгонять дурные мысли, не поддаваться им, все чаще закрадывалось зловещее предчувствие, что не выздоровеет Прохор, надо готовиться к самой худшей беде. Агафья Фотиевна тайком утирала слезы, Феодосия Наумовна непривычно тихо покашливала, прижимая к губам платок, Алексей и Параскева пусто смотрели в окно.
Но не угасала и надежда – не столько на докторов, сколько на милость Божью и заступничество Царицы Небесной. Не угасала, светилась, мерцала, как трепещущий огонек лампадки, – вот только на что ее излить, с чем связать? И как только разнеслась молва о крестном ходе с иконой Богородицы «Знамение», что в пятницу пойдет от монастыря, она вспыхнула с новой силой.
Надежда!
Слепая, отчаянная, лихорадочная. Напрямую ее не высказывали, словно сговорившись молчать, но каждый про себя упорно думал лишь об одном, ничего вокруг не видя, и от этого все не ладилось, не задавалось, падало из рук. Параскева в который раз бралась мести полы и, словно зачарованная, забывала на пороге веник. У Алексея, прибивавшего что-то в соседней комнате, гнулись гвозди и соскальзывал молоток. А у Феодосии Наумовны застревала в ткани игла, которой она пришивала пуговицу, и спадал с пальца наперсток, закатываясь под стол. Каждый настойчиво думал, думал, думал: «Икона поможет… помогла бы». Изнывая от нетерпения, считали дни, оставшиеся до крестного хода: вторник, среда, четверг… скоро! В пятницу!
Наконец все почувствовали, что дальше молчать невозможно, и мучительно затянувшееся молчание было нарушено.
– Вот крестный ход-то… икону понесут, – сказала бабушка Феодосия Наумовна вечером за чаем, и все разом повернулись к ней, насторожились, угадывая, что она еще добавит и совпадет ли это с их собственными мыслями. Она добавила, хотя и не сразу, с уклончивой выжидательностью: – Надо бы… надо, чтоб Прохор приложился.
– Да как же его болезного подведешь? Красный ход-то нас обогнет. Он ведь не по Московской дороге, а к Троицкому монастырю, по крепостному валу, через мост двинется… – возразила Агафья Фотиевна, хотя сама отыскивала в глазах свекрови что-то более убедительное, чем ее собственные возражения.
Но та убеждать не стала, лишь упрямо, твердо стояла на своем:
– Надо, чтоб приложился. Вот и весь сказ.
И Параскева с Алексеем сразу подхватили, довольные тем, что о чем-то могут сказать с радостной уверенностью:
– Надо, надо!
И случилось так, что в пятницу, во время крестного хода, внезапно хлынул дождь, все вокруг затопило, и, спасаясь от потоков воды, участники крестного хода ринулись на Московскую дорогу и оказались во дворе Машниных. С крестами, кадилами, хоругвями и чудотворной иконой – прямо посреди двора. Прохора вынесли, и он к чудотворной-то благоговейно приложился, после чего и выздоровел, как обещала ему Богоматерь во сне…
И еще один случай навсегда запомнился Агафье Фотиевне. Если б от других услышала, может, и не поверила бы, но тут сама свидетельница, а глазам своим не верить нельзя. Ну, а если веришь глазам, то верь и в то, что воистину силы небесные берегут сына…
Еще с утра, за самоваром, поговаривали о том, что надо бы подняться на колокольню – осмотреться, проверить, как там наверху продвигается работа, как ведут лестницу и кладут ступени, не слишком ли высокие, и не узка ли лестница, а то положат так, что и не протиснешься. Особенно беспокоил самый верхний ярус, ведь там колокола будут вешать, все должно быть основательно, прочно, надежно. И в то же время хотелось взглянуть, какой открывается вид на степные дали, ведь одно дело с холма смотреть, а другое – с колокольни…
Сразу вызвались Параскева с Алексеем:
– Давайте мы! Уж мы-то мигом! Только прикажите. Но Агафья Фотиевна их, ретивых, попридержала, решила: тут опытный глаз требуется, особый догляд, чтобы во все мелочи вникнуть, ничего не упустить.
– Нет, я сама…
– Осторожнее только, ведь там и перил-то нет. Лишь на первом ярусе… – предупредила Феодосия Наумовна, размачивая в чае сухарь так, словно он был немым свидетелем ее озабоченности за невестку.
– Да я вон Прохора с собой возьму. С ним не страшно, – ответила Агафья Фотиевна, с любовью и затаенной нежностью беря у сына пустую чашку, поднося ее к носику самовара и поворачивая причудливый вензель крана.
После чая и поднялись. Поднялись, ступая по шатким настилам, до самого третьего яруса. И как глянули вниз – чудно, какое все маленькое. Вот бородатые мужики пилят на козлах бревно, вот разгружают воз, запряженный битюгом, вот дымит яма, где отливают колокол. А вот их дом с садом: виден как на ладони. Агафья Фотиевна крепко сына за руку держала, опасаясь за него, или, наоборот, держалась, словно и самой все-таки было немного не по себе. И голова слегка кружилась, и к горлу подкатывало, и сердце стучало.
И вот на третьем ярусе она отвлеклась на что-то, отвернулась, выпустила руку, он же по неосторожности не так шагнул, оступился, пошатнулся, хотел за перильца схватиться, но их еще не было. Вот и упал с колокольни Прохор – она лишь ахнула, онемела. Сердце словно в темную яму ухнуло, уши ватой заложило. В ужасе бросилась вниз – ноги сами понесли. Думала, насмерть расшибется, с такой-то высоты…костей не соберешь. А он внизу… стоит как ни в чем не бывало, только побледнел от страха.
– Господи, живой! – воскликнула Агафья Фотиевна, не веря своим глазам. – Сыночек мой! Господи!
Подбежала, обняла, стиснула, судорожно прижала к груди русую голову.
На ее возглас, перепуганные, выбежали из дома Параскева и Алексей. Выбежали и ну его трогать, гладить, ощупывать, тянуть за руки в разные стороны, желая удостовериться, что с ним ничего страшного, непоправимого не случилось.
– Ты что, упал?! С колокольни?!
Прохор же стоял, растерянный, ошеломленный, будто и не понимая, что с ним произошло: был на колокольне и вдруг на земле очутился. А как очутился, и не помнил: только небо опрокинулось перед глазами и ветер в ушах просвистел.
Разве не чудо?!
Глава девятая
Лебедь сахарная
Лавку Машниных в Курске знали не только по вывеске, но и по доброй молве. Вот две хозяюшки встретились, в сторонку отошли, на скамейку присели, разговорились. – По всему городу искала, с ног сбилась, а у Машниных только и нашла. – Лукерья достала из кошелки что-то завернутое в бумагу, слегка развернула, глянула и снова спрятала.
– А чего искала-то? – Авдотья, не успевшая подсмотреть, уныло отвернулась.
– Да нитки особые для вышивания. Мулине. Пруд с лебедью хочу вышить. И на стену повесить. Вот и искала.
– Гляди-ко! Искала и нашла. Не от тебя первой слышу. Машнины хозяева справные. И мулине у них есть. А если понадобится, и лебедь сахарная найдется.
Один скажет, другой подхватит, вот и летит молва… Торговали в лавке всяким ходовым товаром: нитками, мотками бечевок, кожаными ремнями, густым, скипидарно пахнущим дегтем, расписными конскими дугами, шлеями, лаптями лыковыми разных размеров (маленькими детскими и такими, что придутся впору здоровенному детине). Торговали железом всяким, скобами для бревен, обручами для бочек, колодезными ведрами, лопатами, косами, вилами. Ну, и мелочью разной не брезгали, шпильками, булавками, свечами и спичками. Продавцов нанимали проверенных, честных, и уж те гнилой товар не подсовывали, обмана не было никогда. Покупателей встречали приветливо, даже с лаской, и обхождение было самое уважительное. При этом не лебезили, своего достоинства не теряли: товар предлагали, но не навязывали.
Хозяин – барин, что ему нужно, то и купит. Лишнего же пытаться всучить – себе же боком выйдет.
Любили и побалагурить иногда. Нагнувшись якобы за товаром, пошарив там внизу, достать из-под прилавка шутку-прибаутку, подмигнуть, языком прищелкнуть и самим от души широко улыбнуться, и честной народ повеселить и потешить. Поэтому и простой люд в лавке толкся, и из богатых домов прислугу посылали, и та по списку отоваривалась.
– Мне насыпьте полфунта обивочных гвоздиков с узорными шляпками.
– Извольте. Сей минут.
– Мне пожалуйте вот эти лапоточки. Налезут?
– Как же! Для вас плели. Не сомневайтесь.
– А мне вон ту рогатину дайте. Крепкая?
– На медведя можно идти.
Принадлежала лавка Алексею Машнину, на него и была записана, но он не обосабливался, от семьи не отделялся, и получалось так, что держали ее сообща, всем миром. Алексей, конечно, был за главного: сам товар выбирал, подвозил и выгружал, по полкам раскладывал. Он же и цены назначал, и выручку принимал. Если торговля шла не слишком бойко (а то и вовсе замирала, когда неделями мело или все от морозов по домам прятались), продавцов отпускали, и он, бывало, и сам за прилавком стоял, отвешивал и отмеривал, в бумагу завертывал одиноким покупателям: «Прошу-с. Получите». Иногда просил помочь свою старшую сестру Параскеву, но та после замужества стала под разными предлогами уклоняться: своих забот хватало – и за мужем ходить, и за домом смотреть. И Алексей в конце концов возложил эту обязанность на младшего брата Прохора.
Тот не то чтобы записной продавец, но кроткий, на все согласный – не смел отказать брату, хоть его душа к торговле не лежала. Покупателей завлекать, нахваливать товар не умел, будто стыдился. Да и не балагур по натуре, озорства какого, лукавой шутки-прибаутки не мог он себе позволить: слишком был скромен. Больше молчал, опустив глаза, – особенно перед барышнями, купеческими дочками, слова из него не вытянешь, не то что любезности. Но с теми, кого хорошо знал и кому доверял, вел долгие беседы – не абы о чем, а о предметах духовных, возвышенных, благочестивых.
Уж такой он был у них, Машниных, младшенький, Прохор. И такие же окружали его друзья…
Особенно часто заходил к нему знакомый юродивый Проня-Голубок (он все голубей за пазухой носил, сами к нему слетались), тихий, улыбчивый, в драной бекеше на голое тело, в одноухой шапке и стоптанных башмаках (пальцы из дыр торчат). Жил он у моста через речку Тускарь, в шалашике, сплетенном из ивовых веток, накрывался дерюгой, под голову клал камень вместо подушки. На паперти Ильинской церкви просил подаяние и, как дитя, всему был рад, что подадут, и медному грошику, и сухарику, и черствой, заплесневелой баранке. Иногда гундосил что-то неразборчивое, захлебывался птичьим клекотом, сулил иному напасти, иному – удачу, и все сбывалось: блаженный…
Вот при нем-то Прохор мог восторженно говорить часами, если никто не мешал, – о силе праведной молитвы, аскетических трудах и подвигах, древних пустынножителях, почерневших от палящего солнца, высохших, как живые мощи. И Проня-Голубок кивал, как-то по-своему улыбался, склонив набок голову, вставлял словечко-другое и гладил голубей у себя за пазухой, а уж те млели, гульгулькали и на все лады ворковали. Иногда к ним присоединялись друзья Прохора, все из почтенных купеческих семейств, в страхе Божьем воспитанные. В церкви рядом всегда стояли: два Ивана – Бесходарный и Дружинин, Алексей Миленин и два Василия – Казначеев и Десятников. Присоединялись, и тогда беседа становилась особенно жаркой и увлеченной, случалось, и спорили, но с проложенной колеи не сворачивали: о мирском, суетном, мелком толковать не любили, гнушались.
Если друзей и покупателей не было, Прохор в одиночестве читал Псалтырь, жития святых угодников и другие душеспасительные книги. Страницы переворачивал медленно, не спеша и с каждой прочитанной словно не хотел расставаться. Иное прочтет пару раз и наизусть запомнит: память с детства была крепкая и ум острый, к учению способный. Вставал рано и каждый день старался хотя бы к часам и заутрене – до открытия лавки – успеть в церковь, если уж не удавалось к обедне. И, глядя на его рвение, Агафья Фотиевна про себя решила: этот дома не останется, посвятит себя Богу, рано или поздно в монастырь уйдет.
Об этом ей и Проня-Голубок как-то раз шепнул, часто помаргивая, указывая слезящимися глазами на Прохора:
– Не ваш он, матушка, – монастырский. Дома не усидит. Отдать придется.
– Придется, так отдам. На все воля Божья.
Словом, Агафья Фотиевна решила, но все же умоляла судьбу: только бы не очень рано, лучше попозже, пожил бы еще с матерью, потешил ее, порадовал. Да и помощник в строительном деле незаменимый. А столяр какой искусный, топориком кружевные узоры выделывает: у Наумки научился!
Но надеждам ее не суждено было сбыться. Однажды в лавку к Прохору гурьбою втиснулись друзья, настроенные как-то по-особому, взволнованные, словно был меж ними некий сговор и вот о чем условились – выполнили. И об этом надо было друг другу рассказать, срочно поведать, а уж потом сговариваться дальше.
– Что, идем? Готовы? – спросил Прохор, поочередно оглядывая всех пятерых и в глазах у каждого стараясь отыскать нечто такое, что заменило бы ответ на словах.
– Готовы, – за всех ответил Иван Бесходарный, смуглый, чернявый, с татарскими скулами и крепким загорелым затылком. – Родители благословили. Бумаги все справили, увольнения от городского общества взяли.
(Такой он всегда, основательный и по части бумаг, и по части молитвы: положенного не пропустит, все исполнит.)
– Даже сухарей насушили, котомки в дорогу со брали, – добавил Иван Дружинин, перебирая висевшие на правой руке четки так, словно от нетерпения вел счет оставшимся до выхода минутам.
(Этот, наоборот, порывистый, всегда норовит поскорее.)
– А меня мать отпускать не хотела: у нее пред чувствие, что скоро помрет, но я упросил. Да и отец заступился, – сказал Алексей Миленин, рыжеватый, остролицый, как лисенок, с глазками-щелочками.
(Вечный горемыка, одни несчастья!) Два Василия, хоть и молчуны оба, но тоже доложили, что котомки собраны и сухари насушены.
– Ну, добре. Значит, идем. Завтра, после заутрени. Рады? – Прохор положил руки на плечи друзей и тотчас убрал, застыдившись этого невольного жеста.
– Еще бы не рады! В Киеве побывать! Мощам угодников в пещерах поклониться! – загудели все вразнобой.
– Давай и ты с нами, – обратился Прохор к Проне, который тихонько сидел в уголке, слушая их разговор, и загадочно улыбался.
– Нет, мне здесь назначено. Уж я в своем шалашике Царства Божьего дождусь… А вам вот в дорогу помощника. Голубь он ведь что твой лебедь – Дух Святой. – Проня достал из-за пазухи и протянул им воркующего голубка. – Как первые сто верст отмахаете, выпустите его на волю. Он ко мне прилетит и все о вас на ушко-то и расскажет.
– Выпустим, выпустим, как нас самих выпустили… – Друзья передавали голубя из рук в руки. – Для истинного инока монастырь – та же воля, там и дышится по-особому…В Киеве старца опытного отыщем, благословимся и сразу в Саров, а ты? – Все посмотрели на Прохора в надежде, что сейчас он ответит иначе, чем отвечал, и не раз, раньше. – Ты с нами?
– Но вы же знаете… – Прохор последним взял в руки голубя, хотел погладить, но тотчас опустил руку.
– Нет, скажи, скажи!
– Мне надо будет вернуться в Курск. Ненадолго.
– Значит, не с нами. С матерью хочешь еще побыть, в родном доме… Что ж, понимаем.
– Храм! – произнес Прохор, обозначая этим словом то, что они, может быть, и не поняли, а если и поняли, то не так, как следовало, не до конца, не до самого глубинного и сокровенного смысла. – Храм – вот диво дивное, лебедь сахарная. И надо его взрастить, достроить, освятить целиком и уж тогда… Тогда и в монастырь можно.
Прохор выпустил из рук и подбросил голубя, тот взлетел и долго суматошно бил крыльями над головами друзей, под самым потолком лавки, роняя перышки, кружившиеся в воздухе…