Текст книги "Арена XX"
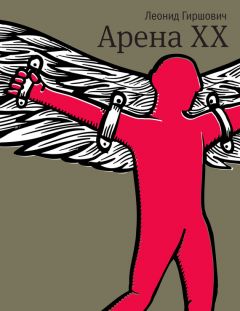
Автор книги: Леонид Гиршович
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Николай Иванович перестал есть торт.
– Если выбирать из двух зол, – сказал он, – то меньшее. Вы же не будете отрицать, что это меньшее зло. И я не буду. Предполагаю, не так уж много безутешных было на похоронах пани Корчмарек?
– Она жила одна, работала у дантиста.
– Русский протезист с Понтификштрассе? Наверное, обрадовалась, когда увидела Лилию Давыдовну с подвязанной щекой.
– Наш врач – немец, за углом от нас.
– Все равно обрадовалась, поверьте. Удружил же ей Александр Ильич.
– Вы не можете даже себе представить, как он страдает.
– Могу лучше вашего. Передайте ему мое сострадание.
– Завтра его увидите – выразите.
– Ко всему еще и места лишился?
– Сам отказался. Нет сил.
– Понимаю, чтоб кошмарики не снились. И что же теперь?
– В русском старческом доме хаузмастером.
Переквалифицировался в управдомы. Нечаянно срифмовалось по смыслу. Ни «золотого теляти», ни «золотого осляти» Давыд Федорович не читал. Хотя в магазине Лясковского и была полка «Россия смеется над Советским Союзом». И стояли на этой полке, главным образом, Зощенко и «чета одесских апулеев», по выражению того, кому зощенковский сказ внушал ревниво-брезгливое чувство. А черноморский «Золотой осел» – это неплохо, забавно. И дешево (наш кумир был прижимист).
Как на зиму кафе втягивали в себя столики, так же и дома поступали с обстоявшими их велосипедами. Перед домом, где жили Ашеры, не пасся велосипедный табунок.
На случай, если внизу с ключами будет стоять Лилия Давыдовна, у Николая Ивановича имелась фраза: «Не составите протекцию, хочу заказать мосье Макарову парадный портрет». Но гостей впускал с недовольным видом привратник. Приветливого консьержа или консьержку так же трудно себе вообразить, как и табличку: «Во дворе приветливая собака».
Вместе с Николаем Ивановичем вошел еще некто, направлявшийся туда же, куда и он. Поднимаясь по лестнице, они чинно не замечали друг друга. Каждый шел с бутылкой и с одинаково русским выраженьем на лице. Немцы, те бы перебросились шуточкой, демонстрируя «компанейский характер». Но русским претит фальшивая немецкая социальность. Впуская этих диких скифов, швейцар заливается беззвучным лаем.
Преодолев шесть маршей (дритте шток или четвертый этаж), Берг и неизвестный оказались перед приотворенной дверью. Оба молча посторонились, пропуская друг друга, но Николай Иванович посторонился чуть больше, и тот вынужден был войти первым, сотрясая праздничную гирлянду бубенчиков на двери.
Уже собралось… всяко больше тринадцати человек, а насколько больше? В прихожей в углу куча мала из шуб.
Лилия Давыдовна, выглянувшая на звон бубенцов, получила за это сразу две одинаковые бутылки с праздничной фольгой вокруг горлышка.
– Папа! Андрей Акимович…
Папа тут как тут. Взял бутылки.
– Мы ставим ребусы! – и убежала.
Этот Андрей Акимович оказался Трояновским-Величко.
– А это Николай Иванович Берг. Высоко сидит, далеко глядит.
Но Трояновский-Величко кривить душой не стал: мол, очень приятно. Никакой приязни к Николаю Ивановичу он не испытывал. Уже сыт по горло этими молодыми гениями, без пальто, без шапки, с шарфом, нагло облетевшим вокруг шеи и улетевшим за спину. Сказать в ответ «мы уже знакомы»?
Великий актер Трояновский-Величко пристально посмотрел на Николая Ивановича:
– Нет, я его не знаю, – и во всем великолепии баварского охотничьего пиджака – в котором утопал, благо с чужого плеча – направился туда, где играли в шарады, откуда неслись голоса.
– Тоже артист жизни, – простодушно оправдывался Давыд Федорович.
Снова зазвенели бубенцы – снова из гостиной выстрелили черные «папины» глаза. Опять не тот. Кто же этот «тот»? Николай Иванович отметил, что Макарова среди гостей нет.
«Живые ребусы» изображали слово сперва по частям, потом целиком.
– Силенциум! Начинаем!
Трое согбенных еле волочат ноги. Один из согбенных заводит патефон. Раздается пенье-шипенье с декламаторской слезой:
Эй, ухнем…
Следующая сценка. У висков тыльные стороны кистей рук…
– Зайчик?
Между тем заяц опускается на колени, локтями упирается в пол. Закутанная в плед барышня садится на спину животному, в руках запеленатая кукла. Животное делает: «Иа! Иа!».
– Бегство в Египет… без Иосифа?
Следом Иосиф: «И я! И я!» – прижав подбородком к груди клок ваты («игрушечную бороду» – такая же была у матери Берга, в гробу).
– А теперь представляем целое.
Дева с одухотворенно-грустным лицом – без младенца – что-то напевает. Бывший осел сотрясается в беззвучных рыданиях.
Зрители гадают:
– Бурлаки…
– «И я!»
– Она поет, он рыдает.
В результате многоходовой комбинации Николай Иванович оказался на соседней с Лилией Давыдовной клеточке. Она этого даже не заметила. Шах?
– Это «Грузия». Дарю.
И мат. Подарок принят. Соблазн попадания в цель – при всех, при Трояновском-Величко – велик. Ценой крошечной капитуляции тайком.
– Грузия!
Блеснула. Недаром вокруг нее кружится рой мошек. Поаплодировали. (Только капитуляций не бывает тайком, крошечных.)
Завели другую пластинку, она же правильный ответ:
Oh, cease thy singing maiden fair
Those songs of Georgian land, I pray thee;
Джон Мак-Кормак поет так пронзительно, а на скрипке вторит ему Фриц Крейслер так сладко. О Грузии поют по-английски. Или лучше б Мак-Кормак пел Рахманинова на языке оригинала? «Нье пой, круасавьица, пруи мнье…»
– Я мастер отгадывать загадки, – зашептал ей на ухо Николай Иванович, как если б губы у него уже были в милльфёе. – Я всегда мечтал вас увидеть в роли принцессы Турандот. Хочу заказать мосье Макарову свой портрет в костюме Калафа.
Домашняя заготовка пришлась как нельзя кстати. Обожаю на десерт облизнуть ложку дегтя. Николай Иванович смахнул с доски фигуры и с сознанием выигранной партии ретировался, в отличие от принца Калафа, мудро щадя самолюбие принцессы, но притом оставив последнее слово за собой.
Но еще не наступило время обещанного милльфёя в двенадцать ярусов, что в два раза выше «Метрополитен опера». А до остального он не охотник – до грибков там (а что как ядовитые?), до благоуханного форшмака, до страдавших избыточным тестом пирожков, которыми наедаешься прежде, чем доберешься до начинки – до всего этого закусона, как говорил, или сказал бы, чеховский инженер-путеец, еще не ведавший, что его ждет: несменяемые крапчатые носки в сердобольной и не помнящей зла Германии. («Какую жизнь профукали, собаки».) Этот инженер путей сообщения уже приглядывается к столу, ломящемуся от всего перечисленного. Урываев либо не замечает Николая Ивановича, либо заметил раньше и теперь отводит глаза. «Волга, Волга, мать родная», – бормочет он.
А Маргарита Сауловна все уставляет и уставляет стол закусками. «Надо бы подойти к ручке».
– Маргарита Сауловна…
Убедился, что селедочный форшмак – ее рук дело.
– Не очень-то вежливо вот так исчезать, – сказала Маргарита Сауловна, глядя мимо Берга.
– Я наложил на себя епитимью за один предерзкий поступок. Сказать какой?
– Нет! Нет! Нет! Ничего не хочу знать!
Мадам Ашер боится узнать такое, чего знать не положено. «Во многом знании многая печаль» (бородатая острота). Когда-то ее двоюродной сестричке Нюточке студент поведал о готовящемся поджоге. Студент был схвачен на месте преступления, а Нюточку обвинили в недонесении. И пришлось их семье бежать в Америку… «Или даже в Аргентину». – «Так хорошо же». – «Что ж хорошего?» – «Ну как, опередили события». – «А кто тогда мог знать? Это такое несчастье было. Мама ездила в Киев прощаться».
Ничего удивительного, что Маргарита Сауловна выговорила Бергу:
– Трубить на всех углах о своих неблаговидных поступках значит хвастаться ими. Александр Ильич, я права?
Урываев вопросительно поднял голову, жмурясь, как от резкого света. Она повторила, раз тугоухий:
– Хвастаться, говорю, неприличным поведением неприлично вдвойне. Может, вам, Александр Ильич, это интересно?
За него ответил Берг:
– Александр Ильич знает, что на самом деле я выполнял секретное задание Российского Общевойскового Союза.
Маргарита Сауловна поспешила на звон бубенцов.
– Отлично придумано, «Ехали на тройке с бубенцами…», – сказал Александр Ильич, не зная, чего ожидать от Берга.
– Вы находите? – Николай Иванович смерил Урываева долгим взглядом. – Горько терять друзей?
– Я человек немолодой. Мне – горько. На молодом все заживает быстрей. Как писал Пушкин: «И холод и буря ему ничего».
Эх, начитанное же племя эти русские! Следующая строка прискакала на свист.
– «Но примешь ты смерть от коня своего», – продолжил Николай Иванович. – Если она предпочитала верховую езду, то и вы Пегас… ухожу, ухожу, ухожу.
В соседней комнате он заметил Макарова. Наконец-то. Георгий Леонидович держал раскрытым портсигар, а угощался… Николай Иванович вспомнил этого человека: он тогда вышел вместе с Урываевым от Ашеров. Урываев направо, человек – налево, а покойница Кошмарик прямо через дорогу. А что как это было их последнее рандеву?
Скучно в эмиграции. Не располагает она материалами, достойными Бергова резца. Не из чего ваять.
– Сколько лет, сколько зим, – приветствовал он Макарова.
Макаров не ожидал его встретить. «Безумец чистой воды… Способен загрызть». Художник нарезает мир на картины – сюжеты тех из них, для которых позировал Берг, не оставляли никаких сомнений в его патологических наклонностях. «Таких изолируют, на таких надевают намордник. Что он здесь делает? Нельзя даже предостеречь других, не опозорив себя. Сумасшедшие хитры как дьяволы. Недаром говорят: бесное страдание. Ты привлек к себе внимание одного из агентов нечистой силы».
– Я немного занят, – нельзя показывать, что боишься. Ни людям, ни собакам, ни бесам.
– Не смею, не смею… – зловеще стлался Берг. – Я уже раз воспользовался вашей добротою. Вашей отзывчивостью… в минуту жизни трудную… Никогда этого вам не забуду, добрый человек. Кому рассказать, на какую отзывчивость способен мужчина… – и Николай Иванович доверительно обдал его щеку своим шепотом: – …с усиками. – И продолжал в голос: – Да если б вы сама Лилит были, я бы на коленях просил… молчу, молчу, молчу.
Сама «Лилит» Давыдовна не замечала их обоих. «Кокетство такое».
– Господа, господа! – Давыд Федорович захлопал в ладоши, призывая к тишине. – Мсье-дам – все выходят на Кудам! Прошу к столу. Выпить за уходящий год.
– Я с вами не прощаюсь, – сказал Николай Иванович Макарову. – Чем это вы так заняты, интересно?
Давыд Федорович подошел к Николаю Ивановичу:
– Я вам зарезервировал местечко рядом с собой. Не возражаете? – и предложил ему руку, как бывало кавалер даме в хорошем обществе.
Сидели с частотой бахромы – «тесно прижавшись друг к дружке, очевидно, чтобы сохранить некоторое неудобство, позволяющее с куда большей интенсивностью насладиться чувством уюта – того самого уюта, без которого немыслима…». Прервем цитату, дальше разночтения. Кто-то имеет в виду «старую добрую Германию», кто-то постылый уют польско-еврейского детства[15]15
Ср. Л. Юргенсон «Воспитанные ночью». Х. Аренд «Люди в темные времена».
[Закрыть]. Втиснемся туда же и мы со своим эмигрантским застольем. Разнобой стульев, вплоть до вращающегося табурета от «Шиммеля», как нельзя лучше корреспондируют с разнофигурными рюмками, фужерами.
– За уходящий год!
Хлопнули пробки с неодинаковым звуком. Кто-то открыл мастерски и разлил аккуратно, без наводнений. Кто-то ухарским манером, по поговорке «Где пьют, там и льют». Трояновский-Величко поднялся, чтобы произнести тост, – приветствовал себя стоя:
– Друзья мои, у нас обратный счет времени, мы живем против часовой стрелки. Европа смотрит с надеждой в будущее, мы смотрим с надеждой в прошлое. Каждый уходящий год – это венок, брошенный с кормы корабля и уносимый течением назад, к дальнему брегу. Вот еще один за бортом. Выпьем за уходящий тысяча девятьсот тридцать второй год.
Чокнулись. Давыд Федорович с Лилией Долин, перегнувшись через стол. До хозяйки дома было не дотянуться, но они с нежностью переглянулись. Берг, вслед за Давыдом Федоровичем устремивший бокал в направлении Лилии Давыдовны, вынудил ее чокнуться и с ним. И таким же макаром он чокнулся с Урываевым. «Их зубы столкнулись, как две переполненные чаши» – писал Мопассан. Здесь наоборот: две переполненные чаши столкнулись, как зубы.
Утопавший в чужом баварском пиджаке Трояновский-Величко, выпив, по традиции запел:
Быстры, как волны, дни нашей жизни…
Остальные подхватили:
Что час, то короче к могиле наш путь.
Напеним янтарной струею бокалы,
И краток и дорог веселый наш миг!
Будущность тёмна, как осени ночи,
Прошедшее гибнет для нас навсегда.
Ловите ж минуты текущего быстро,
Как знать, что осталось для нас впереди…
– Да, время бежит, еще один год пролетел.
На это оригинальное чье-то замечание, оригинальностью готовое поспорить с междометием, Давыд Федорович возразил с подлинно шемаханской мудростью («вот он, потомок царя Соломона»):
– Это как посмотреть. Если как из поездов да из автомобилей, то можно нестись по чужим жизням. Хоть по целым столетиям. Знаете, как чужие дети быстро растут. А несколько десятков километров своих проходишь пешком.
Ни с того ни с сего запудренный юноша в черном бантике, таком же бессменном, как урываевские носки, возразил:
– Особенность возраста. Когда ноги отказываются служить, идешь все медленней и медленней, – он поглядел на Трояновского-Величко, которому Маргарита Сауловна как раз собственноручно накладывала грибки. (Научись не говорить под руку, юноша.)
– Домашние? – спросил Андрей Акимович.
– Ну что вы. Это же самим собирать надо. От Пресникова.
– Но все остальное – домашнее, – вступился Давыд Федорович за кулинарные таланты супруги.
– Исключительно, – посыпались со всех сторон отзывы – на салат, на студень. Кто-то откусил пирожок – с чем, еще не понял. – Язык можно проглотить.
– А вы, Пашечка, со знанием дела высказались о возрасте, – весело сказала дама с волосами цвета пылающей избы, грудь – стулом.
– Возраст, говорите? – словно спохватился Трояновский-Величко, обращаясь, однако, не к Паше, а к даме, у которой занялась крыша. – Я скажу вам, Фанечка Львовна, так: с возрастом уже видишь дно. Меньше соблазнов совершать поступки, которых будешь стыдиться.
Заметив на себе взгляд Урываева, Берг сказал Давыду Федоровичу громко:
– Ну, мне еще до этого далеко. Соблазны меня обступили со всех сторон.
«Я вас убью», – читалось в глазах Урываева, для храбрости опрокинувшего уже не один граненый кошмарик. «Какашка коротка», – читалось в глазах Берга.
Отбросив приличия, Александр Ильич браконьерствует вилкой прямо в вазочке: никак не накалывается грибок – заесть «Горбачева», которого русские презирали, ссылаясь на авторитет создателя периодической таблицы элементов. Немцы их решительно отказывались понимать: «У нас тридцать семь градусов еще считаются нормальной температурой».
У запудренного Пашечки желваки играют не вхолостую, «по рецепту мужественных тиков». Он честно жует. У него в тарелке оливье, а во рту вкус тунца с томатной подливой.
– Вы ничего не едите, – говорит Давыд Федорович соседу, «своей даме».
– А это что? – на тарелке у Николая Ивановича, как на предметном стекле, лежит разъятая ревельская килька пряного посола. Другое дело, что предмет своих изысканий вивисектор съест только через свой труп.
– Ах, я забыл, мы всё глядим в «наполеоны».
– А ведь вам вот-вот придется подыскивать новое место, – сказал Берг. – Уже скоро. Как только начнут петь на языке оригинала. Тогда на немецком вы далеко не уедете.
– Пока что Лео Блех будет дирижировать «Носом».
– То-то и оно, что носом. Дорогой Давыд Федорович, учите иностранные языки, это единственное, что остается.
– Кто там говорит о языках? Хотите заливного? – послышался голос Маргариты Сауловны.
– Спасибо, я удовольствуюсь килькой, – отвечал Николай Иванович, ошибочно приняв это на свой счет.
– Дэвочка…
– Что, мой хороший?
– Дай твою тарелочку.
Давыд Федорович слушал полные угроз речи Николая Ивановича, перед ним была полная тарелка – тот еще кот Васька. Предостерегающий перст приятно возбуждал в нем аппетит. Из сказанного Бергом следовало, что, пока не поздно, надо есть. Внимаешь тревожным слухам и ешь, ешь, ешь…
– Чего вы папу пугаете, на чем это он далеко не уедет? Он никуда и не собирается уезжать, – Лилия Давыдовна впервые обратилась к Бергу. («Как хороша ты, пташка, во гневе».)
– Уезжать из Германии? – спросил Макаров, отрезавший себе кусочек грудинки. – Что вы имеете в виду, Лилечка?
– Ничего не имею. Глупости, – отрезала Лилия Давыдовна, не глядя в его сторону.
Маргарита Сауловна, чтобы сгладить ее резкость – сама любезность.
– Георгий Леонидович, говорят, у вас выставка будет. «Хомо… Хомо…» ну, подскажите кто-нибудь. Еще в «Руле» писали.
– «Хомо олимпикус»…
– С «Рулем» это все ужасно…
– Советы взялись за нас всерьез…
– Ну там темная история, – сказал человек, куривший макаровские папиросы. – Это они говорят, что Советы. Могли быть и монархисты. Застрелили же они тогда… ах ты, Боже ты мой, имя запамятовал… их редактора…
– Владимира Набокова.
– Вот-вот.
Трояновский-Величко его поддержал:
– Кто угодно мог быть. У них дела шли из рук вон скверно, они бы все равно закрылись. Это могли сделать и… – Андрей Акимович выбросил вперед руку. – Чего на красных-то всех собак вешать.
– А этим-то что? – спросил Давыд Федорович.
– А то, Давыд Федорович, что по их разумению газета является рупором… – Андрей Акимович деликатно позабыл слово, что хотел сказать, но выкрутился: – …определенных национальных кругов.
– Да бросьте, для них мы все «белые русские». С каких это пор вы за коммунистов вступаетесь?
– Не вступаюсь я за них вовсе.
– Нашла! – Маргарита Сауловна дала себе труд сходить за газетой, верней за газетной вырезкой. – Как видите, я слежу за культурной жизнью, про друзей всегда вырезаю. У меня все хранится. И там, где про Лилечкин портрет напечатано. Послушайте: «Блестящая белая ляжка, огромное израненное колено, чулок сполз…»
– Маргоший, это же не про Лилечкин портрет…
– Нет, конечно. Вот, перебил… где я? Так. «Чулок сполз на яростной кривой икре, нога ступней влипла в жирную землю, другая собирается ударить – и как ударить! – по черному ужасному мячу… Глядящий на эту картину уже слышал свист кожаного снаряда, уже видел отчаянный бросок вратаря».
Часы показывали без одной минуты десять.
– Ой! Уже десять! Быстро наливайте… чуть новый год не прошляпили, – закричала Лилия Давыдовна.
«Совсем как маленькая», – подумал Давыд Федорович.
Они тоже жили, под собою не чуя страны – хоть и иначе. («Не касаясь чужой земли, в полувершке над нею обретаются привидения – в своем бывшем настоящем. И наблюдают они в параллельном времени свои праздники».)
– А вам не кажется, Андрей Акимович, – попытался снова продеть в ушко нить прерванного разговора Давыд Федорович: речь шла о фашистах, – не так страшен черт, как его малюют?
– Как его малявки, – сказал кто-то рефлекторно, и Давыд Федорович услышал в этом одобрение.
– Вот именно,
Но Трояновский-Величко не подставил ушко – продеть нить. Больно тема… с одной стороны, щекотливая, конечно: даже в трусиках это слово выглядит неприлично. Настоящий русский интеллигент, Трояновский-Величко даже «еврей» постеснялся употребить. Он еще не понял: «еврей» является эвфемизмом слова «жид» или его синонимом. Еще, не дай Бог, припишут ему… Но это с одной стороны. А с другой стороны, по анекдоту: «Жиды есть, а слова нет».
Слово это носилось в воздухе. Оно всегда так или иначе носилось в воздухе, и лично Давыд Федорович для себя ничего непривычного не обонял. В «Комише опер» марамоев не сочтешь… А Буш, который на Рождество привозил из Дрездена «Виндзорских насмешниц» – а Ян Кипура пел… А поработаешь с Блехом, сам станешь антисемитом.
– Все-таки хочется думать, что за погромом в «Руле» стоят коммунисты, – сказал Берг, одна из малявок черта.
Трояновский-Величко поднял на него взгляд своих огромных васильковых глаз, по-актерски не стареющих, горящих – не смалодушничай он тогда, горели б они сегодня на московских подмостках. Это все Васильевский: русская киностудия в Берлине… патати-патата… Сам сгинул и других погубил. Расхаживай под старость лет в чьих-то обносках. И пестуй таких вот. Театральная студия русского юношества… Чем-то Берг его ужасно раздражал.
– Почему вам так хочется думать, молодой человек?
– Мне – нет. Давыд Федорович хочет, чтобы это были коммунисты. А я согласен с вами. Незачем на них всех собак вешать. Достаточно и того, что мы по их милости тысяча девятьсот тридцать третий год встречаем в Берлине.
Нельзя сказать, что от невольной антипатии до невольной симпатии один шаг, но сколько бы их ни было, для скорохода это расстояние нипочем.
– Боюсь, Давыд Федорович, ваш протеже заслуживает того, чтоб вы ему протежировали. Боюсь, боюсь…
– Правильное слово сказали. Бойся, Дэвка, своих протеже, – подал голос Урываев. Он был пьян, от таких отворачиваются, но без них не считается, не засчитывается застолье. Маргарита Сауловна вынуждена с этим мириться.
– Георгий Леонидович, так что же с выставкой? Где? Когда?
– В «Кюнстлерхалле», в мае.
– Вы шутите! В «Кюнстлерхалле»! Лилечка, ты слышала – в «Кюнстлерхалле»! Русский художник, эмигрант. Вы выставите свое «Хомо», да? Расскажите подробней.
– А нечего рассказывать…
И рассказал. Восьмого мая открывается грандиозная выставка «Мир после войны». Спортивные состязания выражают динамику сегодняшней жизни – с ее чувством физической радости через осознание своей силы, с ее жжжосткостью (любимое слово, в которое въезжаем сразу на трех «жжжо»).
Кончик его уса был чуть-чуть в майонезе – безотчетно хотелось, чтобы он вытер рот салфеткой (как, бывает, хочется, чтобы кто-то вытер уголок глаза), а то чуть-чуть неприятно – также и слушать, не только смотреть.
«Культ ювенальности, культ современности, was noch?[16]16
Что еще? (нем.)
[Закрыть]» Николай Иванович прислушивался.
– Я буду представлен пятью работами: «Вратарь», «Поверх барьеров», «Тур де Франс с высоты птичьего полета», «Нокаут» и «Ветер в лицо». Летом состоялась олимпиада в Лос-Анджелесе, следующая в Берлине.
– На роль чемпионки мира Брунгильды Фриц Ланг пригласит нашу талантливую соотечественницу, – сказал Николай Иванович.
Но Давыд Федорович «наступил на ногу»:
– Когда еще это будет, в тридцать шестом. Дожить надо.
Гостей было, как на Маланьиных поминках. И все же остановим взгляд на каждом. По-дилетантски нарисуем каждый волосок, вместо того чтобы парой умелых мазков создать видимость шевелюры. Ближе к кухне, с краю, Маргарита Сауловна. Ошуюю хозяйки (наш мысленный взор движется влево) Зинаида Адольфовна Кружицкая, для Маргариты Сауловны – Зиночка Наппель, недавно овдовела… Случайная встреча на Кудам, обнялись, расцеловались, расплакались. Грустная история. Как с Урываевым. Рядом с нею Колобовы, у Колобова золотые руки – если что починить, только к нему. Шахматист Переверзев со спутницей жизни Тамарой Шатоевной, очень белокожей с узко посаженными черными глазами брюнеткой. Некто Дембо, такой деликатный, как будто и не из Харькова вовсе, родной брат известного в Берлине кардиолога. Горевичи (через «о»): Фрол Козьмич, ветеринар, на девять лет моложе своей благоверной, которую еще год назад «своею» считал вздорный пожилой человек с тяжелым и прямым взглядом, таким же, как его палка, – с ним Дарья Аркадьевна бывала у Ашеров прежде. Далее – Фанечка Львовна (ее иначе никто не называл), дочь повешенного народовольца Льва Нестеренко – отсюда слабость к красному цвету, выражавшаяся в том, что мыла хной волосы, которые потом полыхали мировым пожаром, а в остальном веселая девица пятидесяти лет, с бюстом, как кафедра, чему под стать и все остальное. К своему запудренному соседу она обращалась: «Красная Пашечка». С Пашечки Смурова начинался молодежный отрезок стола: сидели на доске, как птички на жердочке. До недавних пор и Георгий Леонидович, благодаря Васеньке, втискивался сюда с видом второгодника. Впрочем, когда он выбыл из молодежной лиги, просторней не стало. Коля Минаев – «посол Царя Египта» – теснил Нюру Мазо, жившую в одном пансионе с Розалией Фелициановной. Мазо и привела когда-то Кошмарик к Ашерам, предупредив Лилечку: «Она очень некрасивая, но очень умная». Другим боком Нюра Мазо граничила с Марусей Гореславлевой, умевшей петь, аккомпанируя себе на гитаре, и тайно горевавшей, что у Ашеров по этой части беруфсфербот, а так бы она спела:
Ночи белые, очи черные,
Совлеку с плеча шаль узорную.
Сестры Кац – не то две в одном лице, не то одна в двух лицах. Юсупов, ради пущего эффекта носивший пенсне, чтобы потом можно было сказать: «И даже не однофамилец». Породистый Сазонов, который и правда состоял в родстве с министром царя. Бывший на голову выше остальных, он играл Царя Даная, чья Старшая Дочь сидела между «папашей» и «Царем Египтом» Петей Розенцвейгом – у этого с некоторых пор голова полна какими-то бреднями: он всерьез собрался в Палестину. Мама, Ида Григорьевна, плакала: «Он же там погибнет». О Петино колено безответно терлось колено Урываева. Борт о борт с Александром Ильичом (список кораблей уже перевалил за середину) сидел человек, запомнившийся Бергу, надо полагать, неслучайно. Звали его Несс, и работал он в перевозчичьей фирме, перевозившей на склад остатки типографского оборудования газеты «Руль». Казалось бы достаточно – нет, фирма называлась «“Эвена”. Грузовые перевозки». Кто-то играет с нами в шарады. И снова Дембо, на этот раз сам светило кардиологии, с женой и свояченицей, с Александрой Семеновной и с Марией Семеновной, которой якобы было что скрывать от сестры – ах, злые языки страшнее пистолета… Во всяком случае они жили всем квартетом, включая младшего брата, в просторной вилле с окнами на Ванзее и тем не менее предпочитали тесниться за ашеровским столом – этакими небожителями в хижине бедняка. В непосредственном соседстве с ними Николай Иванович Берг. Затем хозяин дома. Дальше одна за другой еще две супружеские пары, коллеги Давыда Федоровича. «Мои калеки». Артист хора (однофамилец знаменитого народовольца, отца Фаиночки Львовны), который все не мог забыть, как пятнадцать лет назад дебютировал в Полтаве в роли Мазепы. Если б все сложилось иначе, пел бы он сегодня в хоре? Привычная к таким разговорам жена сидела с невозмутимым видом. Второй – артист оркестра, «альтист олькестля». («Ну и что, Фриц Крейслер тоже играл на альте». – «Интересно, кто же тогда был первой скрипкой?» – «Изаи. Вторая скрипка – Тибо. Крейслер – альт. Казальс – виолочель». Дорого б мы дали за запись. Небось не строило и сопли на заборе висели, а все равно подороже всех золотых патефонов.) «Альтист оркестра» не любил, когда другие рассказывают анекдоты про альтистов, и потому рассказывал их сам: «Поймал альтист золотую рыбку: “Хочу по водам ходить”. Пошел он по воде аки посуху, а с берега и говорят: “Вон альтист, даже плавать не умеет”». – «Саш, а расскажи, как Иисус скорбящих исцелял», – говорила ему жена. «Ну, привели к Иисусу хворых и больных…» Наконец Макаров. Так, обведя глазами весь стол, мы вернулись к Маргарите Сауловне.
Каждый что-то говорил – друг другу и в общий котел. Трояновский-Величко говорил Макарову:
– В хорошем смысле слова, вы попали в струю, – он имел в виду атлетическую серию. Хотя струя была доброкачественная, Давыд Федорович не преминул заметить, что атлеты и атлетки не основное в творчестве Георгия Леонидовича, его самая сильная сторона – тонкий психологизм портретов.
– И положений, – добавил шахматист.
– Кхм-кхм! – Маргарита Сауловна игриво погрозила ему пальчиком: что это еще за «положения» такие? Она услышала в этом намек на картину Макарова «Пятая язва. Поломойка». Выставленная в галерее на Фридрихштрассе, «Поломойка» сразу заставила о себе говорить. С лягушачьей перспективы изображена лицом к зрителю женщина, орудующая половой тряпкой, как это делают русские бабы: таз выше плеч. А позади на стуле развалился господин с папиросой, нога на ногу, и сверкает моноклем.
– Я слышал, у вас есть пандан той картины – «Поломой». Верно?
Слова Берга прозвучали дружеской шуткой. Если в ответ пойти пятнами, пуще того, окрыситься, все подумают: чего это он?
– Верно, но я предпочитаю ее никому не показывать.
– Отчего же? – не унимался Берг.
– Дама на заднем плане узнаваема.
– Тогда понятно, – сказала Фанечка Львовна. – Кому же охота, чтоб его на дуэль вызвали.
Разговор принял «взрослое» направление, то есть «пошлое», что для русской молодежи глубоко отвратительно.
– Мама, почему взрослые все такие пошляки?
– Лилия Давыдовна права, я беру свой вопрос назад, – сказал Николай Иванович.
– А я свой ответ, – обрадовался Макаров. – Сменим тему.
– Сменим! Сменим! – раздалось на разные голоса, с интонацией всех цветов радуги – от возмущенно-красного (молодежная жердочка) до пародийно-оранжевого (рассказчик анекдотов про альтистов Саша).
– Как Роза ненавидела пошлость, – сказала Нюра Мазо. – Мы с ней год нанимали вместе комнату.
Все разом смолкли.
– Она вроде бы была католичкой? – спросил Давыд Федорович.
– Не знаю, наверно, – Нюре стало неловко: а еще подруга.
Ее выручил Берг:
– Она ходила в костел Марии Крулевы Покою. Я видел, как она выходила из исповедальни. Я туда езжу с одной дамой на колесиках.
– Вы санитар? – Трояновский-Величко проникался к Бергу все большим расположением.
– Нет, я выступаю в оригинальном жанре. Конечно, если б все сложилось иначе…
– Если б все сложилось иначе, разве пел бы я в хоре…
– Кошмар, бедная девушка, – сказала Маргарита Сауловна. – Лилечка ведь должна была полететь… – но осеклась под взглядами Давыда Федоровича и Лилечкиным.
– Я ее не знал, – Андрей Акимович в свое оправдание вздохнул. – Смерть в таком возрасте это ужасно. Смерть в любом возрасте ужасна, – и снова вздохнул. – Но это необыкновенная смерть.
– Верхом на Пегасе? – у Николая Ивановича на лице написано блаженство. – Я думаю, это прекрасная смерть.
– А слышали, что произошло на похоронах Пегаса? – спросил Колобов – мастер на все руки.
Дама, которая Шатоевна, ну… Тамара Шатоевна, спутница жизни шахматного короля, сидевшая через одну фигуру от Колобова, – она вдруг оживилась. Ее приятельница хорошо знакома с шофером из похоронной конторы, таким Оболенским. Нет, не из тех. Он ей рассказал буквально следующее. У водителя, который вез гроб с телом Манфреда фон Шписса, был, оказывается, роман с его пассажиркой. Ну и уж как там получилось, но на беднягу что-то нашло. Он стал носиться по всему городу в похоронном автомобиле вместе с покойником, да так что угнаться за ним не могли.
– Нужно было стрелять по колесам, – сказал Дембо-кардиолог.
– Стрелять по колесам – рисковать жизнью прохожих, – мягко возразил Берг. – Я же мог на полной скорости врезаться в дом.
Его слова словно повисли задними колесами над пропастью – такая напряженная установилась тишина. Первой пришла в себя Тамара Шатоевна:









































