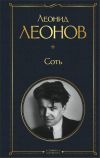Читать книгу "Пирамида, т.1"

Автор книги: Леонид Леонов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Вызывающий вопрос выражал скорее степень аблаевского смятения, нежели бунта. В создавшихся условиях отговаривать дьякона от задуманного было так же неуместно, как воспрещать ему принести себя в жертву ближним, тем паче малюткам, защита которых сама собой подразумевается в христианской морали.
Да и не в том ли заключается обязанность священника, чтобы обелить очевидное бессилие небес, похожее на прямое попущение заведомому злодейству, и примирить ум с горестной неизбежностью скорбей на земле. Тогда-то, поставленный в необходимость, и открыл Матвей дьякону самые коварные, с канонической точки зрения, скопившиеся, довольно рискованные мыслишки за несчитанное время сиденья за сапожным верстаком. Он гораздо больше наговорил в тот раз, чем здесь приведено, жарче и сбивчивей, зато короче, так как недосказанное возмещалось преимуществами непосредственного общения.
По Матвееву признанью, его тоже давно смущали кое-какие явления, внешне как бы порочащие логику Божественного промысла, что однако не означает крушенья веры, а лишь подчеркивает несовершенство наших знаний о Боге. Туманная, потому что впервые и вслух, высказанная мысль касалась главного догмата веры о непостижимом, во дни Ирода царя, сошествии Божества на казнь во искупление первородного греха. Ибо в чем ином может проявиться родство зеркального двойника с оригиналом, как не в божественности человека и человечности Божества.
– Подумаешь, Никон, на заре райского новоселья какая неизбывная беда приключилася: молодица неразумная, едва замужем, плода запретного вкусила. И за то проклят был во чреве весь род людской со всею еще неродившейся детворою включительно... А без того рокового яблочка, кабы воздержалась, кем бы люди осталися – мотылечками, воробушками, зверями лесными? У царей выше всех прочих совершенств – справедливость. Не устрашусь открыть свою догадку об истинной причине милосердного акта Господня. Оно действительно состоялось, сошествие с небес, во исполнение первородного греха... весь вопрос – чьего? Не потому ли, что, вдоволь наглядевшись на горе людей, обусловленное их телесного природой, и порешился отец небесный предать палачам возлюбленного сына своего, чтобы испил чашу неведомого ему дотоле страданья нашего? Иначе, если впрямь нет у него жилища милее сердца человеческого, то как ему, осознавшему свою причастность к обстоятельствам, в этом доме пребывать и царствовать?.. Смекаешь теперь, в чем заключался голгофский подвиг его на земле? – глаза в глаза спросил о.Матвей и вдруг до холодной испарины ослабел весь, отрекшись от коренного догмата веры своей. Единственное оправданье о.Матвею заключалось в том, что страшную тираду свою произносил как бы в исступленье.
– Полагаешь ли, отче, что и в самом деле неприятно Господу нашему созерцать с небеси, как Аблаев понесет шершавому Минтаю душу свою за паек продавать? – со скрипучим сарказмом справился дьякон, и батюшка не ответил на его ужасный вызов, содрогнувшись при мысли, что там, наверху, слышат их диалог.
– Рвет мне сердце крик души твоей, но молчи, молчи, пусть не гордятся горем нашим, – чуть спустя, оправясь от шока, сказал дружку о.Матвей и какими-то неповторимыми, навзрыд, словами прибавил в утешенье, что сам Иисус будет стоять рядом с ним на помосте и совместно пригубит чашу горечи его. – Давай обнимемся напоследок, конченый ты мой человек!
Наставление бывшего попа завтрашнему отступнику, как вести себя на эшафоте, подошло к концу. Догоравшая свеча долизывала растекшуюся под огарком лужицу воска, и вдруг, перед тем, как погаснуть, взметнувшееся пламя населило сумрак кругом скользящими тенями, так что в последнее мгновенье Никону почудилось даже, как еретическими волыюмыслиями напуганный старичок в нижнем ярусе иконостаса, участник Никейского собора, по пояс высунулся в их сторону, приложив к уху ладонь. В следующий момент храм потонул во мраке, выбирались наружу впотьмах и ощупью в уже наступившую длинную бессонную ночь. Никто, кроме Финогеича, не знал о предстоящей аблаевской перековке, но и все остальные жители домика со ставнями провели в невыносимом томлении духа тот бесконечный день, пока ближе к вечеру не прибыло начальство с подручными.
В общем-то от кладбища до Дворца культуры было рукой подать, однако Минтай сам подкатил за добычей на машине едва ли не за час до начала, и хотя дьякон был тоже изрядного роста, у него похолодело в сердце при виде сопровождающих его сотрудников впечатляющего вида: один из которых с челюстями для раскусывания кокосовых орехов, другой же имел лицо как переспелый ананас; всю дорогу до места он-то, на случай бегства, как бы по рассеянности и держал мощную длань на аблаевском колене. Не смея войти без дозволения в святое место, они протяжными воплями клаксона вызывали жертву к себе за ворота. Аблаев настрого запретил домашним провожать его даже взглядом из окна. В последнюю минуту погружаемый в машину, в обжимку усаживаясь посреди провожатых, вдруг погано ослабевший весь, стал волноваться и заикнулся в шутку насчет пивка для храбрости. Было отвечено, что на обратном пути хоть ведро любой крепости, а туда – ни-ни, чтоб не получилось неуважение к аудитории.
Выступление Аблаева намечалось в промежутке между двух эстрадных номеров, и во избежание пристрастного любопытства встречного персонала к отступнику, дьякон был доставлен через запасный ход прямиком в кабинет директора, где его ожидал на подносе чай с бутербродом и трехъярусным пирожным на бумажке. Впрочем, оставленный без присмотра с незапертой дверью пленник вскоре пропал, и его нашли за туалетной комнатой в конце коридора, где он, приоткрыв стеклянную дверь на заваленный снегом балкончик, жадно закуривал мятую и не первую, видимо, папироску.
– Вот к проклятию готовлюсь, – сипловато покаялся Аблаев.
– Зря на сквозняке торчите, – потирая руки, точно мыл перед едой, приветливо пожурил его директор, – без того голос стал совсем как колокол надтреснутый.
– От переживаний растрескался, – в смертной истоме поведал дьякон.
Вокруг них в зловонном тумане пополам с табачным дымом тасовалась текучая толпа, и состоявшаяся здесь беглая беседа на далеко несовместимую тему, под шум спускаемой воды, воспринималась дьяконом греховным криминалом высшего порядка.
Разговор у них начался советом Минтая не трепыхаться зря, так как сама по себе предстоящая Каносса для новичка настолько щекотливая, на деле не больнее, чем застарелый зуб тащить.
– Шибко-то в церковную схоластику не вдавайся, – фамильярным тоном сообщника по злодейству ободрил он напоследок, – а вот мужской сальный анекдотец в адрес Магдалины не повредит. Сообразно текущему моменту, юмор – улыбка ума. И особенно подкупает меня в тебе детское простодушие и нечто от Фомы Аквинского, в смысле быковатой внешности при чувствительной душе. И не дрожи.
– Стараюсь. Вот спросить еще собирался да забыл, как вас по отчеству величать, – от робости замялся Никон, – Минтай... Миносович?..
– Нет-нет!.. покойный Минос доводился мне папой разве лишь в том разрезе, что его супруга произвела меня на свет от его же родного дяди Посейдона, владыки морей, в честь его родители звали меня ласкательно Минтаем, так что во избежание династической путаницы зови меня просто товарищ Минотавр. Теперь что тебя беспокоит?
– Долго ли продолжится крестная мука моя?
– Ну это, братец, по рвенью... главное с огоньком, чтобы мостов в прошлое не оставалось. Однако нам пора! – покровительственно заключил он, возлагая ладонь на темя аблаевское, причем оказалось, что тот приходился ему едва под локоть.
Видимо, в обиходе попривыкнув к повседневной бесовщине вокруг себя, люди сейчас не замечали вблизи, что при своих габаритах дьякон выглядел почти раза в полтора мельче клубного директора, про которого тамошние завсегдатаи шутили, что в его сапоге уместился бы мальчик лет восьми.
Тут Аблаев ощутил электрическое прикосновенье просунувшейся под локоток руки, которая прямиком повела его сквозь почтительно расступившуюся публику перед экзотической фигурой дьякона в рясе с длинными волосами, как было условлено по сценарию отреченья. И когда после нескольких ступеней вверх, за поворотом вправо открылось зияющее пространство, у него подкосились ноги, и пришлось бы экую громаду волоком тащить на помост, как на дыбу, если бы не лишняя спасительная минутка ожидания за кулисой, пока кончалось выступление самодеятельного квартета щипковых инструментов, задушевно исполнявшего свой коронный номер на мотив – однозвучно гремит колокольчик.
Обычно клубные концерты передавались по радио, и дьякон заранее упросил Финогеича подежурить тот страшный часок под говорящей тарелкой в заводском снежном скверике. Всякая боль легче выносится, если родная душа хоть издали присутствует в момент ее причиненья. После выпавшего утром мокрого снежка хлипкое затишье установилось в природе; тяжкий шелест капели несколько мешал старику читать по звукам происходившее в зале, и по признанию старика, слезы в горошину катились у него из глаз, пока слушал корявое, по бумажке, бормотанье человека, публично, с растоптанием, отвергавшего Бога своего.
В те годы с целью привлеченья зрителя клубы стремились полезное сочетать с развлекательным – как детям добавляют сиропцу в горькое лекарство. Появление дьякона, принятого публикой за обещанного в программе иллюзиониста, знаменитого своим искусством мгновенно менять внешность, пол и возраст, было встречено чуть ли не овацией. Когда же Аблаев стал рассказывать, как порвали паутину средневековых суеверий, вырвался он на простор истинного прогресса, в зале пополз ропот разочарования. К несчастью вдобавок, самый текст покаянья, после долгих согласований в инстанциях с уймой обязательных цитат и вписок, по-птичьи трепыхался в дрожащей руке отступника, отчего случались двусмысленные оговорки, так что сбившись под конец, оратор перешел на смешное нечленораздельное гуденье. Выпущенный ему на выручку конферансье завел уморительный диалог на профессиональные темы, и в частности осведомился – сможет ли артист в подтверждение распространенных слухов произнести показательные многолетия, будто посредством акустических колебаний можно разрушить стеклянный сосуд средней емкости? Отступать было некуда: уже какие-то ловкие ребята бесовского облика тащили из буфета посудину на двести граммов с прицепом, а с первого ряда комично удаляли подростков, чтобы не поранило. Совсем не к месту заплакавшего дьякона вывели под руки в мертвой тишине, а Финогеич со своего поста смог расслышать чей-то вздох, сопровожденный словами: о Господи!
Между прочим, зал был набит до отказа, а в переполненной директорской ложе находилось немало влиятельных лиц с женами, среди них знаменитый корифей Шатаницкий, которому очень понравилось мужественное, в колизейном стиле, самосожженье.
В подсобном коридоре, отвалясь на спинку скамьи, где его оставили отдыхать после казни, долго ждал дьякон, что вот-вот вынесут ему разрешительное, с красной печатью, свидетельство на право получения должности. Но время шло, с эстрады доносился сперва грохот полусотни каблуков, затем музыкальный плач пилы, а он все ждал, потому что смертельнее всего было теперь вернуться к семье без фактической расписки ада в полученье одной исправной человеческой души. Проходивший мимо давешний сподручный Минтая посулил выслать справку тотчас по получении бланков из типографии и поручил милиционеру проводить гражданина на улицу. Здесь, лишь за воротами, на размокшем от слякоти пустыре, издали признав по походке, и подхватил ослабевшего великана подоспевший Финогеич. Домой возвращались затемно пешком.
– Духом-то не падай, Никон Степаныч. Главное – отлежаться теперь. Через овражек переберемся и дома, – твердил старик, поддерживая плечом обугленную громаду, и всю дорогу горевал об отсутствии баньки в Старо-Федосееве, ибо нет лекарства пользительнее от всех болезней как на раскаленном полке, где вперемежку с ознобцем ублаготворить тело веничком, пока не станет на место вывихнутая душа. – Злые стали люди, злые докрасна...
В заключение же пытался рюмочкой заманить пострадавшего к себе, чтобы сразу не пугать ребяток.
Те еще не ложились, и несмышленые повскакали навстречу ввалившемуся кормильцу. Мимо протянутых рук, пройдя к себе за занавеску, дьякон слег в постель и двое последующих, без пищи проведенных суток же отзывался на собственное имя. Лишь неотлучавшийся Сергунька доставлял заметное облегченье другу поглаживанием недвижной руки. Напрасно приоткрывшаяся тетка молила его пропить накопленные себе на похороны семь червонцев; напрасно заходивший проведать Финогеич подтверждал, что прижиганье образовавшейся душевной раны действует не хуже бани; напрасно отец Матвей пытался влить в аблаевское сердце пастырский бальзам.
– Как подымешься, – говорил о.Матвей, раскрывая свой заветный клад, который втайне хранил на черный день для себя, самую главную свою надежду – уйти от судьбы, – сложишь всех ребяток заедино с барахлом в один кузовок да и махнешь на алтайское приволье. Проживает у меия там на небольшом озерце родной дядя жены, чуть постарше меня, человек хороший, тоже попом служил да после ссылки по нужде, как в я, в пчеловоды перековался. Ни тебе прописки в такой глуши, ни гоненья. А что касаемо пищи? Так зверь-то не цингует, живет, а воск и медок, надо полагать, и при полном коммунизме не отменят. И мнится мне среди работы за верстаком, будто иду босыми ногами по росной травке, иду и мысленно плачу от радости: совратился, сам не знаю куда, где не велено больше томиться, вздрагивать, казни ждать. Так и сижу с иглой в руке... Ты меня слышишь, Аблаев?
Однако тот молчал, рассеянным взором уставясь в окно на поваливший хлопьями снег и – еще дальше куда-то. Он догорал молча и помер со слезами на глазах на пятые сутки без единого слова прощанья и прощенья.
Осиротевшая семья так же кротко и неслышно, как жили, куда-то стаяла вместе со снегом той зимы, и что сталось с ними потом – лучше не задумываться.
Глава V
Слишком приятельское приветствие сомнительного корифея бросает дурную тень на человека вполне достойного, кабы не его богословское мудрование о вещах, запретных для ума, и шшшу надлежит заблаговременно изложить кое-какие сведенья о бывшем священнике Матвее Петровиче Лоскутове, на судьбе которого построен ключевой миф о нынешней верховной смуте.
В сущности, жизнеописание бывшего священника целиком уместилось бы в полстранички. Добрые и щедрые наставники, как бы передавая из рук в руки, заботой и лаской пестовали его убогое детство. Еще в школе местный учитель, чахоточный мечтатель, отбывавший там царскую ссылку, заронил в кроткого паренька искру подвига во имя некоей общечеловеческой цели, а после смерти матери мастеровитый шорник, по-соседски приютивший сироту, обучил его всем статьям своего уменья – от сложной архитектуры русского хомута до всепогодной крестьянской обувки, что впоследствии и пригодилось о.Матвею, когда под влиянием обстоятельств вынужден был сменить пастырское служение на сапожное ремесло. И наконец, епархиальный архиерей, на выпускном экзамене тронутый поэтическим, без выхода из канонических рамок, толкованием столь туманного догмата как тринитарность, не только довел даровитого юношу до семинарии, но и по уходе на покой, когда тот по традиции занял унаследованный от тестя скромный приход, не оставлял своего любимца без покровительства. Не он ли попозже, на основе своих служебных связей исхлопотал будущему ересиарху беспримерный дотоле перевод из вятской глуши прямиком на скромное, но еще доходное подмосковное кладбище? Но версия эта маловероятна в общественных условиях того периода, когда синодальное ведомство надолго утратило былую значимость.
Открытие Бога, ставшее призванием отца Матвея, состоялось в раннем возрасте, когда по дороге из лесу домой его застала в поле такая праздничная Ильинская гроза. Молнии с огненным треском раздирали небо над головой, а ливневая влага, ручьем стекавшая под холстинковой рубахой, придавала душе и телу жуткий трепет посвящения в тайность, а все вместе становилось восторженным чудом, облекавшим парнишку с головы до пят.
В избе у шорника хранилась старопечатная, именуемая патерик, книга с жизнеописаниями отшельников, иерархов и священномучеников российских. В зимние вечера, при коптилке, ведя пальцем по строкам, питомец читал ее слепнущему благодетелю, который немигающим взором смотрел в огонь, умиленный чужою судьбою, не доставшейся ему самому. Юного грамотея тоже манили необычайные приключения святых героев, в особенности их поединки с нечистой силой, как у Иоанна Многострадального, по шею закопавшего себя в землю, и дикая прелесть уединенного жития в таежной землянке, куда слетаются окрестные птахи навестить праведника и охромевший зверь лапой стучится в оконце на предмет удаления занозы. В семинарские годы он помышлял о миссионерстве на северной окраине, чтобы, подобно Иннокентию Камчатскому, в утлом челноке пробираясь среди смыкающихся льдов, нести слово Божье отдаленным алеутам. В памяти юноши еще не угасло прощальное напутствие чахоточного учителя следовать примеру именитых предшественников прошлого века, тоже бывших семинаристов, беззаветно потрудившихся на ниве очевидного теперь разрушения исторической России. Выходец из деревенской нищеты, о.Матвей одно время испытывал горячие симпатии к революции бедных, и сам был не прочь принять в ней посильное участие. Тем паче прельщала русского батюшку новизна, преобразующая человечество наподобие всемирной, во Христе, образцовой пасеки, причем общественная устойчивость диктовалась уже не головоломным сплетением обоюдоострых истин, а тем социальным инстинктом улья, где все одинакие, и оттого некому завидовать, нечего красть и незачем убивать ближнего на баррикаде... покуда на собственном опыте не убедился, что означенная, медок творящая пчелка трудовая, не забывающая о вощине для свечи пасхальной, ныне насильно, во имя какой-то другой, не понятной ему цели впрягается в ее земной насекомый интерес с запретом мысленно всматриваться в небо, что и служило ему самому наглядным доказательством своей политической неграмотности.
С той поры героические помыслы его сменились преждевременным стариковским влечением к мирной жизни, чтобы, сидя в кругу многодетной семьи на террасе уютного домика с видом на речку и во благовременье вкушая вечерний чаек, слушать мелодичную русскую песню возвращающихся с покоса поселян либо, еще краше, любоваться деятельностью местных, своего прихода рыбарей, как они дружно и воздерживаясь от возгласов крестьянского просторечия, тянут на берег свои мрежи, полные живого, трепещущего серебра.
Казалось бы, всего тут с избытком наговорено про бывшего попа Матвея, однако не заключался ли коренной просчет эпохи именно в упрощенном подходе к человеку на основе анкетной биографии, которая есть не более чем телесный экстерьер, без заглядки в тайники подсознанья, где под опекой рассудка ютятся в тесноте совесть и вера. Словом этим обозначалось у о.Матвея непрестанное, сродни таланту, ощущенье благодетельного, над собою, присутствия надмирного и всевластного существа, отвергаемого наукой по невозможности приручить его в пробирке, in vitro, для подключения к коммунальному хозяйству на манер электричества. Ввиду масштабной несовместимости сторон для непосредственного общения человека с божеством, по ничтожеству одного и величию другого, детская вера сводилась к готовности при жизни пролежать песчинкой на безвестной вселенской тропке в ожидании – когда однажды, при обходе звездных владений Господь коснется его своей пречистою стопой. Отнюдь не чудо требовалось отроку; на пути к будущему призванью в раннем возрасте усваивается стариковская мудрость, что постоянным пребываньем среди дивных творений природы притупляется наше восприятие их божественной прелести. Также рано понял он, что и всякая драгоценность в потемках музейной витрины сверкнет не раньше, чем высветит ее там и прогреет благоговейное восхищенье созерцателя. Простонародная душа терпеливей к страданью в надежде, что всякая, без вины, боль земная посмертно, по золотинке за бочку слез, вознаграждается в небесах. Впрочем, священник и не нуждался в подтверждающем сей тезис знаменье небесном, пока все казни египетские не обрушились на его страну. Раскорчевка бывшей империи под всемирную цитадель интернационального братства началась планомерным искорененьем православия, заложенного в фундамент русской государственности. Вслед за изъятьем ценной служебной утвари из алтарей стали редеть храмы на Руси, а с уцелевших посымали их медные глаголы, чтобы вкрадчивым напоминаньем не омрачали наступившую весну человечества. Старинный собор старо-федосеевского некрополя с наспех залатанными поврежденьями октябрьского штурма еще сохранял свою внешнюю парадность, быстро тускневшую от наплыва покойников, которые буквально ломились на кладбище, отбоя нет, словно торопились поспеть на обительский корабль до его отхода в потустороннее плаванье. Не радовали бедного вятского попа обманчивые приметы приходского процветания – текучая волна богомольцев, расточительный дым кадильный, гробы, проплывавшие мимо под безутешные рыданья провожатых, вплетенные в райские напевы почти концертного хора: пугало зловещее обилие отовсюду слетевшейся экзотической голытьбы.
Точно с ветру взявшиеся благородные матроны в кружевных траурных косынках убирали нагар со свечей, торговали рукодельными цветочками и погребальной мишурой в украшение могилок, а преобразившиеся в садовников и регентов бравые, воинского обличья и с седыми подусниками старички пели в хоре, хлопотали по благоустройству новоприбывших на кладбищенском новоселье. Задолго до утрени, от ворот до паперти выстраивалась шеренга обломков прошлого, где попадались призрачные игуменьи владычных монастырей, и митрофорные протоиереи с академическими значками на груди, а среди них известный о.Матвею по семинарскому учебнику доктор гомилевтики и, наконец, скорбно зажмурясь от постигшего их ничтожества, сами недавние давальцы на церковное благолепие. Все это чередовалось вперемежку с калечным и бездомным божьим людом, похмельным сбродом и просто рванью человеческой; держась за вделанную в стенку железную скобу, чтоб не утратить место в толчее, они зорко караулили пятак богомольца, устрашаемого при виде стольких протянутых рук; разок-другой пришлось и чуть не батожком унимать их голодную корысть. Томясь стыдом за свою временную сытость, потому что всякий раз искал в этой галерее нищеты свою завтрашнюю участь, о.Матвей с опущенным долу взором торопился миновать их жалкий квохчущий строй. На всех пока хватало кутьи и милостыни, но уже поговаривали в народе, что новая власть царем да богачами не ограничится, а после малой передышки примется за самые небеса.
Не более двух лет длилось тревожное процветанье Лоскутовых на новом месте. Близ очередного Рождества порывом того ветра смыло с паперти нездоровую толчею затянувшегося праздника. Закрытием именитого некрополя как бы отменялся исконный обычай племени провожать усопших заупокойной молитвой с восковой свечой и ладаном. Из искры возродившееся пламя быстро становилось повсеместной огненной бурей, в которой пылала и плавилась всяческая сорная старина – святыни, обряды, потребности, ремесла, включая тысячелетнюю государственность и самую веру русских. В середине первой пятилетки, куда ни глянь, по всему горизонту стлалось незримое, обжигающее душу зарево.
В былых крестьянских пожарищах на Руси неизменно наступал тот переломный момент, когда во всю ширь отчаянья раскрывается бесполезность дальнейшего сопротивления огню. Уже без причитаний и молитв ночная суматоха сменяется отрешенным созерцанием, как повсюду прорвавшаяся сквозь стропила рыжеволосая беда швыряет в рассветную муть охапки искр, а шалый ветерок помогает ей пожирать основы бытия. Уже не плачут дети, бабы не бьются оземь головой, лишь собаки вопросительно косятся на помертвевших хозяев... Еще красочней из-под пера Матвеева вырвалось надгробное рыданье по отечеству в письме родному дяде жены, отставному протопопу Устину Зуеву, который, своевременно перековавшись на пчеловода, безнаказанно существовал пока в алтайской глуши.
«Доселе помнятся мне вещие слова твои из предпоследнего письма – «сколь не просится у тела душа моя, чтоб отпустило ее отдохнуть на небесном приволье, противится, держит крепко, дай Бог, в чаянии лучших времен... напрасно машет крыльями, бедняжка, отцепиться не может». Вот и моя тоже... Воистину обширная, незримая зола простирается ноне кругом нас: экое кострище из России содеяли – еще полвека отполыхает, пока не прогорит дотла! У них сколько веков плакал Иеремия, а мы только лишь спочинаем, и кто знает, надолго ли хватит наших слез. Соблазнились православные на жидкое братство и, не понюхав, вкусили досыта. Не про нас ли сказано: зарекалась ворона навоз скребать, а как увидит – обязательно. И вот – пала, грозная, в боях, не обнажив меча, дружина.
Я думал, когда новый строй придет, что будет общий улей, где все объединено. Людей ждет удел пчелок золотых, которые работают на хозяина и на Бога. А новые властители собираются перековать род людской на породу шершня, который, как сам видел, среднего размера муху обыкновенную запросто перекусывает пополам.
И вот, чуть сумерки, все мы, обреченное, слепнущее старичье, мысленно бродим по своей неостылой погорельщине и в потемках, благоговейно подымая из-под ног обугленные головешки, на ощупь пытаемся опознать, чем это было раньше. Доныне по указанию Господню гений и святость вели род людской из ничтожества на вершины всеобщего прогресса, но, чрезмерно жалостливые к чужому горю и, чуть дымком запахло, спешившие с ведерком помочь соседу, русские по любимой поговорке – на миру и смерть красна – сверх того мечтали об одинаковой для всех судьбе на базе равенства материального, однако же без превосходства умственного во избежание кровавых междоусобиц, чтобы всем и всего было поровну – вплоть до глада, хлада и нищеты бездомной. Нас взяли на заманку всемирного братства... Боюсь, что вскоре Господь накажет нас исполнением желаний... – ибо оглянися, как жутко и страстно железкой выскребаем разум из собственного черепа своего, стремимся погасить высший дар Его... кровью застилается рассудок от созерцанья неотвратимых последствий... Невольная приходит на ум догадка – не в том ли заключалось историческое предназначенье России, чтобы с высот тысячелетнего величия и на глазах у человечества рухнуть наземь и тем самым собственным примером предостеречь грядущие поколения от повторных затей учинить на земле без Христа и гения райскую житуху? И вот лукавый бес ночной шепчет мне под руку полюбоваться – как причудливо выполняется у нас нагорное пророчество о примате нищих духом в царстве Божием.
Пишу сие не столько во утешение скорби, как ради осмысления жертвенной участи нашей в глазах потомков».
И потом приписал в конце:
«А еще грешен: частенько чудится мне, как бывало на вечерней зорьке перед покосом русские девчушки водили песни хороводные, в которых слышались зов, прощание и молитва».
Временами и вдруг одолевала о.Матвея срочная надобность выяснить – слышат ли там, в небесах, что творится на святой Руси?
Гонимый алканием чуда, не раз за зиму и на исходе дня, вскинув на плечи ветхий, вятской поры, кожушок, кружным путем через боковой ход пробирался священник в обиндевелый храм. В год, как Кирова убили, жестокое поветрие порвало обшивку купола и через дыры вместе с голубями ворвались недуги подобных зданий, покинутых Богом и людьми. Пророки и евангелисты в кольцевом барабане покрылись известковыми нарывами, а запрестольная фреска вовсе превратилась в легкомысленный натюрморт. Зажмурясь, чтоб не видеть запустенья, ничком валился на щербатый, выхоженный пол и, не простужаясь, по часу и дольше лежал распластанный, шепча сто тридцать восьмой псалом, и так был насторожен слух, что слышал паденье оторвавшейся от купола снежинки инея. Вдруг где-то над головой как бы на тарабарском языке возникала отдаленная речь вперемежку с плеском крыльев и глухим скрежетом скрестившихся мечей, и замирало сердце, принявшее мираж за докатившийся сюда отголосок битвы Добра со Злом. И не было о.Матвею ни намека, ни хотя бы утвердительного лучика в ответ, всего лишь курлыкали вверху слетевшиеся на ночлег иззябшие голуби, да вечерний сквозняк шевелил ржавые листы порванной кровли, да еще пришел Финогеич, отыскавший пропавшего попа по следу в глубоких снегах той зимы.
– Беда с людишками, совсем припадошные стали! Подымайся, дакось я тебе помогу... – ворчал старик и придерживал беднягу под локоток, пока могильный озноб стекал обратно в камень. – Как в сказке говорится, чего еще тебе, старче, надобно? Сапожной иглой злата не добудешь, зато никакая рыбина зубатая в нищую-то нору за добычей не сунется. Слышь, волна какая вверху расхлесталася, а у нас тишина, как на дне морском. Нас-то многовато развелось, дай Ему отдохнуть от нас! Может, еще и повидаетесь, по ком скорбишь, потерпи... – И всю дорогу выговаривал смирившемуся батюшке о вреде лежания на плитах, ровно вымолоченный сноп – долго ли остудиться этак-то, а тот повинно отшучивался, дескать, приговоренные не простужаются.
... За те памятные полтора часа, потраченные на попытку логически расшифровать мистический иероглиф бытия, который все мыслящее читает в своем ключе, Матвею Петровичу живо вспомнилось одно опалившее ему душу утро давней поры полного сиротства между смертью матери и опекой благодетельного шорника. В бытность подпаском на селе, оставленный наедине со стадом и застигнутый грозою на лугу без всякого укрытия кругом, мальчик недвижно, с благоговейным испугом подлинного откровения выстоял литургию стихий, где чьи-то молнийные возгласы, чередуясь с басовитой осанной громов, завершились штормовым ливнем, насквозь промочившим парнишку. Наступившая затем, как бы по праву, робким щебетом пташек оглашаемая тишина звучала как совместный кому-то гимн благодаренья всей живности земной от затихшего стада до травы включительно. Любой из Матвеевых сверстников воспринял бы ту, во всю ширь окоема распахнувшуюся радугу как приглашение природы принять участие в ее беспечальных играх напропалую, но пастушонок лишь ежился в отяжелевших от влаги лохмотьях. Наверно, такая же, на грани разумности проступившая потребность в убежище от непогоды учила нашего предка преодолевать заодно и прочие неудобства первобытного существованья, что и доставило ему сперва старшинство в семье, а затем и свойственную царям тоскливую одинокость, толкнувшую его впоследствии на розыск пусть отдаленнейшей, на микробном уровне, космической родни, которая почему-то никак не откликается на наши позывные. Не отсюда ли возникла дерзкая Матвеева догадка о вовсе невыносимом, герметически замкнутом одиночестве Демиурга, звездно взорвавшегося некогда блистательной россыпью миров?