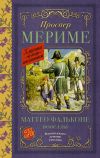Текст книги "На всемирном поприще. Петербург – Париж – Милан"

Автор книги: Лев Мечников
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
VII
Когда этот шумный и торжественный праздник прошел, Степан Васильевич был как будто удивлен, почувствовав себя снова охваченным пресною канителью ни к чему не приуроченной жизни. Он стал было усердно работать, чтобы наверстать потерянное время, но скоро убедился, что или судьба не создала его художником, или же время наше не таково, чтобы живой человек мог пробиваться всю свою жизнь одними только картинами.
Вскоре вспыхнувшее восстание в Черногории[79]79
В январе 1861 г. в Герцоговине вспыхнуло антитурецкое восстание, поддержанное в Черногории. Иван Прянишников, прототип Калачева, в самом деле тогда отправился в Черногорию, но вскоре вернулся в Италию.
[Закрыть], казалось, указывало ему исход. Со своими скудными денежными средствами он не без труда добрался до Цетинье, где встретил самый радушный прием. Старый Марко, дядя князя, хорошо говоривший по-русски, принял его под нарочитое свое покровительство. Драться его черногорцы, однако же, не пустили, говоря, что их война не чета итальянской.
– Не турчин, не пули страшны, – утешал его Марко, – с голоду, с жажды помрешь. Сколько дней не едал?
И когда Калачев, конфузясь, признался, что ему и двух дней порядком поголодать не случалось, старик снисходительно потрепал его по плечу; но на все его просьбы пустить его в горы отвечал решительным отказом.
Степан Васильевич написал плащаницу для церкви и портрет княгини Дарьи; объездил для князя арабского жеребчика и, отплатив таким образом за гостеприимство, возвратился домой, куда его вызывало письмо матери, извещавшее о тяжелой болезни отца.
Был он учителем, работал на заводе, – сначала просто слесарем, а потом, присмотревшись к делу, сделался управляющим; затем направился он в Петербург, где промытарствовал месяца два или три. А затем, пока еще позволяли накопленные на заводе средства, переплыл океан и очутился в Америке.
В Нью-Йорке он, почти не искавши, пристроился на заводе, который, однако, скоро обанкротился, благодаря наступившему кризису. Наш турист двинулся далее к западу. Трудовая жизнь с заботою о насущном хлебе мало оставляла времени для сомнений и размышлений. К тому же, его сильно интересовала эта страна, полная черноземных сил, но совсем не таких, как знакомые ему курские и тамбовские. Почти отвыкая слышать русскую речь, наш турист больше чем когда-нибудь душою жил в России. В самые трудные минуты его ободряла мысль, что это только временный искус, что здесь он научится практическому делу, разгадает роковую загадку… С этою надеждою он легко выносил и нужду, с которою близко спознался здесь не раз: приходилось с киркою работать в снегу, или ворочать вагоны целый день за кусок насущного хлеба… Случайная встреча с бывшим управляющим обанкротившегося завода доставила ему место разведчика при железной дороге, проводившейся через Техас.
Трудовая жизнь в степи, с короткими передышками в живописных городах с англо-мексиканскою физиономиею, пришлась ему по душе и прельщала его новизною. В то время как товарищи его вели отчаянные спекуляции, скупая на остатки своего небольшого жалованья участки придорожных земель, Степан Васильевич, довольный судьбою, работал с увлечением, а в свободное время рисовал окружавшие его дико-поэтические сцены, и, наконец, женился на миловидной бесприданнице, с которою познакомился во время зимовки в San Lucas.
Женатому жизнь в степи была уже не подстать, и Калачев охотно променял свое инженерное звание на представившееся место машинного рисовальщика в Нью-Йорке. Только здесь, очутившись в многолюдном городе, Степан Васильевич снова вспомнил, что на свои скитания в Америке он смотрел не как на пристань, а только как на выучку… Его стало тянуть назад, по ту сторону Атлантики: если не непременно в Россию, то, по крайней мере, поближе, куда долетают хоть отдаленные веянья родных краев…
Случайно выставленные им несколько акварелей из жизни в Техасе имели среди нью-йоркских любителей неожиданный успех. Они принесли нашему странствующему рыцарю личной независимости такой куш, о котором он даже не мечтал. Это дало возможность привести в исполнение заветную мечту о возвращении в Европу, тем более, что фирма, для которой он работал, предложила ему место ее корреспондента на время выставки.
В Париже, как и в Нью-Йорке, техасские акварели обратили на себя внимание, не столько искусством исполнения, сколько верностью чувства и поэтическим пониманием красот этой свое образной жизни…
VIII
Было уже около десяти часов, когда Михнеев явился, сопутствуемый Белостоцким.
Этот знаменитый артист, которого самые маленькие эскизы очаровывали даже незнатоков задушевным изяществом концепции, поэтическою красотою форм, – обладал самою плюгавою наружностью, которую еще более оттеняло нахальное неумение держать себя с людьми. Теперь же, вдобавок, он был покрыт, как лаком, сознанием чрезвычайно выгодного помещения, которое, при посредстве Михнеева, он только что нашел для кушей, получаемых им за украшение palazzo Лилиенкейм. Белостоцкий очень хорошо понимал, что дело это дурное и не стоит выеденного яйца; но он родился щукою, а не дремлющим карасем, и был твердо убежден, что сумеет отретироваться вовремя и что сливки достанутся все-таки ему.
Он тотчас же подошел к жене, гадко осклабился и, гнуся и сюсюкая, сказал:
– А, жиночка! соскучилась? А мы с Виктором Семеновичем ничего себе… обделали дельце.
– Дорогой, Степан… – говорил тем временем Михнеев, с чувством пожимая руку хозяина, – …извините, не знаю, как по батюшке, а по-русски без этого нельзя.
– Васильевич.
– Ну, вот видите: Степан Васильевич! и имя-то самое русское, а туда же – американский гражданина Эх, вы… – Он хотел сказать: «молодое поколение», но остановился, сообразив, что хозяину лет под сорок и что сам он немногим старше его.
– Ну, да у всякого свои убеждения. Я вот не держусь ваших убеждений, откровенно говорю. Я по всей Европе рыскаю, а в Швейцарии нога моя не была; потому – не люблю республиканской формы правления. Да не я один, а вот и Золя – этот уж далеко не ретроград, – а ведь тоже говорит: «для артистов нет правительства хуже республики»… Ну, а у вас там свои убеждения… Что ж? Не грызться же нам из-за этого.
– У вас, кажется, убеждение, что всюду надо опаздывать. Я уже думал, что Степан Васильевич всё усы себе выкрутит от нетерпения, – вставил Волков.
Он просто хотел щегольнуть своею интимностью с великим человеком и думал, что говорит приятную остроту.
– Я, точно, ждал вас с большим нетерпением, так как имею к вам очень интересное для меня дело. Вот, кстати, позвольте познакомить…
Молчаливый господин, сидевший в темном углу, при этом встал и подошел к разговаривающим.
Лампа осветила его своим ослепительным светом, и только тогда оказалось, что это еще очень молодой человек, с кроткими, вдумчивыми серыми глазами. В его лице не было ни кровинки, и он казался истощенным изнурительною болезнью.
– Мой двоюродный брат, Александр Михайлович Чебоксарский, – представил его хозяин.
– Очень, о-очень приятно. Давно пожаловали в наши края?
– Да, я здесь уже около двух недель.
– Из Петербурга?
– Да, я там и родился.
– Петербургский климат слабому человеку в осеннее время яд. Вы, кажется, нездоровы. Не грудь ли? Так для этого и здесь не хорошо. Вам бы в Ниццу или куда-нибудь дальше на юг.
– Куда нам! да я и не грудью… Катар внутренностей, говорят. Ничего почти есть не могу, кроме молока.
– Тсс… скажите! – проговорил Виктор Семенович с соболезнованием.
Юноша сел на рабочий табурет хозяина в своей старческой позе. Руки отвисли, как в изнеможении; сухие ноги вырисовывали какие-то острые, некрасивые углы.
Хозяин сказал полушепотом несколько слов Михнееву. Другие угадали или расслышали.
Взоры всех устремились вдруг на Чебоксарского с пристальным, недоброжелательным любопытством, словно на месте его вдруг оказался какой-нибудь редкостный и не совсем безопасный зверь.
– Любопытно, любопытно, – говорил Михнеев таким тоном, что всякому было ясно, что для него в этом новом знакомстве ни любопытного, ни приятного не предвидится ничего.
– Видите, – поспешил вмешаться хозяин, – мой двоюродный брат разработал проект нового электрического освещения. Я ведь сам немножко механик. Он мне всё подробно показывал. На мои глаза, кажется, хорошо. У него, само собою разумеется, ни средств, ни знакомств никаких.
– Что ж, время самое подходящее для крупного акционерного предприятия. На бирже застой полный. Капиталисты волками воют, не знают куда пристроить свои капиталы. – Проект, вы говорите, окончательно разработан с технической стороны?
– Даже до излишних тонкостей. Сидел я долго, и счастливо так случилось, что все нужные книги были со мною, а чертить и читать, спасибо, не мешали. Нового в моем проекте, во-первых, самое устройство фонаря, при котором совершенно устраняется перерывчатость света, как у Яблочкова. Но главное не то. Я думаю вздешевить световую единицу…
– Пожалуйста, не входите в технические подробности. Я должен вас предупредить, что не смыслю в них ни уха, ни рыла. Мое дело капиталистов найти.
– Да какие же это подробности? – удивленно спросил Чебоксарский, – ведь это коммерческая сущность дела. Весь вопрос электрического освещения сводится теперь к дешевизне, так чтоб конкуренция газом становилась невозможною. Яблочковская компания потому и лопнула, что газовое общество подрядилось поставлять городу равное количество световых единиц…
– Можете не трудиться и объяснять, почему лопнула Яблочковская компания. Je suis payé pour le savoir![80]80
Мне платят за знания! (фр.).
[Закрыть] Ха! Вы инженер!?
– Я учился полтора года в техническом училище, когда случилась эта история… Потом сидел… В это время я и разработал свой проект. С теоретической стороны всё безукоризненно. Это смело могу сказать, но только опытов не было возможности делать. Вопрос же о вздешевлении только и может считаться окончательно разрешенным после опытной проверки… Вы сами увидите…
– Что ж, и опытную проверку произведем. Суть всякого коммерческого дела – капиталистов найти. Прочее все, технические подробности там, опытные проверки – при деньгах это всё делается само собою. Можно видеть ваши чертежи?
Чебоксарский направился со свечою в темный угол мастерской и скоро вернулся с небольшим картоном, перевязанным накрест веревкою… Чертежи имели вид щегольской и мастерской. Тетради и листы с формулами и длинными рядами цифр выглядели внушительно. Михнеев рассматривал всё с большим вниманием.
– Мне нет дела, – сказал он, – до того, что адвокаты называют «дело по естеству». В этом я ровно ничего не смыслю. А форма ничего, хороша, показывать можно. Вы позволите мне взять с собою ваш проект?
– Конечно, с большим удовольствием.
– Позвольте кстати и адрес ваш записать.
Михнеев взял висевший на часовой цепочке золотой карандаш и стал в кармане искать записную книжечку.
– Да у меня и адреса никакого нет.
– Как это?
– Да очень просто: я ночую пока здесь, на диване, в мастерской Степана Васильевича.
– Хорошо. Так позвольте, какой нынче у нас день?
– Кажется, четверг; да четверг.
– Ну-с, так в будущий четверг, ровно через неделю наведайтесь ко мне, утром рано, так к одиннадцати часам. Кстати, позавтракаете со мною, запросто, без приглашения. Только когда звонить будете, дерните колокольчик так: раз, потом два раза скоро один за другим. Так: динь и динь-динь…
Виктор Семенович сделал пояснительный жест рукою.
– Без этого вам не отопрут. Когда войдете, не спрашивайте, дома ли? Я наверное буду дома. Спросите прямо: monsieur Victor, а то Жоржетка вас выпроводит: это тоже mot de passe[81]81
Пароль (фр.).
[Закрыть]. В нашем положении без этого нельзя: ни минуты не было бы покоя. Надеюсь, через неделю уж буду в состоянии дать вам какой-нибудь ответ, а теперь могу только обещать, что не оставлю ваше дело без внимания.
IX
Гости не засиделись долго. Присутствие Чебоксарского сковало каким-то льдом даже добродушную словоохотливость Виктора Семеновича. Хозяин пошел их провожать, чтобы посмотреть нового рысака Михнеева. К тому же он чувствовал потребность освежиться, пройтись.
Вскоре в мастерской не осталось никого, кроме молодой американки и Чебоксарского. Она наскоро прибрала беспорядок, оставленный гостями. Он молча сел на свой диван в обычной своей старческой, утомленной позе.
– Какое же на вас впечатление произвел этот господин? – с участием спросила она его.
– А на вас?
– Не знаю, право, что и сказать. Вы, русские, такой мудреный народ. Впрочем, мне кажется, что он не дурной человек, и Stepan преувеличивает к нему свою антипатию. А для дел – это все говорят – лучше и нельзя найти monsieur Михнеева.
– Мне-то ведь и искать негде, да не всё ли равно, тот или другой?
– Конечно. Здесь у всех людей, которые делают дела, непременно есть что-то неприятное. – Скажите, вы будете ей писать?
– Непременно, сегодня же.
– Бедная женщина! Какою длинною покажется ей эта неделя!
– Едва ли длиннее предыдущих ста двух…
Американка с участием глядела на него несколько секунд, потом вздохнула и, с чувством пожав ему руку крошечною своею рукою, ушла в свою комнату и стала ложиться спать.
Оставшись один, Чебоксарский сел к столу и принялся писать длинное письмо, то безостановочно исписывая целую страницу, то останавливаясь и долго просиживая в раздумье.
Он не заметил, когда Калачев вернулся и остановился у портьеры из веревочного ковра, заменявшей входную дверь в мастерскую. Калачев долго и пристально вглядывался в лицо своего двоюродного брата, с которым он познакомился в первый раз в Париже, всего две недели тому назад. Рассматривал он его не столько с родственным интересом, сколько с вниманием наблюдателя, видевшего немало на своем веку. Вспомнил он и свою собственную молодость… И странно: глядя на это бледное лицо с темно-русыми волосами, нависшими над прямым лбом и окаймленное темноватою бородкою, – лицо, похожее на сотни хорошо знакомых ему лиц, он в первый раз понял жизненный смысл выражения, которое сам повторял двадцать раз и от других слыхал еще чаще: «поколение шестидесятых годов» и «нынешнее молодое поколение». Он доискивался, в чем же тут разница?..
Ему показалось, что он легко мог бы нарисовать одно и то же лицо с выражением шестидесятых годов и с тем, которое видел теперь на лице Чебоксарского; но словами выразить эту разницу, хоть бы только для самого себя понятным образом, он не сумел. И порешив, что над этим надо подумать, пошел в комнату жены, откуда раздавались мерные и частые удары хвостом о ночной стол ласкавшегося у кровати, довольного своею прогулкою, сеттера.
Уже раздеваясь, Степан Васильевич подумал про себя:
«Мне постоянно казалось, что выражение, которое встречаешь на лицах аскетов и монахов у старых итальянских и испанских мастеров, неестественно. Я прежде никогда на живом лице его не видал. А вот, если бы нарисовать лицо Чебоксарского совсем таким, как он теперь сидит там, то, пожалуй, вышло бы что-нибудь очень похожее»…
X
Отправившись по адресу письма Чебоксарского, мы очутились бы в одном из маленьких городов на французской границе. Он раскинулся подле большого озера, на обоих берегах узкой, но быстрой реки, которая, в самом центре его, с оглушительным шумом катит свои изумрудные волны. Его небольшие и, в архитектурном отношении, вовсе непримечательные здания тонут в зелени каштанов и плакучих ив, образующих на каждом шагу чрезвычайно красивые сочетания с подстриженными чинарами, елями и соснами самых разнообразных пород и видов. С двух сторон его опоясывают горы: на севере – ровная, сплошная цепь Юры, то дымчатая, исчезающая в сизом утреннем тумане, то темно-синяя, с яркою снежною каймою. На юге – причудливая стена альпийских островов. Когда осветится она лучами заходящего солнца, то раскинувшиеся по крутым ее склонам рощи кажутся бархатом, а голые известковистые прогалины горят червонным золотом.
Почтальон с письмом, за которым мы следуем, направляется в южный конец города, к большому зданию, стоящему в некотором отдалении, среди обширного пустыря. Трехэтажный дом за каменною оградою с чугунною решеткою, расположенный в виде буквы п, выстроен из серого камня, в простом флорентийском стиле, без колонн, портиков и других орнаментов и прикрас. Надпись над главным входом гласит, что это государственная лечебница.
Почтальон входит в большую, светлую комнату нижнего этажа, всё убранство которой состоит из огромного письменного стола со множеством ящиков, из кожаного дивана и нескольких стульев и кресел. Это – контора, служащая преддверием в директорский кабинет. Лысый пожилой эконом, заложив за ухо перо и грызя во рту окурок дешевой сигары, второпях принимает целую пачку писем, сортирует их наскоро и возвращается к прерванному занятию, водя пальцем по страницам и графам толстой счетной книги. Седой конторщик в ермолке, на противоположном конце стола, провозглашает одни за другим длинные ряды цифр по целой груде счетов, маленьких записных книг и заметок… Сегодня суббота, самый тяжелый для него день, когда производятся расчеты за целую неделю. Надо пользоваться утренним временем, когда доктора обходят палаты, когда всё больничное население занято, и ничто не отрывает конторщика от наскучивших ему цифр…
Но вот на лестнице и в сенях усиленное движение. Доктора расходятся один за другим. Interne'ы, только что получившие докторский диплом студенты, остающиеся для практических занятий на два года на службе при госпитале, бегут вдогонку за ними, испрашивая дополнительных пояснений и инструкций. Фельдшера и сиделки разбегаются по всем направлениям… Конторщик закрывает толстую книгу, так как теперь ему не до цифр.
XI
В числе множества других посетителей, в контору торопливо входит молодой человек с коротко остриженными щеткою волосами и бородою. Поверх поношенного коричневого пальто, на нем надет белый передник с помочами, измятый и испачканный. На нем легко замечаются коричневатые пятна крови. Присев на стул с взволнованным и утомленным видом, он торопливо начинает крутить папироску…
– Bonjour, Frochart, – говорит ему конторщик, рассчитывающий в это время одного из больничных сторожей и подавая молодому interne'у свой зажженный сигарный окурок.
– Что же, сделали операцию? – спрашивает он его в промежутке, когда рассчитанный сторож ушел, и место его еще не занял новый посетитель.
Фрошар отвечал утвердительным кивком.
– Благополучно?
– Oui, mon ami! – заговорил Фрошар с сильным южным выговором и с энергическою жестикуляциею. – Наш Куртальо истинный чародей. Это не хирург, а артист, ваятель. У меня дух замирал. Дело нешуточное: боялись, что тут же под ножом и умрет. Женщина анемичная, измученная. А он этак ловко… – Фрошар сделал рукою пояснительный жест… – Я не мог не любоваться на него. Какая рука!
Разговор прервали пришедшие для расчета несколько сиделок. Это были по большей части дюжие крестьянки, принимавшие места в больнице только в таких случаях, если им не удавалось поместиться в одном из многочисленных отелей, где заработок значительно больше, благодаря наводкам от проезжающих; а самая служба легче и более сообразна с их вкусами и привычками. Эконом заметил одной из них, белобрысой и дебелой Берте Дик, что больные жалуются на ее грубое обхождение. Другая, Фрида Циммерли, накануне вернулась навеселе и неприлично вела себя в столовой. Эконом делал им обеим внушение в отборных выражениях, называя почтительно каждую: «мадам», и говоря, что, если бы это повторилось, то он, к прискорбию, должен бы был отказать им от места.
Отпустив их, он снова стал расспрашивать Фрошара о подробностях тяжелой операции, которая только что была сделана искусным хирургом Куртальо в женском отделении больницы.
– Теперь уже острой опасности нет, – говорит Фрошар, – но необходима большая осторожность. Куртальо велел усиленно наблюдать, чтобы предупредить сильные истечения крови. С другою бы ничего, а эта замечательно истощенный субъект. Да и неудивительно: ведь они только кофеем да кашицами разными питаются. Интересно также, какой ход примет воспаление. С анемичными, знаете, в этом отношении беда: как бутылка, где чуточка вина осталась на дне. В какую сторону наклонишь, туда всё и польется. Я именно пришел вас просить: ей необходимо толковую и порядочную сиделку.
– Кто с нею теперь?
– Элиза Бреф; да она сама, я думаю, сляжет у нас сегодня. Вторую ночь не спала, а тут еще эта операция. Знаете, это проклятое женское любопытство! Я уже видел, что она не в своей тарелке; всячески старался удалить ее от кушетки, а она уперлась на своем… Теперь сидит бледная как полотно, и зубы во рту стучат. Не то чтоб больной помочь, а за нею же придется ухаживать.
– Это досадно. Элиза у нас из лучших, и я не знаю, кого вам дать вместо нее. Мадам Баше в детской палате, и ее нельзя оттуда вывести: там теперь много выздоравливающих. Такой поднимут содом, что без мадам Баше с ними никто не справится. Остается русская…
– Ну и чего же лучше?
– Да у нее сегодня выходной день. Она уж и на прошлой неделе не выходила: сидела тогда с этою тифозною, которая во вторник умерла.
– Да ведь тут речь идет о жизни этой несчастной женщины. Я знаю мадам Liouba: она добрая; она и сегодня от выхода откажется. Я ей всё это объясню. Что же делать! Такой случай! И операция сама по себе интересная, и ваши толстые бернуазки[82]82
Жительницы Берна.
[Закрыть] непременно уморят пациентку.
Эконом позвонил и велел сказать madame Liouba, которая теперь в 39 №, что он имеет к ней дело и чтобы она в свободную минуту зашла в контору.
Вскоре вошла невысокого роста и некрепкого на вид сложения блондинка, казавшаяся почти девочкою, хотя ей было уже за двадцать лет. По ее миловидному, но неправильному лицу, несколько широкому, с вздернутым носиком и уходящим назад подбородком, ее легко было признать за русскую. Труднее было угадать в ее временном французском прозвище madame Liouba ее настоящее имя: Любовь Владимировна Чреповицкая. Не желая подвергать больничных администраторов и пациентов ежечасной пытке бесплодных усилий произнести это иностранное имя, она назвалась просто Люба, как звали ее родные и немногие друзья. Это чисто русское уменьшительное преобразовалось само собою в madame Liouba, благодаря требованиям французской вежливости и интонации.
– Здравствуйте, – приветствовала она эконома и Фрошара, пожимая им по-приятельски руки, – вы меня звали, а я и сама собиралась к вам идти, так как в одиннадцать часов я хочу ехать в деревню.
Эконом отсчитывал следуемые ей за неделю деньги.
– Вам есть письмо.
Она на конверте узнала руку Чебоксарского и засунула письмо за свой белый форменный фартук.
– Послушайте, – сказал Фрошар, – я вас очень убедительно прошу: не ездите сегодня в деревню.
– Что это вы выдумали! Я и так уже вторую неделю не вижу свою малютку. Прошлое воскресенье я осталась при трудной больной, и мы тогда уже условились, что на этой неделе я буду свободна кряду два дня: с субботы одиннадцати часов до воскресенья вечера.
В ее воображении так ярко нарисовалась идиллическая картина этих двух дней, проведенных в савойской деревушке, в крестьянской избе, где живет ее крошка, которую она в течение целого года видала только в неделю раз, урывками, на два часа. Она целую неделю мечтала об этом празднике, которому роскошный, солнечный и теплый день, какие нечасто случаются в это позднее время осени, обещал придать особенную прелесть. Она так устала от этой больничной обстановки, которая живо напоминала ей страдания умершей недавно на ее руках больной… Во что бы то ни стало, ей необходимо освежиться.
Фрошар стал упрашивать ее со всем жаром и красноречием южанина. Женщина, – ни он, ни она не знают ее имени, но ведь это всё равно, – непременно умрет от грубого обхождения вульгарной сиделки. Он, не боясь вступать даже в технические подробности, распространился о трудной операции, которой вполне благополучный исход, далеко еще не обеспеченный, представляет такой интерес для науки. Жаль, что старик Куртальо уехал полчаса тому назад: он сам стал бы на колени перед madame Liouba… С другою бы он, Фрошар, не стал бы и говорить. Понятное дело, не легко отдежурить две недели подряд в госпитале, когда тебя, как будто нарочно, приставляют к самым трудным больным, требующим особенно заботливого ухода. К тому же и материнские чувства… «Moi je m'en fiche pas mal[83]83
Не знаю, что поделать (фр.).
[Закрыть]! Потому что я и вообще по части чувств не ходок. Для меня la science et les femmes: rien que ça[84]84
Наука и женщины: нет ничего, кроме этого (фр.).
[Закрыть]! Прочее всё вздор. Но материнские чувства… Надо быть чудовищем, чтобы не уважать этих чувств. Однако, подумайте. Ваш moutard[85]85
Малыш (фр.).
[Закрыть], конечно, он должен быть очень мил, но через неделю вы найдете его еще немножко милее. А эту женщину, может быть, будут потрошить в анатомическом амфитеатре, когда ваш moutard состарится на одну неделю…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?