Текст книги "Апофеоз беспочвенности"
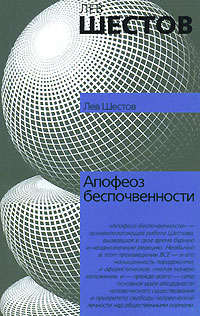
Автор книги: Лев Шестов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Часть первая
1
Дальние улицы жизни не представляют тех удобств, которыми привыкли пользоваться обитатели городских центров. Нет электрического и газового освещения, даже керосиновых фонарей, нет мостовых – путнику приходится идти наугад и в темноте ощупывать дорогу. Если хочешь огня, нужно ждать молнии, либо самому добыть искру тем первобытным способом, какой существовал у наших отдаленных предков: выбить ее из камня. При мгновенном свете вдруг из темноты выступят очертания незнакомых мест: что увидел в одно мгновение – старайся удержать в памяти, ошибочно или правильно было твое впечатление. Второй раз не скоро удастся добыть свет – разве ушибешься лбом о стену и из глаз искры посыпятся. Что можно при таком свете увидеть? И как можно требовать отчетливости и ясности в суждениях от тех людей, которых любознательность (будем думать, что любознательность достаточно в нас сильна) осудила странствовать по окраинам жизни? И как можно их дело приравнивать к делу обитателей центров?
2
Закономерность явлений природы считается чем-то столь понятным, само собой разумеющимся, что находят возможным искать ее корни не в реальности действительной жизни, а в характере нашего разума. На самом деле, закономерность явлений природы – самое загадочное из всего того, что нам приходится наблюдать в жизни. Откуда порядок? Почему порядок, а не хаос и беспорядочность? И если бы гипотеза закономерности не приносила с собой столько практических выгод, люди никогда бы не соблазнились возводить ее в сан вечной и непререкаемой истины. Но благодаря ей, оказалось возможным предвидение, savoir pour prévoir,[10]10
Знать, чтобы предвидеть (фр.).
[Закрыть] a вместе с тем господство над природой, и философы, всегда преклонявшиеся пред успехом, стали наперерыв заискивать у нее и первым делом предложили ей высший титул, каким они располагали – титул вечной истины. Но и этого ей показалось мало: l'appétit vient en mangeant.[11]11
Аппетит приходит во время еды (фр.).
[Закрыть] Как старуха в сказке о золотой рыбке, причинность захотела, чтоб сама рыбка была у нее на посылках… Этого уже кой-кто не стерпел – но только кой-кто…
3
Оседлый человек говорит: «Как можно жить без уверенности в завтрашнем дне, как можно ночевать без крова!» Но вот случай навсегда выгнал его из дома, – и он ночует в лесу. Не спится ему: он боится дикого зверя, боится своего же брата, бродяги. Но, в конце концов, он все-таки вверится случаю, начнет жить бродягой и даже, может быть, спать по ночам.
4
Писатель, особенно молодой и неопытный писатель, воображает, что он обязан дать своему читателю самые полные ответы на всевозможные вопросы. И так как добросовестность обыкновенно мешает ему закрывать глаза и игнорировать наиболее мучительные сомнения, то он волей-неволей начинает трактовать о «первых и последних вещах». И не умея сказать на эти темы ничего путного – не молодое это дело вмешиваться в философские споры, – он начинает горячиться и кричать до хрипоты, до изнеможения. Накричавшись досыта, он устает и умолкает, и потом, если его слова имели успех у публики, сам удивляется, как это ему удалось так легко сделаться пророком. В душе посредственного человека рождается при этом только желание до конца дней своих сохранить свое влияние на людей. Более же чуткие и даровитые натуры начинают презирать и толпу, не умеющую отличать крикунов от пророков, и самих себя за то, что хоть раз в жизни глупая и позорная роль паяца высоких идей могла соблазнить их.
5
Как тяжело читать рассказы Платона о предсмертных беседах Сократа! Его дни, часы уже сочтены, а он говорит, говорит, говорит… Критон приходит к нему чуть свет и сообщает, что священные корабли не сегодня-завтра вернутся в Афины: Сократ сейчас же готов разговаривать, доказывать… Правда, может быть, не совсем следует доверять Платону. Передают, что Сократ по поводу записанных Платоном диалогов своих заметил: «Сколько этот юноша налгал на меня». Но ведь все источники согласно показывают, что месяц после своего осуждения Сократ провел в непрерывных беседах со своими учениками и друзьями. Вот что значит быть любимым и иметь учеников! Даже умереть спокойно не дадут… Самая лучшая смерть это та, которая почитается самой худшей: когда никого нет при человеке – умереть далеко на чужбине, в больнице, что называется, как собака под забором. По крайней мере в последние минуты жизни можно не лицемерить, не учить, а помолчать: приготовиться к страшному, а может быть, и к великому событию. Паскаль, как передает его сестра, тоже много говорил перед смертью, а Мюссе плакал, как ребенок. Может быть, Сократ и Паскаль оттого так много говорили, что боялись разрыдаться? Ложный стыд!
6
Бесполезность и ненужность какой-нибудь мысли или даже целого ряда, системы мыслей не может служить достаточным основанием, чтобы отвергнуть их. Раз мысль явилась – открывай ворота. Ибо если ты закроешь ей легальный вход, она ворвется силой или, как крыловская муха, проползет тайком: мысль не считается с законами чести и морали. Пример: реализм в литературе. При своем появлении он вызвал всеобщее негодование. Зачем нам знать грязь жизни? И точно – незачем; реализм не умел честно оправдать себя. Но так как пройти ему все-таки нужно было, то он, не задумываясь, солгал: сравнил себя с патологией, назвался полезным – и добился господства в литературе. Теперь уже все видят, что реализм бесполезен, даже вреден, очень вреден и ничего общего с патологией не имеет, но согнать его с насиженного места не так легко. Давность прошла, и есть justus titulus[12]12
Законное основание (лат.).
[Закрыть] владения.
7
Граф Толстой проповедует неделание… Но, кажется, тут он старается без всякой нужды. Мы в достаточной мере «не делаем». Праздность и именно та праздность, о которой мечтает гр. Толстой, вольная, сознательная, презирающая всякий труд праздность есть характернейшая черта нашего времени, – разумеется, я говорю о высших, обеспеченных классах общества, об аристократии духа, к которой преимущественно и обращается со своим словом гр. Толстой. Мы «пишем книги, рисуем картины, сочиняем симфонии» – но разве это труд? Это только видимость труда, развлечение от праздности, так что гр. Толстой гораздо правее, когда, забывая проповедь неделания, он начинает требовать от нас, чтобы мы по крайней мере часов 8 в день ходили за плугом. Это требование имеет смысл. Праздность портит нас. Мы возвращаемся к первобытнейшему состоянию наших предков, Адама и Евы, и, не имея нужды в поте лица заботиться о дневном пропитании, все норовим рвать плоды с запретных деревьев. И, разумеется, несем соответственное наказание. Божеские законы неизменны: в раю разрешается все, кроме любознательности, – даже труд, хоть там он не обязателен, так как предназначается, собственно, для изгнанников из рая. Гр. Толстой это понял: о неделании он заговорил только на минуту – и стал трудиться. Ибо в правильном, постоянном, ровном, ритмическом труде, производителен ли он, или только кажется производительным, как у гр. Толстого его хлебопашество, залог душевного мира. Примером тому могут служить немцы, которые не только начинают, но и кончают день благословением. В раю же, где нет труда и, соответственно этому, нет потребности в послетрудовом отдыхе и долгом сне, все соблазны становятся заманчивыми. Там опасно жить… Может быть, современные праздные люди предугадывают райское состояние? Там, где не будет труда, не будет правильности, ровности, спокойствия, удовлетворения. Там нельзя будет предвидеть даже знающему, там savoir pour prévoir никому не будет нужно, там наша наука будет предметом насмешек? Уже и теперь ей многие, разумеется, из нетрудящихся, праздных людей – удивляются. Но многие, преимущественно немцы, еще защищают априорные суждения на том основании, что без них невозможна современная наука, правильная смена явлений и предвидение…
8
Для того чтобы вырваться из власти современных идей, рекомендуется знакомиться с историей: жизнь иных народов, в иных странах и в иные времена научает нас понимать, что считающиеся у нас вечными идеи суть только наши заблуждения. Еще один шаг: нужно представить себе человечество живущим не на земле, и все земные вечные идеи потеряют свое обаяние.
9
Мы не можем ничего знать о последних вопросах нашего существования и ничего о них знать не будем: это – дело решенное. Но отсюда вовсе не следует, что каждый человек обязан принять как modus vivendi[13]13
Образ жизни (лат.)
[Закрыть] какое бы то ни было из существующих догматических учений или даже имеющий такой скептический вид позитивизм. Отсюда только следует, что человек волен так же часто менять свое «мировоззрение», как ботинки или перчатки, и что прочность убеждения нужно сохранять лишь в сношениях с другими людьми, которым ведь необходимо знать, в каких случаях и в какой мере они могут на нас рассчитывать. И потому «как принцип» – уважение к порядку извне и полнейший внутренний хаос. Ну, а для тех, кому трудно выносить такую двойственность, можно учреждать порядок и внутри себя. Только не гордиться этим, а всегда помнить, что в этом сказывается человеческая слабость, ограниченность, тяжесть.
10
Уже пифагорейцы предполагали, что солнце неподвижно и что земля движется. Как долго пришлось истине ждать своего подтверждения!
11
Вопреки Эпикуру и его негодованию, мы, в конце концов, принуждены сказать себе, что все, что угодно, может произойти из всего, чего угодно. Это не значит, что и в самом деле камень когда-либо обращался в хлеб или что из туманных пятен мог «естественно» возникнуть видимый мир. Но мы в своем уме и в своем опыте не находим решительно ничего, что бы давало нам основание хоть сколько-нибудь ограничивать произвол в природе. Если бы действительность была иной, чем теперь, она бы оттого не стала нам казаться менее естественной. Иными словами: может быть, в человеческих суждениях о явлениях есть элементы и необходимые, и случайные, но, несмотря на все попытки, мы до сих пор не нашли и, по-видимому, никогда не найдем способа отделять первые от последних. Сверх того, мы не знаем, какие из них более существенны и важны. Отсюда вывод: философия должна бросить попытки отыскания veritates æternæ.[14]14
Вечные истины (лат.).
[Закрыть] Ее задача научить человека жить в неизвестности – того человека, который больше всего боится неизвестности и прячется от нее за разными догматами. Короче: задача философии не успокаивать, а смущать людей.
12
Когда человек замечает в себе какой-нибудь недостаток, от которого он никакими способами не может избавиться, – ему ничего больше не остается, как объявить этот недостаток качеством. И чем серьезнее и значительнее недостаток, тем настоятельнее сказывается потребность облагородить его. От смешного до великого тоже только один шаг, и неискоренимый порок у сильных людей всегда переименовывается в добродетель.
13
Метафизика, в сущности, мало чем отличается от позитивизма. И тут, и там – закрытые горизонты, только иначе разрисованные и раскрашенные. Позитивизм любит серую бесцветную краску и простой, ординарный рисунок; метафизика предпочитает светлые, блестящие краски, сложный узор и всегда разрисовывает свое полотно под бесконечность, что, при знании законов перспективы, ей нередко удается. Но полотно ее достаточно прочно, и через него никакими ухищрениями не пробраться в «иной мир». Тем не менее, художественные перспективы сами по себе очень заманчивы, так что все-таки у метафизиков есть из-за чего ссориться с позитивистами.
14
Задача писателя: идти вперед и делиться с читателями своими новыми впечатлениями. Так что в сущности, вопреки принятому мнению, он совсем и не обязан доказывать что-либо. Но ввиду того, что по пути к нему пристают всякого рода полицейские агенты – вроде морали, логики, науки и т. п., – нужно иметь всегда наготове известного рода аргументацию, чтоб отвязаться от назойливых охранителей. Причем о качестве аргументации можно и не слишком заботиться. Ведь нет никакой надобности быть «внутренне правым». Вполне достаточно, если заготовленные соображения покажутся убедительными тем, которые поставлены охранять пути.
15
Тайна «внутренней гармонии» Пушкина. – Для Пушкина не было ничего безнадежно дурного. Даже больше: все было для него пригодным. Хорошо согрешить, хорошо и раскаяться. Хорошо сомневаться – еще лучше верить. Весело, «обув железом ноги», мчаться по льду, уйти побродить с цыганами, помолиться в храме, поссориться с другом, помириться с врагом, упиться гармонией, облиться слезами над вымыслом, вспомнить о прошлом, заглянуть в будущее. Пушкин умел плакать, а кто умеет плакать, тот умеет и надеяться. «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», – говорит он, и кажется, что слово «страдать», так украсившее стихотворение, появилось случайно, ввиду того, что не нашлось более подходящей рифмы к слову «умирать». Дальнейшие стихи, предназначенные объяснить слова «мыслить и страдать», служат тому доказательством. Пушкин мог бы повторить за древним героем: «Опасность опасна для других, а не для меня». В этом тайна его гармонических настроений.
16
Нужно взрыть убитое и утоптанное поле современной мысли. Потому во всем, на каждом шагу, при случае и без всякого случая, основательно и неосновательно следует осмеивать наиболее принятые суждения и высказывать парадоксы. А там – видно будет.
17
Что такое мировоззрение? – Как известно, Тургенев был реалистом и с первых же своих произведений стремился возможно правдиво изображать жизнь. Хотя у нас не было настоящих теоретиков реализма, но после Пушкина русскому писателю нельзя было слишком далеко уноситься от жизни. Даже тем, кто решительно не знал, что можно сделать из «действительности», приходилось говорить о ней и только о ней. Для того же, чтоб впечатление от нарисованных картин не было слишком тягостным – писатель старался припасти заблаговременно мировоззрение, которое в литературе еще до сих пор играет роль волшебного жезла: с его помощью все, что угодно, может обратиться во все, что угодно.
Большинство тургеневских произведений в этом смысле чрезвычайно любопытны. Но особенно интересным представляется «дневник лишнего человека». Тургенев впервые ввел в русскую литературу выражение «лишний человек». Потом о лишних людях говорили много, бесконечно много, хотя и до настоящего времени так же мало до чего договорились, как и пятьдесят лет тому назад. Лишние люди есть – и сколько еще, а что с ними делать – неизвестно. Остается одно: изобретать по поводу них мировоззрения. В 1850 году Тургенев, тогда еще молодой человек, так именно и разрешил представившуюся ему задачу. Свой рассказ он заканчивает юмористической припиской от имени неизвестного читателя рукописи:
Сею рукопись читал
И содержание Онной не одобрил
Петр Зудотешин
M M M M
Милостивый Государь
Петр Зудотешин
Милостивый Государь Мой.
Очевидное дело, Тургенев держался того мнения, что за каждой трагедией должен следовать водевиль, и что в этом сущность мировоззрения. Не менее очевидно, что в своем суждении Тургенев не стоит одиноко, а имеет за собой всю европейскую цивилизацию. Тургенев был образованнейшим, культурнейшим из русских писателей. Почтии всю жизнь свою он провел за границей и впитал в себя все, что могло дать западное просвещение. Он сам это знал, хотя по свойственной ему преувеличенной скромности, иногда даже раздражающей своей демонстративностью, никогда об этом прямо не говорил. Он глубоко верил, что только знание, т. е. европейская наука, может открыть человеку глаза на жизнь и объяснить все, требующее объяснения. С этим критериумом он подходит и к гр. Толстому: «Самый печальный пример отсутствия истинной свободы, – пишет уже почти 60-летний Тургенев в своих литературных воспоминаниях, – отсутствия истинной свободы, проистекающего от отсутствия истинного знания, представляет нам последнее произведение графа Л. Н. Толстого („Война и Мир“), которое в то же время по силе творческого, поэтического дара стоит едва ли не во главе всего, что появилось в нашей литературе с 1840 г. Нет! Без образования, без свободы в обширнейшем смысле – в отношении к самому себе, к своим предвзятым идеям, даже к своему народу, к своей истории – немыслим истинный художник; без этого воздуха дышать нельзя». Послушать Тургенева – и в самом деле подумаешь, что он добыл на Западе великую тайну, дававшую ему право бодро и спокойно держаться в тех случаях, когда другие люди приходят в отчаяние и теряют голову… Через год после того, как были написаны литературные воспоминания, из которых взяты мною вышеприведенные строки о Толстом и образовании, Тургеневу пришлось лично присутствовать при казни знаменитого когда-то убийцы Тропмана. Свои впечатления он бесподобно передает в большой статье, называющейся «Казнь Тропмана». Статья производит потрясающее действие – мне кажется, я не преувеличу, если скажу, что это одна из лучших, по крайней мере, сильнейших его вещей. Правда, гр. Толстому удалось с неменьшей же силой описать сцены на бойне, так что, может быть, читателю, имея это ввиду, не следует слишком отдаваться во власть художнику. Но все-таки, когда Тургенев рассказывает, что в решительный момент, когда палачи, точно пауки на муху, набросились на Тропмана и повалили его, когда он рассказывает, что в этот момент у него «земля тихо поплыла под ногами» – не верить ему нельзя. Люди мало умеют отзываться на происходящие вокруг них ужасы, но бывают минуты, когда дикая, вопиющая несообразность и обидность нашего положения вдруг предстает пред нами с неотразимой ясностью и заставляет нас смотреть на себя. И тогда почва уходит из-под наших ног. Но ненадолго. Ужас от чувства беспочвенности быстро отрезвляет человека. Забыть все – только бы вернуться к родной земле! Тургенев, 60-летний старик, оказался в этом смысле столь же пугливым, как и в молодые годы, когда писал свой «дневник лишнего человека». Описание казни Тропмана он заканчивает следующими словами: «Кому неизвестно, что вопрос о смертной казни есть один из очередных, неотлагаемых вопросов, над разрешением которых трудится современное человечество? Я буду доволен… если рассказ мой доставит хоть несколько аргументов защитникам отмены смертной казни или, по крайней мере, отмены ее публичности». Снова гора родила мышь! После трагедии дается водевиль, мировоззрение вступает в свои права, и почва возвращается под ноги. Повторяю и подчеркиваю: Тургенев не является единственно ответственным лицом за свои суждения. Его устами говорит вся европейская цивилизация. Она принципиально отвергает всякого рода неразрешимые вопросы и выработала своим тысячелетним опытом приемы, посредством которых человек научается извлекать пользу из всего, даже из крови своего ближнего. Словом «польза» объясняются какие угодно ужасы и даже преступления. А Тургенев был, как известно, мягким, «гуманным» человеком и несомненным идеалистом: в молодости он даже прошел школу Гегеля. От Гегеля узнал, какое громадное значение имеет образование и как необходимо образованному человеку иметь полное и законченное, непременно законченное, «мировоззрение».
18
Хвалить самого себя считается предосудительной нескромностью, хвалить свою партию, свою философию, свое миросозерцание – почитается чуть ли не. высшим долгом. И даже лучшие писатели по крайней мере столько же заботились о прославлении своего миросозерцания, сколько об его «обосновании» – причем в первом деле всегда успевали больше, чем во втором. Доказаны или не доказаны их идеи – они самое нужное, что бывает в жизни: в горе они утешительницы, в трудном положении – умные соответчицы. С ними и умирать не страшно – они пойдут и за могилу с человеком в качестве единственного на земле нетленного богатства. Все это философы говорили о своих идеях – и очень красноречиво говорили, не хуже, чем адвокаты о своих клиентах, ворах и мошенниках. А между тем о философах еще никто ни разу не сказал: нанятая совесть. Почему?
19
Некоторые дикари верят, что их цари не нуждаются в пище и никогда ничего не едят и не пьют. На самом деле, цари едят и пьют, и даже любят поесть и попить больше, чем обыкновенные смертные, так что им не хочется даже ради приличия слишком долго воздерживаться, и они нередко прерывают затянувшиеся религиозные церемонии, чтоб подкрепить свое бренное тело. Но этого никто не должен видеть, об этом никто не должен знать, и потому царя каждый раз, когда ему захочется есть, закрывают от глаз народа пурпуровым покрывалом. Метафизики напоминают мне этих диких царей. Они хотят, чтоб все думали, что эмпиризм, т. е. вся действительность, для них не существует, что им нужны одни только чистые идеи. И чтоб поддержать эту фикцию, они являются на люди не иначе, как облаченные в пурпур высоких слов. Толпа отлично знает, что ее обманывают, но так как ей нравятся пышные зрелища и яркие цвета, с одной стороны, а с другой, у ней мало тщеславия и желания прослыть проницательной, то она редко показывает, что понимает смысл комедии. Наоборот, она охотно прикидывается одураченной, чуя инстинктом, что актеры тем старательней исполняют свои роли, чем прочней в них живет убеждение, что их игра принимается за серьезное и настоящее дело. Только неопытные юноши и дети, не понимающие всего великого значения условности в этом мире, от времени до времени начинают с негодованием стыдить и обличать актеров – подобно ребенку в известной андерсеновской сказке, так неожиданно и некстати разрушившему всеобщую добровольную иллюзию своим криком «да король ведь гол». Ведь и без него все знали, что король гол, что метафизики не только не умеют ничего объяснить, но до сих пор не придумали ни одной свободной от противоречия гипотезы. Но говорить об этом вслух не полагается. Нужно верить, что цари дикарей ничего не едят, что философы проникли в тайны мира, что идеи ценней эмпирических благ и т. д., и т. д. Остается вопрос: взрослых можно склонить к условной лжи, но как быть с детьми? Тут единственное средство – столь прославленная Гегелем пифагорейская система воспитания. Дети до тех пор должны молчать и не возвышать голоса, пока не поймут, что не обо всем можно говорить. У нас так и практикуется. У нас ученики молчат, долго молчат, не пять лет, как того требовали пифагорейцы, а десять и более – до тех пор, пока не научатся говорить, как их учителя. Потом им предоставляется свобода, которой они не хотят, да и не умеют уже воспользоваться. Может быть, у них и были или по крайней мере могли вырасти крылья, но они всю жизнь свою, подражая учителям, ползали по земле – где уж им теперь мечтать о полете! Культурного, много учившегося человека мысль о возможности оторваться хотя бы на мгновение от земли приводит в ужас – как будто бы ему было заранее известно, к каким это приведет результатам.









































