Текст книги "Полное собрание сочинений. Том 18. Анна Каренина"
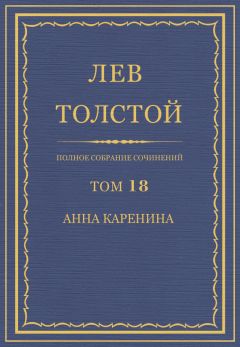
Автор книги: Лев Толстой
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 43 страниц)
Дом был большой, старинный, и Левин, хотя жил один, но топил и занимал весь дом. Он знал, что это было глупо, знал, что это даже нехорошо и противно его теперешним новым планам, но дом этот был целый мир для Левина. Это был мир, в котором жили и умерли его отец и мать. Они жили тою жизнью, которая для Левина казалась идеалом всякого совершенства и которую он мечтал возобновить с своею женой, с своею семьей.
Левин едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него священным воспоминанием; и будущая жена его должна была быть в его воображении повторением того прелестного, святого идеала женщины, каким была для него мать.
Любовь к женщине он не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел; для Левина это было главным делом жизни, от которогo зависело всё ее счастье. И теперь от этого нужно было отказаться!
Когда он вошел в маленькую гостиную, где всегда пил чай, и уселся в своем кресле с книгою, а Агафья Михайловна принесла ему чаю и со своим обычным: «А я сяду, батюшка», села на стул у окна, он почувствовал что, как ни странно это было, он не расстался с своими мечтами и что он без них жить не может. С ней ли, с другою ли. он это будет. Он читал книгу, думал о том, что читал, останавливаясь, чтобы слушать Агафью Михайловну, которая без устали болтала; и вместе с тем разные картины хозяйства и будущей семейной жизни без связи представлялись его воображению. Он чувствовал, что в глубине его души что-то устанавливалось, умерялось и укладывалось.
Он слушал разговор Агафьи Михайловны о том, как Прохор Бога забыл, и на те деньги, что ему подарил Левин, чтобы лошадь купить, пьет без просыпу и жену избил до смерти; он слушал и читал книгу и вспоминал весь ход своих мыслей, возбужденных чтением. Это была книга Тиндаля о теплоте. Он вспоминал свои осуждения Тиндалю за его самодовольство в ловкости производства опытов и за то, что ему не достает философского взгляда. И вдруг всплывала радостная мысль: «через два года буду у меня в стаде две голландки, сама Пава еще может быть жива, двенадцать молодых Беркутовых дочерей, да подсыпать на казовый конец этих трех – чудо!» Он опять взялся за книгу.
«Ну хорошо, электричество и теплота одно и то же; но возможно ли в уравнении для решения вопроса поставить одну величину вместо другой? Нет. Ну так что же? Связь между всеми силами природы и так чувствуется инстинктом… Особенно приятно, как Павина дочь будет уже краснопегою коровой, и всё стадо, в которое подсыпать этих трех… Отлично! Выйти о женой и гостями встречать стадо… Жена скажет: мы с Костей, как ребенка, выхаживали эту телку. Как это может вас так интересовать? скажет гость. Всё, что его интересует, интересует меня. Но кто она? – И он вспоминал то, что произошло в Москве… – Ну что же делать?.. Я не виноват. Но теперь всё пойдет по новому. Это вздор, что не допустит жизнь, что прошедшее не допустит. Надо биться, чтобы лучше, гораздо лучше жить…» Он приподнял голову и задумался. Старая Ласка, еще не совсем переварившая радость его приезда и бегавшая, чтобы полаять на дворе, вернулась, махая хвостом и внося с собой запах воздуха, подошла к нему, подсунула голову под его руку, жалобно подвизгивая и требуя, чтоб он поласкал ее.
– Только не говорит, – сказала Агафья Михайловна. А пес… Ведь понимает же, что хозяин приехал и ему скучно.
– Отчего же скучно?
– Да разве я не вижу, батюшка? Пора мне господ знать. Сызмальства в господах выросла. Ничего, батюшка. Было бы здоровье, да совесть чиста.
Левин пристально смотрел на нее, удивляясь тому, как она поняла его мысли.
– Что ж, принесть еще чайку?—сказала она и, взяв чашку, вышла.
Ласка всё подсовывала голову под его руку. Он погладил ее, и она тут же у ног его свернулась кольцом, положив голову на высунувшуюся заднюю лапу. И в знак того, что теперь всё хорошо и благополучно, она слегка раскрыла рот, почмокала губами и, лучше уложив около старых зуб липкие губы, затихла в блаженном спокойствии. Левин внимательно следил за этим последним ее движением.
«Так-то и я! – сказал он себе, —так-то и я! Ничего… Всё хорошо».
XXVIII.После бала, рано утром, Анна Аркадьевна послала мужу телеграмму о своем выезде из Москвы в тот же день.
– Нет, мне надо, надо ехать, – объясняла она невестке перемену своего намерения таким тоном, как будто она вспомнила столько дел, что не перечтешь, – нет, уж лучше нынче!
Степан Аркадьич не обедал дома, но обещал приехать проводить сестру в семь часов.
Кити тоже не приехала, прислав записку, что у нее голова болит. Долли и Анна обедали одни с детьми и Англичанкой. Потому ли, что дети непостоянны или очень чутки и почувствовали, что Анна в этот день совсем не такая, как в тот, когда они так полюбили ее, что она уже не занята ими, – но только они вдруг прекратили свою игру с тетей и любовь к ней, и их совершенно не занимало то, что она уезжает. Анна всё утро была занята приготовлениями к отъезду. Она писала записки к московским знакомым, записывала свои счеты и укладывалась. Вообще Долли казалось, что она не в спокойном духе, а в том духе заботы, который Долли хорошо знала за собой и который находит не без причины и большею частью прикрывает недовольство собою. После обеда Анна пошла одеваться в свою комнату, и Долли пошла за ней.
– Какая ты нынче странная! – сказала ей Долли.
– Я? ты находишь? Я не странная, но я дурная. Это бывает со мной. Мне всё хочется плакать. Это очень. глупо, но это проходит, – сказала быстро Анна и нагнула покрасневшее лицо к игрушечному мешочку, в который она укладывала ночной чепчик и батистовые платки. Глаза ее особенно блестели и беспрестанно подергивались слезами. – Так мне из Петербурга не хотелось уезжать, а теперь отсюда не хочется.
– Ты приехала сюда и сделала доброе дело, – сказала Долли, внимательно высматривая ее.
Анна посмотрела на нее мокрыми от слез глазами.
– Не говори этого, Долли. Я ничего не сделала и не могла сделать. Я часто удивляюсь, зачем люди сговорились портить меня. Что я сделала и что могла сделать? У тебя в сердце нашлось столько любви, чтобы простить…
– Без тебя Бог знает что бы было! Какая ты счастливая, Анна! – сказала Долли. – У тебя всё в душе ясно и хорошо.
– У каждого есть в душе свои skeletons,[15]15
[скелеты, иносказательно – скрытые неприятности,]
[Закрыть] как говорят Англичане.
– Какие же у тебя skeletons? У тебя всё так ясно.
– Есть! – вдруг сказала Анна, и неожиданно после слез хитрая, смешливая улыбка сморщила ее губы.
– Ну, так они смешные, твои skeletons, а не мрачные, – улыбаясь сказала Долли.
– Нет, мрачные. Ты знаешь, отчего я еду нынче, а не завтра? Это признание, которое меня давило, я хочу тебе его сделать, – сказала Анна, решительно откидываясь на кресле и глядя прямо в глаза Долли.
И, к удивлению своему, Долли увидала, что Анна покраснела до ушей, до вьющихся черных косиц на шее.
– Да, – продолжала Анна. – Ты знаешь, отчего Кити не приехала обедать? Она ревнует ко мне. Я испортила… я была причиной того, что бал этот был для нее мученьем, а не радостью. Но, право, право, я не виновата, или виновата немножко, – сказала она, тонким голосом протянув слово «немножко».
– О, как ты это похоже сказала на Стиву! – смеясь сказала Долли.
Анна оскорбилась.
– О нет, о нет! Я не Стива, – сказала она хмурясь. – Я оттого говорю тебе, что я ни на минуту даже не позволяю себе сомневаться в себе, – сказала Анна.
Но в ту минуту, когда она выговаривала эти слова, она чувствовала, что они несправедливы; она не только сомневалась в себе, она чувствовала волнение при мысли о Вронском и уезжала скорее, чем хотела, только для того, чтобы больше не встречаться с ним.
– Да, Стива мне говорил, что ты с ним танцовала мазурку и что он…
– Ты не можешь себе представить, как это смешно вышло. Я только думала сватать, и вдруг совсем другое. Может быть я против воли…
Она покраснела и остановилась.
– О, они это сейчас чувствуют! – сказала Долли.
– Но я была бы в отчаянии, если бы тут было что-нибудь серьезное с его стороны, – перебила ее Анна. – И я уверена, что это всё забудется, и Кити перестанет меня ненавидеть.
– Впрочем, Анна, по правде тебе сказать, я не очень желаю для Кити этого брака. И лучше, чтоб это разошлось, если он, Вронский, мог влюбиться в тебя в один день.
– Ах, Боже мой, это было бы так глупо! – сказала Анна, и опять густая краска удовольствия выступила на ее лице, когда она услыхала занимавшую ее мысль, выговоренную словами. – Так вот, я и уезжаю, сделав себе врага в Кити, которую я так полюбила. Ах, какая она милая! Но ты поправишь это, Долли? Да!
Долли едва могла удерживать улыбку. Она любила Анну, но ей приятно было видеть, что и у ней есть слабости.
– Врага? Это не может быть.
– Я так бы желала, чтобы вы все меня любили, как я вас люблю; а теперь я еще больше полюбила вас, – сказала она со слезами на глазах. —Ах, как я нынче глупа!
Она провела платком по лицу и стала одеваться.
Уже пред самым отъездом приехал опоздавший Степан Аркадьич, с красным, веселым лицом и запахом вина и сигары.
Чувствительность Анны сообщилась и Долли, и, когда она в последний раз обняла золовку, она прошептала:
– Помни, Анна: что ты для меня сделала, я никогда не забуду. И помни, что я любила и всегда буду любить тебя, как лучшего друга!
– Я не понимаю, за что, – проговорила Анна, целуя ее и скрывая слезы.
– Ты меня поняла и понимаешь. Прощай, моя прелесть!
XXIX.«Ну, всё кончено, и слава Богу!» была первая мысль, пришедшая Анне Аркадьевне, когда она простилась в последний раз с братом, который до третьего звонка загораживал собою дорогу в вагоне. Она села на свой диванчик, рядом с Аннушкой, и огляделась в полусвете спального вагона. «Слава Богу, завтра увижу Сережу и Алексея Александровича, и пойдет моя жизнь, хорошая и привычная, по старому».
Всё в том же духе озабоченности, в котором она находилась весь этот день, Анна с удовольствием и отчетливостью устроилась в дорогу; своими маленькими ловкими руками она отперла и заперла красный мешочек, достала подушечку, положила себе на колени и, аккуратно закутав ноги, спокойно уселась. Больная дама укладывалась уже спать. Две другие дамы заговаривали с ней, и толстая старуха укутывала ноги и выражала замечания о топке. Анна ответила несколько слов дамам, но, не предвидя интереса от разговора, попросила Аннушку достать фонарик, прицепила его к ручке кресла и взяла из своей сумочки разрезной ножик и английский роман. Первое время ей не читалось. Сначала мешала возня и ходьба; потом, когда тронулся поезд, нельзя было не прислушаться к звукам; потом снег, бивший в левое окно и налипавший на стекло, и вид закутанного, мимо прошедшего кондуктора, занесенного снегом, с одной стороны, и разговоры о том, какая теперь страшная метель на дворе, развлекали ее внимание. Далее всё было то же и то же; та же тряска с постукиваньем, тот же снег в окно, те же быстрые переходы от парового жара к холоду и опять к жару, то же мелькание тех же лиц в полумраке и те же голоса, и Анна стала читать и понимать читаемое. Аннушка уже дремала, держа красный мешочек на коленах широкими руками в перчатках, из которых одна была прорвана. Анна Аркадьевна читала и понимала, но ей неприятно было читать, то есть следить зa отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить. Читала ли она, как героиня романа ухаживала за больным, ей хотелось ходить неслышными шагами по комнате больного; читала ли она о том, как член парламента говорил речь, ей хотелось говорить эту речь; читала ли она о том, как леди Мери ехала верхом за стаей и дразнила невестку и удивляла всех своею смелостью, ей хотелось это делать самой. Но делать нечего было, и она, перебирая своими маленькими руками гладкий ножичек, усиливалась читать.
Герой романа уже начал достигать своего английского счастия, баронетства и имения, и Анна желала с ним вместе ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самого. Но чего же ему стыдно? «Чего же мне стыдно?» спросила она себя с оскорбленным удивлением. Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик. Стыдного ничего не было. Она перебрала все свои московские воспоминания. Все были хорошие, приятные. Вспомнила бал, вспомнила Вронского и его влюбленное покорное лицо, вспомнила все свои отношения с ним: ничего не было стыдного. А вместе с тем на этом самом месте воспоминаний чувство стыда усиливалось, как будто какой-то внутренний голос именно тут, когда она вспомнила о Вронском, говорил ей: «тепло, очень тепло, горячо». «Ну что же? – сказала она себе решительно, пересаживаясь в кресле.– Что же это значит? Разве я боюсь взглянуть прямо на это? Ну что же? Неужели между мной и этим офицером-мальчиком существуют и могут существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, что бывают с каждым знакомым?» Она презрительно усмехнулась и опять взялась за книгу, но уже решительно не могла понимать того, что читала. Она провела разрезным ножом по стеклу, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются всё туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала,что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что внутри что-то давит дыханье и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайною яркостью поражают ее. На нее беспрестанно находили минуты сомнения, вперед ли едет вагон, или назад, или вовсе стоит. Аннушка ли подле нее или чужая? «Что там, на ручке, шуба ли это или зверь? И что сама я тут? Я сама или другая?» Ей страшно было отдаваться этому забытью. Но что-то втягивало в него, и она по произволу могла отдаваться ему и воздерживаться. Она поднялась, чтоб опомниться, откинула плед и сняла пелерину теплого платья. На минуту она опомнилась и поняла, что вошедший худой мужик, в длинном нанковом пальто, на котором не доставало пуговицы, был истопник, что он смотрел на термометр, что ветер и снег ворвались за ним в дверь; но потом опять всё смешалось… Мужик этот с длинною талией принялся грызть что-то в стене, старушка стала протягивать ноги во всю длину вагона и наполнила его черным облаком; потом что-то страшно заскрипело и застучало, как будто раздирали кого-то; потом красный огонь ослепил глаза, и потом всё закрылось стеной. Анна почувствовала, что она провалилась. Но всё это было не страшно, а весело. Голос окутанного и занесенного снегом человека прокричал что-то ей над ухом. Она поднялась и опомнилась; она поняла, что подъехали к станции и что это был кондуктор. Она попросила Аннушку подать ей снятую пелерину и платок, надела их и направилась к двери.
– Выходить изволите? – спросила Аннушка.
– Да, мне подышать хочется. Тут очень жарко.
И она отворила дверь. Метель и ветер рванулись ей навстречу и заспорили с ней о двери. И это ей показалось весело. Она отворила дверь и вышла. Ветер как будто только ждал ее, радостно засвистал и хотел подхватить и унести ее, но она рукой взялась за холодный столбик и, придерживая платье, спустилась на платформу и зашла за вагон. Ветер был силен на крылечке, но на платформе за вагонами было затишье. С наслаждением, полною грудью, она вдыхала в себя снежный, морозный воздух и, стоя подле вагона, оглядывала платформу и освещенную станцию.
XXX.Страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам из-за угла станции. Вагоны, столбы, люди, всё, что было видно, – было занесено с одной стороны снегом и заносилось всё больше и больше. На мгновенье буря затихала, но потом опять налетала такими порывами, что, казалось, нельзя было противостоять ей. Между тем какие-то люди бегали, весело переговариваясь, скрипя по доскам платформы и беспрестанно отворяя и затворяя большие двери. Согнутая тень человека проскользнула под ее ногами, и послышались звуки молотка по железу. «Депешу дай!» раздался сердитый голос с другой стороны из бурного мрака. «Сюда пожалуйте! № 28!» кричали еще разные голоса, и занесенные снегом пробегали обвязанные люди. Какие-то два господина с огнем папирос во рту прошли мимо ее. Она вздохнула еще раз, чтобы надышаться, и уже вынула руку из муфты, чтобы взяться за столбик и войти в вагон, как еще человек в военном пальто подле нее самой заслонил ей колеблющийся свет фонаря. Она оглянулась и в ту же минуту узнала лицо Вронского. Приложив руку к козырьку, он наклонился пред ней и спросил, не нужно ли ей чего-нибудь, не может ли он служить ей? Она довольно долго, ничего не отвечая, вглядывалась в него и, несмотря на тень, в которой он стоял, видела, или ей казалось, что видела, и выражение его лица и глаз. Это было опять то выражение почтительного восхищения, которое так подействовало на нее вчера. Не раз говорила она себе эти последние дни и сейчас только, что Вронский для нее один из сотен вечно одних и тех же, повсюду встречаемых молодых людей, что она никогда не позволит себе и думать о нем; но теперь, в первое мгновенье встречи с ним, ее охватило чувство радостной гордости. Ей не нужно было спрашивать, зачем он тут. Она знала это так же верно, как если б он сказал ей, что он тут для того, чтобы быть там, где она.
– Я не знала, что вы едете. Зачем вы едете? – сказала она, опустив руку, которою взялась было за столбик. И неудержимая радость и оживление сияли на ее лице.
– Зачем я еду? – повторил он, глядя ей прямо в глаза. – Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы, – сказал он, – я не могу иначе.
И в это же время, как бы одолев препятствия, ветер посыпал снег с крыш вагонов, затрепал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза. Весь ужас метели показался ей еще более прекрасен теперь. Он сказал то самое, чего желала ее душа, но чего она боялась рассудком. Она ничего не отвечала, и на лице ее он видел борьбу.
– Простите меня, если вам неприятно то, что я сказал, – заговорил он покорно.
Он говорил учтиво, почтительно, но так твердо и упорно, что она долго не могла ничего ответить.
– Это дурно, чтò вы говорите, и я прошу вас, если вы хороший человек, забудьте, чтò вы сказали, как и я забуду, – сказала она наконец.
– Ни одного слова вашего, ни одного движения вашего я не забуду никогда и не могу…
– Довольно, довольно! – вскрикнула она, тщетно стараясь придать строгое выражение своему лицу, в которое он жадно всматривался. И, взявшись рукой зa холодный столбик, она поднялась на ступеньки и быстро вошла в сени вагона. Но в этих маленьких сенях она остановилась, обдумывая в своем воображении то, что было. Не вспоминая ни своих, ни его слов, она чувством поняла, что этот минутный разговор страшно сблизил их; и она была испугана и счастлива этим. Постояв несколько секунд, она вошла в вагон и села на свое место. То напряженное состояние, которое ее мучало сначала, не только возобновилось, но усилилось и дошло до того, что она боялась, что всякую минуту порвется в ней что-то слишком натянутое. Она не спала всю ночь. Но в том напряжении и тех грезах, которые наполняли ее воображение, не было ничего неприятного и мрачного; напротив, было что-то радостное, жгучее и возбуждающее. К утру Анна задремала, сидя в кресле, и когда проснулась, то уже было бело, светло, и поезд подходил к Петербургу. Тотчас же мысли о доме, о муже, о сыне и заботы предстоящего дня и следующих обступили ее.
В Петербурге, только что остановился поезд и она вышла, первое лицо, обратившее ее внимание, было лицо мужа. «Ах, Боже мой! отчего у него стали такие уши?» подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы. Увидав ее, он пошел к ней навстречу, сложив губы в привычную ему насмешливую улыбку и прямо глядя на нее большими усталыми глазами. Какое-то неприятное чувство щемило ей сердце, когда она встретила его упорный и усталый взгляд, как будто она ожидала увидеть его другим. В особенности поразило ее чувство недовольства собой, которое она испытала при встрече с ним. Чувство то было давнишнее, знакомое чувство, похожее на состояние притворства, которое она испытывала в отношениях к мужу; но прежде она не замечала этого чувства, теперь она ясно и больно сознала его.
– Да, как видишь, нежный муж, нежный, как на другой год женитьбы, сгорал желанием увидеть тебя, – сказал он своим медлительным тонким голосом и тем тоном, который он всегда почти употреблял с ней, тоном насмешки над тем, кто бы в самом деле так говорил.
– Сережа здоров? – спросила она.
– И это вся награда, – сказал он, – зa мою пылкость? Здоров, здоров....
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































