Текст книги "Полное собрание сочинений. Том 29. Хозяин и работник"
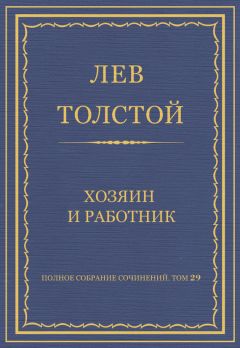
Автор книги: Лев Толстой
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
III
В начале улицы еще было ветрено, и дорога была заметна, но в середине деревни стало тихо, тепло и весело. У одного двора лаяла собака, у другого баба, закрывшись с головой поддевкой, прибежала откуда-то и зашла в дверь избы, остановившись на пороге, чтобы поглядеть на проезжающих. Из середины деревни слышались песни девок.
В деревне, казалось, и ветра, и снега, и мороза было меньше.
– А ведь это Гришкино, – сказал Василий Андреич.
– Оно и есть, – отвечал Никита.
И действительно, это было Гришкино. Выходило так, что они сбились влево и проехали верст восемь не совсем в том направлении, которое им нужно было, но все-таки подвинулись к месту своего назначения. До Горячкина от Гришкина было верст пять.
В середине деревни они наткнулись на высокого человека, шедшего посередине улицы.
– Кто едет? – крикнул этот человек, останавливая лошадь, и, тотчас же узнав Василия Андреича, схватился за оглоблю и, перебирая по ней руками, дошел до саней и сел на облучок.
Это был знакомый Василию Андреичу мужик Исай, известный в округе за первого конокрада.
– A! Василий Андреич! Куда же это вас бог несет? – сказал Исай, обдавая Никиту запахом выпитой водки.
– Да мы в Горячкино было.
– Вона куда заехали! Вам бы на Малахово надо.
– Мало, что надо, да не потрафили, – сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.
– Лошадка-то добрая, – сказал Исай, оглядывая лошадь и затягивая ей привычным движением под самую репицу ослабший узел завязанного густого хвоста.
– Что же, ночевать, что ли?
– Не, брат, обязательно ехать надо.
– Нужно, видно. А это чей? А! Никита Степаныч!
– А то кто же? – отвечал Никита. – А вот как бы, душа милая, нам тут не сбиться опять.
– Где же тут сбиться! Поворачивай назад, по улице прямо, а там, как выедешь, всё прямо. Влево не бери. Выедешь на большак, а тогда – вправо.
– Поворот-то с большака где? По летнему или по зимнему? – спросил Никита.
– По зимнему. Сейчас, как выедешь, кустики, насупротив кустиков еще вешка большая, дубовая, кудрявая стоит, – тут и есть.
Василий Андреич повернул лошадь назад и поехал слободой.
– А то ночевали бы! – прокричал им сзади Исай.
Но Василий Андреич не отвечал ему и потрогивал лошадь; пять верст ровной дороги, из которых две были лесом, казалось, легко проехать, тем более, что ветер как будто затих и снег переставал.
Проехав опять улицей по накатанной и черневшей кое-где свежим навозом дороге и миновав двор с бельем, у которого белая рубаха уже сорвалась и висела на одном мерзлом рукаве, они опять выехали к страшно гудевшим лозинам и опять очутились в открытом поле. Метель не только не стихала, но, казалось, еще усилилась. Дорога вся была заметена, и можно было знать, что не сбился, только по вешкам. Но и вешки впереди трудно было рассматривать, потому что ветер был встречный.
Василий Андреич щурился, нагибал голову и разглядывал вешки, но больше пускал лошадь, надеясь на нее. И лошадь действительно не сбивалась и шла, поворачивая то вправо, то влево по извилинам дороги, которую она чуяла под ногами, так что, несмотря на то, что снег сверху усилился и усилился ветер, вешки продолжали быть видны то справа, то слева.
Так проехали они минут десять, как вдруг прямо перед лошадью показалось что-то черное, двигавшееся в косой сетке гонимого ветром снега. Это были попутчики. Мухортый совсем догнал их и стукал ногами об кресла впереди едущих саней.
– Объезжай… а-а-й… передом! – кричали из саней.
Василий Андреич стал объезжать. В санях сидели три мужика и баба. Очевидно, это ехали гости с праздника. Один мужик хлестал засыпанный снегом зад лошаденки хворостиной. Двое, махая руками, кричали что-то в передке. Укутанная баба, вся засыпанная снегом, не шевелясь сидела, нахохлившись, в задке саней.
– Чьи будете? – закричал Василий Андреич.
– А-а-а… ские! – только слышно было.
– Чьи, говорю?
– А-а-а-ские! – изо всех сил закричал один из мужиков, но все-таки нельзя было расслышать, какие.
– Вали! Не сдавай! – кричал другой, не переставая молотить хворостиной по лошаденке.
– От праздника, видно?
– Пошел, пошел! Вали, Семка! Объезжай! Вали!
Сани стукнулись друг о друга отводами, чуть не зацепились, расцепились, и мужицкие сани стали отставать.
Косматая, вся засыпанная снегом, брюхастая лошаденка, тяжело дыша под низкой дугой, очевидно из последних сил тщетно стараясь убежать от ударявшей ее хворостины, ковыляла своими коротенькими ногами по глубокому снегу, подкидывая их под себя. Морда, очевидно молодая, с подтянутой, как у рыбы, нижней губой, с расширенными ноздрями и прижатыми от страха ушами, подержалась несколько секунд подле плеча Никиты, потом стала отставать.
– Вино-то что делает, – сказал Никита. – На отделку замучили лошаденку. Азиаты как есть!
Несколько минут слышны были сопенье ноздрей замученной лошаденки и пьяные крики мужиков, потом затихло сопенье, потом замолкли и крики. И кругом опять ничего не стало слышно, кроме свистящего около ушей ветра и изредка слабого скрипа полозьев по сдутым местам дороги.
Встреча эта развеселила и ободрила Василия Андреича, и он смелее, не разбирая вешек, погнал лошадь, надеясь на нее. Никите делать было нечего, и как всегда, когда он находился в таком положении, он дремал, наверстывая много недоспанного времени.
Вдруг лошадь остановилась, и Никита чуть не упал, клюнув вперед носом.
– А ведь мы опять неладно едем, – сказал Василий Андреич.
– А что?
– Да вешек не видать. Должно, опять сбились с дороги.
– А сбились с дороги, поискать надо, – коротко сказал Никита, встал и опять, легко шагая своими внутрь вывернутыми ступнями, пошел ходить по снегу.
Он долго ходил, скрываясь из вида, опять показываясь и опять скрываясь, и, наконец, вернулся.
– Нет тут дороги, может впереди где, – сказал он, садясь на сани.
Начинало уже заметно смеркаться. Метель не усиливалась, но и не слабела.
– Хоть бы тех мужиков услыхать, – сказал Василий Андреич.
– Да, вишь, не догнали, должно, далеко сбились. А може, и они сбились, – сказал Никита.
– Куда же ехать-то? – сказал Василий Андреич.
– А пустить лошадь надо, – сказал Никита. – Он приведеть. Давай вожжи.
Василий Андреич отдал вожжи тем более охотно, что руки его в теплых перчатках начинали зябнуть.
Никита взял вожжи и только держал их, стараясь не шевелить ими, радуясь на ум своего любимца. Действительно, умная лошадь, повертывая то в одну, то в другую сторону то одно, то другое ухо, стала поворачивать.
– Только не говорить! – приговаривал Никита. – Вишь, что делает! Иди, иди знай! Так, так.
Ветер стал дуть взад, стало теплее.
– И умен же, – продолжал радоваться на лошадь Никита. – Киргизенок – тот силен, а глуп. А этот, гляди, что ушами делаеть. Никакого телеграфа не надо, за версту чуеть.
И не прошло еще получаса, как впереди действительно зачернело что-то: лес ли, деревня, и с правой стороны показались опять вешки. Очевидно, они опять выехали на дорогу.
– А ведь это опять Гришкино, – вдруг проговорил Никита.
Действительно, теперь слева у них была та самая рига, с которой несло снег, и даже та же веревка с замерзшим бельем, рубахами и портками, которые всё так же отчаянно трепались от ветра.
Опять они выехали на улицу, опять стало тихо, тепло, весело, опять стала видна навозная дорога, опять послышались голоса, песни, опять залаяла собака. Уже настолько смерклось, что в некоторых окнах засветились огни.
Посередине улицы Василий Андреич повернул лошадь к большому, в две кирпичные связи, дому и остановил ее у крыльца.
Никита подошел к занесенному освещенному окну, в свете которого блестели перепархивающие снежинки, и постучал кнутовищем.
– Кто там? – откликнулся голос на призыв Никиты.
– С Крестов, Брехуновы, милый человек, – отвечал Никита. – Выдь-ка на час!
От окна отошли, и через минуты две – слышно было – отлипла дверь в сенях, потом стукнула щеколда в наружной двери, и, придерживая дверь от ветра, высунулся высокий старый с белой бородой мужик в накинутом полушубке сверх белой праздничной рубахи и за ним малый в красной рубахе и кожаных сапогах.
– Ты, что ли, Андреич? – сказал старик.
– Да вот заплутали, брат, – сказал Василий Андреич, – хотели в Горячкино, да вот к вам попали. Отъехали, опять заплутали.
– Вишь, как сбились, – сказал старик. – Петрушка, поди отвори ворота! – обратился он к малому в красной рубахе.
– Это можно, – отвечал малый веселым голосом и побежал в сени.
– Да мы, брат, не ночевать, – сказал Василий Андреич.
– Куда ехать – ночное время, ночуй!
– И рад бы ночевать, да ехать надо. Дела, брат, нельзя.
– Ну, погрейся по крайности, прямо к самовару, – сказал старик.
– Погреться – это можно, – сказал Василий Андреич, – темнее не будет, а месяц взойдет – посветлеет. Зайдем, что ль, погреемся, Микит?
– Ну, что ж, и погреться можно, – сказал Никита, сильно перезябший и очень желавший отогреть в тепле свои зазябшие члены.
Василий Андреич пошел со стариком в избу, а Никита въехал в отворенные Петрушкой ворота и, по указанию его, вдвинул лошадь под навес сарая. Сарай был поднавоженный, и высокая дуга зацепила за перемет. Уж усевшиеся на перемете куры с петухом что-то недовольно заквахтали и поцапались лапками по перемету. Встревоженные овцы, топая копытами по мерзлому навозу, шарахнулись в сторону. Собака, отчаянно взвизгивая, с испугом и злостью по-щенячьи заливалась-лаяла на чужого.
Никита поговорил со всеми: извинился перед курами, успокоил их, что больше не потревожит, упрекнул овец за то, что они пугаются, сами не зная чего, и не переставая усовещивал собачонку, в то время как привязывал лошадь.
– Вот так-то и ладно будеть, – сказал он, охлопывая с себя снег. – Вишь, заливается! – прибавил он на собаку. – Да будеть тебе! Ну, буде, глупая, буде. Только себя беспокоишь, – говорил он. – Не воры, свои…
– А это, как сказано, три домашние советника, – сказал малый, закидывая сильной рукой под навес оставшиеся снаружи санки.
– Это как же советники? – сказал Никита.
– А так в Пульсоне напечатывано: вор подкрадывается к дому, собака лает, – не зевай, значит, смотри. Петух поет – значит, вставай. Кошка умывается – значит, дорогой гость, приготовься угостить его, – проговорил малый улыбаясь.
Петруха был грамотный и знал почти наизусть имевшуюся у него единственную книгу Паульсона и любил, особенно когда он был немного выпивши, как нынче, приводить из нее казавшиеся ему подходящими к случаю изречения.
– Это точно, – сказал Никита.
– Прозяб, я чай, дядюшка? – прибавил Петруха.
– Да, есть-таки, – сказал Никита, и они пошли через двор и сени в избу.
IV
Двор, в который заехал Василий Андреич, был один из самых богатых в деревне. Семья держала пять наделов и принанимала еще землю на стороне. Лошадей во дворе было шесть, три коровы, два подтелка, штук двадцать овец. Всех семейных во дворе было 22 души: четыре сына женатых, шестеро внуков, из которых один Петруха был женатый, два правнука, трое сирот и четыре снохи с ребятами. Это был один из редких домов, оставшихся еще неделенными; но и в нем уже шла глухая внутренняя, как всегда начавшаяся между баб, работа раздора, которая неминуемо должна была скоро привести к разделу. Два сына жили в Москве в водовозах, один был в солдатах. Дома теперь были старик, старуха, второй сын-хозяин и старший сын, приехавший из Москвы на праздник, и все бабы и дети; кроме домашних, был еще гость-сосед и кум.
Над столом в избе висела с верхним щитком лампа, ярко освещавшая под собой чайную посуду, бутылку с водкой, закуску и кирпичные стены, в красном углу увешанные иконами и по обе стороны их картинами. На первом месте сидел за столом в одном черном полушубке Василий Андреич, обсасывая свои замерзшие усы и оглядывая кругом народ и избу своими выпуклыми и ястребиными глазами. Кроме Василия Андреича, за столом сидел лысый, белобородый старик-хозяин в белой домотканной рубахе; рядом с ним, в тонкой ситцевой рубахе, с здоровенной спиной и плечами – сын, приехавший из Москвы на праздник, и еще другой сын, широкоплечий – старший брат, хозяйничавший в доме, и худощавый рыжий мужик – сосед.
Мужики, выпив и закусив, только что собирались пить чай, и самовар уже гудел, стоя на полу у печки. На полатях и на печке виднелись ребята. На нарах сидела баба над люлькою. Старушка-хозяйка, с покрытым во всех направлениях мелкими морщинками, морщившими даже ее губы, лицом, ухаживала за Василием Андреичем.
В то время как Никита входил в избу, она, налив в толстого стекла стаканчик водки, подносила его гостю.
– Не обессудь, Василий Андреич, нельзя, проздравить надо, – говорила она. – Выкушай, касатик.
Вид и запах водки, особенно теперь, когда он перезяб и уморился, сильно смутили Никиту. Он нахмурился и, отряхнув шапку и кафтан от снега, стал против образов и, как бы не видя никого, три раза перекрестился и поклонился образам, потом, обернувшись к хозяину-старику, поклонился сперва ему, потом всем бывшим за столом, потом бабам, стоявшим около печки, и, проговоря: «С праздником», стал раздеваться, не глядя на стол.
– Ну, и заиндевел же ты, дядя, – сказал старший брат, глядя на запушенное снегом лицо, глаза и бороду Никиты.
Никита снял кафтан, еще отряхнул его, повесил к печи и подошел к столу. Ему тоже предложили водки. Была минута мучительной борьбы: он чуть не взял стаканчик и не опрокинул в рот душистую светлую влагу; но он взглянул на Василия Андреича, вспомнил зарок, вспомнил пропитые сапоги, вспомнил бондаря, вспомнил малого, которому он обещал к весне купить лошадь, вздохнул и отказался.
– Не пью, благодарим покорно, – сказал он, нахмурившись, и присел ко второму окну на лавку.
– Что ж так? – сказал старший брат.
– Не пью, да и не пью, – сказал Никита, не поднимая глаз, косясь на свои жиденькие усы и бороду и оттаивая с них сосульки.
– Ему не годится, – сказал Василий Андреич, закусывая баранкой выпитый стаканчик.
– Ну, так чайку, – сказала ласковая старушка. – Я чай, иззяб, сердечный. Что вы, бабы, с самоваром копаетесь?
– Готов, – отвечала молодайка и, обмахнув занавеской уходивший прикрытый самовар, с трудом донесла его, подняла и стукнула на стол.
Между тем Василий Андреич рассказывал, как они сбились, как два раза возвращались в ту же деревню, как плутали, как встретили пьяных. Хозяева дивились, объясняли, где и почему они сбились и кто были пьяные, которых они встретили, и учили, как надо ехать.
– Тут до Молчановки малый ребенок доедет, только потрафить на повороте с большака, – куст тут видать. А вы не доехали! – говорил сосед.
– А то ночевали бы. Бабы постелют, – уговаривала старушка.
– Утречком поехали бы, разлюбезное дело, – подтверждал старик.
– Нельзя, брат, дела! – сказал Василий Андреич. – Час упустишь, годом не наверстаешь, – добавил он, вспоминая о роще и о купцах, которые могли перебить у него эту покупку. – Доедем ведь? – обратился он к Никите.
– Не сбиться бы опять, – сказал он мрачно.
Никита был мрачен потому, что ему страстно хотелось водки, и одно, что могло затушить это желание, был чай, а чая еще ему не предлагали.
– Да ведь только до поворота бы доехать, а там уж не собьемся; лесом до самого места, – сказал Василий Андреич.
– Дело ваше, Василий Андреич; ехать так ехать, – сказал Никита, принимая подаваемый ему стакан чаю.
– Напьемся чайку, да и марш.
Никита ничего не сказал, но только покачал головой и, осторожно вылив чай на блюдечко, стал греть о пар свои, с всегда напухшими от работы пальцами, руки. Потом, откусив крошечный кусочек сахару, он поклонился хозяевам и проговорил:
– Будьте здоровы, – и потянул в себя согревающую жидкость.
– Кабы проводил кто до поворота, – сказал Василий Андреич.
– Что же, это можно, – сказал старший сын. – Петруха запряжет да и проводит до поворота.
– Так запрягай, брат. А уж я поблагодарю.
– И, чего ты, касатик! – сказала ласковая старушка. – Мы рады душой.
– Петруха, иди запряги кобылу, – сказал старший брат.
– Это можно, – сказал Петруха, улыбаясь, и тотчас же, сорвав с гвоздя шапку, побежал запрягать.
Пока закладывали лошадь, разговор перешел на то, на чем он остановился в то время, как Василий Андреич подъехал к окну. Старик жаловался соседу-старосте на третьего сына, не приславшего ему ничего к празднику, а жене приславшего французский платок.
– Отбивается народ молодой от рук, – говорил старик.
– Как отбивается-то, – сказал кум-сосед, – сладу нет! Больно умны стали. Вон Демочкин – так отцу руку сломал. Всё от большого ума, видно.
Никита вслушивался, всматривался в лица и, очевидно, желал тоже принять участие в разговоре, но был весь поглощен чаем и только одобрительно кивал головой. Он выпивал стакан за стаканом, и ему становилось всё теплее и теплее, и приятнее и приятнее. Разговор продолжался долго всё об одном и том же, о вреде разделов; и разговор, очевидно, был не отвлеченный, а дело шло о разделе в этом доме, – разделе, которого требовал второй сын, тут же сидевший и угрюмо молчавший. Очевидно, это было больное место, и вопрос этот занимал всех домашних, но они из приличия при чужих не разбирали своего частного дела. Но, наконец, старик не выдержал и со слезами в голосе заговорил о том, что делиться он не даст, пока жив, что дом у него слава богу, а разделить – все по миру пойдут.
– Вот, как Матвеевы, – сказал сосед. – Был дом настоящий, а разделили – ни у кого ничего нет.
– Так-то и ты хочешь, – обратился старик к сыну.
Сын ничего не отвечал, и наступило неловкое молчание. Молчание это перервал Петруха, уже заложивший лошадь и вернувшийся за несколько минут перед этим в избу и всё время улыбавшийся.
– Так-то у Пульпсона есть басня, – сказал он: – дал родитель сыновьям веник сломать. Сразу не сломали, а по прутику – лёгко. Так и это, – сказал он, улыбаясь во весь рот. – Готово! – прибавил он.
– А готово, так поедем, – сказал Василий Андреич. – А насчет дележу ты, дедушка, не сдавайся. Ты наживал, ты и хозяин. Мировому подай. Он порядок укажет.
– Так фордыбачить, так фордыбачить, – плаксивым голосом говорил всё свое старик, – что нет с ним ладов. Как осатанел, ровно!
Никита между тем, допив пятый стакан чаю, все-таки не перевернул его, а положил боком, надеясь, что ему нальют еще шестой. Но воды в самоваре уже не было, и хозяйка не налила ему еще, да и Василий Андреич стал одеваться. Нечего было делать. Никита тоже встал, положил назад в сахарницу свой обкусанный со всех сторон кусочек сахару, обтер полою мокрое от пота лицо и пошел надевать халат.
Одевшись, он тяжело вздохнул и, поблагодарив хозяев и простившись с ними, вышел из теплой, светлой горницы в темные, холодные, гудевшие от рвавшегося в них ветра и занесенные снегом через щели дрожавших дверей сени и оттуда – на темный двор.
Петруха в шубе стоял с своею лошадью посередине двора и говорил, улыбаясь, стихи из Паульсона. Он говорил: «Буря с мглою небо скроить, вихри снежные крутять, аж как зверь, она завоить, аж заплачеть как дитё».
Никита одобрительно покачивал головой и разбирал вожжи.
Старик, провожая Василия Андреича, вынес фонарь в сени и хотел посветить ему, но фонарь тотчас же задуло. И на дворе даже заметно было, что метель разыгралась еще сильнее.
«Ну, уж погодка, – подумал Василий Андреич, – пожалуй, и не доедешь, да нельзя, дела! Да и собрался уж, и лошадь хозяйская запряжена. Доедем, бог даст!»
Хозяин-старик тоже думал, что не следовало ехать, но он уже уговаривал остаться, его не послушали. Больше просить нечего. «Может, я от старости так робею, а они доедут, – думал он. – Да и по крайности спать ляжем во-время. Без хлопот».
Петруха же и не думал об опасности: он так знал дорогу и всю местность, а кроме того, стишок о том, что «вихри снежные крутять», бодрил его тем, что совершенно выражал то, что происходило на дворе. Никите же вовсе не хотелось ехать, но он уже давно привык не иметь своей воли и служить другим, так что никто не удержал отъезжающих.
V
Василий Андреич подошел к саням, с трудом разбирая в темноте, где они, влез в них и взял вожжи.
– Пошел передом! – крикнул он.
Петруха, стоя на коленках в розвальнях, пустил свою лошадь. Мухортый, уже давно ржавший, чуя впереди себя кобылу, рванулся за нею, и они выехали на улицу. Опять поехали слободой и той же дорогой, мимо того же двора с развешанным замерзшим бельем, которого теперь уже не видно было; мимо того же сарая, который уже был занесен почти до крыши и с которого сыпался бесконечный снег; мимо тех же мрачно шумящих, свистящих и гнущихся лозин и опять въехали в то снежное, сверху и снизу бушевавшее море. Ветер был так силен, что когда он был вбок и седоки парусили против него, то он накренивал набок санки и сбивал лошадь в сторону. Петруха ехал развалистой рысцой своей доброй кобылы впереди и бодро покрикивал. Мухортый рвался за нею.
Проехав так минут десять, Петруха обернулся и что-то прокричал. Ни Василий Андреич, ни Никита не слышали от ветра, но догадались, что они приехали к повороту. Действительно, Петруха поворотил направо, и ветер, бывший вбок, опять стал навстречу, и справа, сквозь снег, завиднелось что-то черное. Это был кустик на повороте.
– Ну, с богом!
– Спасибо, Петруха!
– Буря небо мглою скроить, – прокричал Петруха и скрылся.
– Вишь, стихотворец какой, – проговорил Василий Андреич и тронул вожжами.
– Да, молодец хороший, мужик настоящий, – сказал Никита.
Поехали дальше.
Никита, укутавшись и вжав голову в плечи, так что небольшая борода его облегала ему шею, сидел молча, стараясь не потерять набранное в избе за чаем тепло. Перед собой он видел прямые линии оглобель, беспрестанно обманывавшие его и казавшиеся ему накатанной дорогой, колеблющийся зад лошади с заворачиваемым в одну сторону подвязанным узлом хвостом и дальше, впереди, высокую дугу и качавшуюся голову и шею лошади с развевающейся гривой. Изредка ему попадались в глаза вешки, так что он знал, что ехали пока по дороге, и ему делать было нечего.
Василий Андреич правил, предоставляя лошади самой держаться дороги. Но Мухортый, несмотря на то, что вздохнул в деревне, бежал неохотно и как будто сворачивал с дороги, так что Василий Андреич несколько раз поправлял его.
«Вот справа одна вешка, вот другая, вот и третья, – считал Василий Андреич, – а вот впереди и лес», – подумал он, вглядываясь во что-то чернеющее впереди его. Но то, что показалось ему лесом, был только куст. Куст проехали, проехали еще сажен 20, – четвертой вешки не было, и леса не было. «Должен сейчас быть лес», – думал Василий Андреич и, возбужденный вином и чаем, не останавливаясь, потрогивал вожжами, и покорное, доброе животное слушалось и то иноходью, то небольшою рысцой бежало туда, куда его посылали, хотя и знало, что его посылают совсем не туда, куда надо. Прошло минут десять, леса всё не было.
– А ведь мы опять сбились! – сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.
Никита молча вылез из саней и, придерживая свой халат, то липнувший к нему по ветру, то отворачивающийся и слезающий с него, пошел лазить по снегу; пошел в одну сторону, пошел в другую. Раза три он скрывался совсем из вида. Наконец он вернулся и взял вожжи из рук Василия Андреича.
– Вправо ехать надо, – сказал он строго и решительно, поворачивая лошадь.
– Ну, вправо, так вправо пошел, – сказал Василий Андреич, отдавая вожжи и засовывая озябшие руки в рукава.
Никита не отвечал.
– Ну, дружок, потрудись! – крикнул он на лошадь; но лошадь, несмотря на потряхивание вожжей, шла только шагом.
Снег был кое-где по колено, и сани подергивались рывом с каждым движением лошади.
Никита достал кнут, висевший на передке, и стегнул. Добрая, непривычная к кнуту лошадь рванулась, пошла рысью, но тотчас же опять перешла на иноходь и шаг. Так проехали минут пять. Было так темно и так курило сверху и снизу, что дуги иногда не было видно. Сани, казалось иногда, стояли на месте, и поле бежало назад. Вдруг лошадь круто остановилась, очевидно чуя что-то неладное перед собой. Никита опять легко выскочил, бросая вожжи, и пошел вперед лошади, чтобы посмотреть, чего она остановилась; но только что он хотел ступить шаг перед лошадью, как ноги его поскользнулись и он покатился под какую-то кручь.
– Тпру, тпру, тпру, – говорил он себе, падая и стараясь остановиться, но не мог удержаться и остановился, только врезавшись ногами в нанесенный внизу оврага толстый слой снега.
Нависший с края кручи сугроб, растревоженный падением Никиты, насыпался на него и засыпал ему снегу за шиворот…
– Эко ты как! – укоризненно проговорил Никита, обращаясь к сугробу и оврагу и вытряхивая снег из-за воротника.
– Микит, а Микит! – кричал Василии Андреич сверху.
Но Никита не откликался.
Ему некогда было: он отряхался, потом отыскивал кнут, который выронил, когда скатился под кручу. Найдя кнут, он полез было прямо назад, где скатился, но влезть не было возможности; он скатывался назад, так что должен был низом пойти искать выхода кверху. Сажени на три от того места, где он скатился, он с трудом вылез на четвереньках на гору и пошел по краю оврага к тому месту, где должна была быть лошадь. Лошади и саней он не видал; но так как он шел на ветер, он, прежде чем увидал их, услыхал крики Василия Андреича и ржанье Мухортого, звавших его.
– Иду, иду, чего гогочешь! – проговорил он.
Только совсем уже дойдя до саней, он увидал лошадь и стоявшего возле них Василия Андреича, казавшегося огромным.
– Куда, к дьяволу, запропастился? Назад ехать надо. Хоть в Гришкино вернемся, – сердито стал выговаривать Никите хозяин.
– И рад бы вернулся, Василий Андреич, да куда ехать-то? Тут овражище такой, что попади туда – и не выберешься. Я туда засветил так, что насилу выдрался.
– Что же, не стоять же тут? Куда-нибудь надо же ехать, – сказал Василий Андреич.
Никита ничего не отвечал. Он сел на сани задом к ветру, разулся и вытряхнул снег, набившийся ему в сапоги, и, достав соломки, старательно заткнул ею изнутри дыру в левом сапоге.
Василий Андреич молчал, как бы предоставив теперь уже всё Никите. Переобувшись, Никита убрал ноги в сани, надел опять рукавицы, взял вожжи и повернул лошадь вдоль оврага. Но не проехали они и ста шагов, как лошадь опять уперлась. Перед ней опять был овраг.
Никита опять вылез и опять пошел лазить по снегу. Довольно долго он ходил. Наконец появился с противоположной стороны, с которой он пошел.
– Андреич, жив? – крикнул он.
– Здесь! – откликнулся Василий Андреич. – Ну, что?
– Да не разберешь никак. Темно, овраги какие-то. Надо опять на ветер ехать.
Опять поехали, опять ходил Никита, лазяя по снегу. Опять садился, опять лазил и, наконец, запыхавшись, остановился у саней.
– Ну, что? – спросил Василий Андреич.
– Да что, вымотался я весь! Да и лошадь становится.
– Так что же делать?
– Да вот, постой.
Никита опять ушел и скоро вернулся.
– Держи за мной, – сказал он, заходя перед лошадью.
Василий Андреич уже не приказывал ничего, а покорно делал то, что говорил ему Никита.
– Сюда, за мной! – закричал Никита, отходя быстро вправо и хватая за вожжу Мухортого и направляя его куда-то книзу в сугроб.
Лошадь сначала уперлась, но потом рванулась, надеясь проскочить сугроб, но не осилила и села в него по хомут.
– Вылезай! – закричал Никита на Василия Андреича, продолжавшего сидеть в санях, и, подхватив под одну оглоблю, стал надвигать сани на лошадь. – Трудненько, брат, – обратился он к Мухортому, – да что же делать, понатужься! Но, но, немного! – крикнул он.
Лошадь рванулась раз, другой, но все-таки не выбралась и опять села, как бы что-то обдумывала.
– Что же, брат, так неладно, – усовещивал Никита Мухортого. – Ну, еще!
Опять Никита потащил за оглоблю с своей стороны; Василий Андреич делал то же с другой. Лошадь пошевелила головой, потом вдруг рванулась.
– Ну! но! не потонешь, небось! – кричал Никита.
Прыжок, другой, третий, и, наконец, лошадь выбралась из сугроба и остановилась, тяжело дыша и отряхиваясь. Никита хотел вести дальше, но Василий Андреич так запыхался в своих двух шубах, что не мог итти и повалился в сани.
– Дай вздохнуть, – сказал он, распуская платок, которым он повязал в деревне, воротник шубы.
– Тут ничего, ты лежи, – сказал Никита, – я проведу, – и с Васильем Андреичем в санях провел лошадь под уздцы вниз шагов десять и потом немного вверх и остановился.
Место, на котором остановился Никита, было не в лощине, где бы снег, сметаемый с бугров и оставаясь, мог совсем засыпать их, но оно все-таки отчасти было защищено краем оврага от ветра. Были минуты, когда ветер как будто немного стихал, но это продолжалось недолго, и как будто для того, чтобы наверстать этот отдых, буря налетала после этого с удесятеренной силой, еще злее рвала и крутила. Такой порыв ветра ударил в ту минуту, как Василий Андреич, отдышавшись, вылез из саней и подошел к Никите, чтобы поговорить о том, что делать». Оба невольно пригнулись и подождали говорить, пока пройдет ярость порыва. Мухортый тоже недовольно прижимал уши и тряс головой. Как только немного прошел порыв ветра, Никита, сняв рукавицы и заткнув их за кушак, подышав в руки, стал отвязывать с дуги поводок.
– Ты что ж это делаешь? – спросил Василий Андреич.
– Отпрягаю, что ж еще делать? Мочи моей нет, – как бы извиняясь, отвечал Никита.
– А разве не выедем куда?
– Не выедем, только лошадь замучаем. Ведь он, сердечный, не в себе стал, – сказал Никита, указывая на покорно стоящую, на всё готовую и тяжело носившую крутыми и мокрыми боками лошадь. – Ночевать надо, – повторил он, точно как будто собирался ночевать на постоялом дворе, и стал развязывать супонь.
Клещи расскочились.
– А не замерзнем мы? – сказал Василий Андреич.
– Что ж? И замерзнешь – не откажешься, – сказал Никита.









































