Текст книги "Полное собрание сочинений. Том 29. Хозяин и работник"
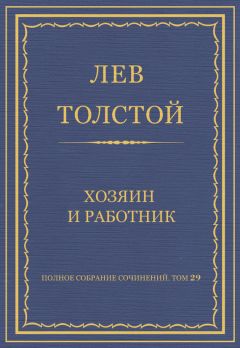
Автор книги: Лев Толстой
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
<Вас[илий] А[ндреич] между тем тоже неподвижно лежал в санях и чувствовал, как снег насыпается на него. Ему было не холодно, но в душе у него была тревога. Ему было страшно. Чтобы успокоить себя и забыть о своем положении, он стал перебирать то, что обыкновенно больше всего занимало его. Стал он думать о своем достатке. Это была его любимая мысль. Начал он почти с ничего.>
Отец оставил ему только рушку и плохой дворишка постоялый. В 15 лет после родителя он не только не опустил дела, но так поднял, что у него вся округа в руках была, как говорили ему мужики: мы ведь в плену у тебя, В[асилий] А[ндреич]. И точно, у него 5 деревень было в плену. 200 десятин обрабатывали за долги да за водку, два кабака торговали, хлеба скупка, скотина, рощи, перечислял он свои богатства, вспоминал подробности приобретения их. Но удивительное дело, перечисление и воспоминание об этих делах, всегда прежде занимавшие его так, что он всё забывал и не видал, как проходило время, теперь не развлекали его. Мысль о том, что не выберешься отсюда и можешь замерзнуть совсем или отморозить руки или ноги, не переставая мучила его. Он вспомнил о той роще, за кот[орой] теперь ехал, и, странное дело, хоть бы и не было ее. И понесла меня нелегкая. На кой мне ее ляд. Затянешься еще с ней. Главное дело, жизнь дорога. Дороже всего. А вот что, главное, мучило его раскаяние, зачем он поехал из Гришкина. Ночевать бы остался. Солдатка, ух, баба хороша, подумал он. Но и этот предмет не развлек его. Напротив, как только он подумал о солдатке, еще скучнее и страшнее стало. – Стал он вспоминать свой расчет с зятем. Это было самое задушевное дело. Дело шло о 3 тысячах, заплаченных за лес, от кот[орого] зять отступился и требовал делить пополам. В этом деле оба они самым мошенническим образом хотели надуть друг друга, и оба считали себя правыми. Но Вас[илий] Андр[еич] одолел, подал в окружной суд, нанял адвоката, жил с ним в номерах в губернии и оттяпал от зятя его часть и взыскал с него еще 1200 рублей убытков. Это был всегдашний предмет радости и гордости для Вас[илия] Андр[еича]. Но, странное дело, теперь это уже не радовало его. Не радовало и то, как у него в гостях был исправник. И как почитал его. Мысль об опасности разрушала всю радость всех успехов. – Замерзнешь тут, думал он. Так-то Егор Федорович заночевал, его как мороженого борова привезли… И напрасно послушал я Микиту, думал он, ехали бы теперь, всё бы выехали куда-нибудь. Напрасно послушал я его. Говорят, пьяным хуже. А я выпил. Вишь, Никита-то догадался, не пил, пожалуй и жив останется. А на что ему жить? Какая его жизнь. Я по крайности и жить могу в свое удовольствие. Есть чем жить. И поживу еще. Заснуть надо. Он забылся на время, но вдруг что-то дернуло его. Он очнулся и, отворотив воротник шубы, оглянулся. Та же белая муть, только светлее стало и оттого страшнее. Была белая непроглядная темнота. Светает, подумал он и обрадовался, – до утра недолго. Видно, я спал. Но тотчас же он вспомнил, вспомнил, что это месяц взошел, и, стало быть, было не более 8-го часа. Мухортый стоял всё так же. Веретье на нем заворотилось, он был весь засыпан снегом, и на глазах ресницы заиндевели. Очевидно, лошадь боялась не меньше его, и страх ее сообщился В[асилию] А[ндреичу]. Под санями, засыпанная снегом, не шевелилась кучка, под которой лежал Никита. – Что станешь делать. Замерзнешь. Положим, шубы теплы. Да ведь ночь-то велика. А мороз-то градусов 15, я чай. Ах, ночевать бы. Самоварчик еще поставили, водки бы им купил. Баба хороша. И он вспомнил, как жена его не пускала. Не пускала она больше из ревности. А лучше бы было, кабы послушался. Как она жить-то с сиротами останется. Да нет, поживем еще. Авось бог даст. И он опять лег, заворачивая под себя все уголки шубы, чтобы нигде не продувало, и старался заснуть, но сколько ни старался, он не мог заснуть. И опять он начал считать барыши, капиталы, хвастаться перед собой, вспоминать разврат, но ни то, ни другое, ни третье не занимало его. Покурить надо, подумал он и опять вскочил, оглядываясь, и опять та же светлая, снежная мгла, тот же дрожащий и испуганный Мухортый, весь в снегу, и тот же страх, и досада, и раскаяние, зачем поехал, зачем погубил себя. Он достал папироску, лег брюхом вниз, закрыв полами от ветра огонь, но ветер находил ход и тушил спички одну за другою. Наконец, он ухитрился закурить. Это была радость. Казалось, всё разъяснилось. Но продолжалось это успокоение недолго, папироску выкурил больше ветер, чем он. И он опять лег, укутался, и опять нашел страх. Так было несколько раз. И кругом было всё то же. Тот же дрожащий Мух[ортый], тот же под санями неподвижный, чистый снежный бугор, где лежал Ник[ита], та же белая муть. Ему казалось, что конца нет этой ночи. Иногда ему казалось, что петухи поют, что собаки лают. Но когда пристальнее вслушивался, – только ветер свистел по оглоблям, трепал платком, и Мух[ортый] переступал с ноги на ногу. Раз он совсем было заснул. Вдруг его разбудил какой-то страшно новый приятный звук и утешительный запах. Он вскочил. Это Мухортый стоял, вытянув задние ноги, и мочился.
Он опять вскочил. Еще было светлее, хотя буря была та же, и мороз, казалось, усилился. Должно, близко к утру, подумал он. Дай, посмотрю на часы. Озябнешь раскутываться. Да всё узнать бы. И он стал полегоньку распускать кушак и, засовывая руку, расстегивать полушубок и доставать часы. Насилу, насилу вытащил он свои серебряные часы. Опять лег ничком и стал зажигать спички. Одна за другой они обшмурыгивались об стальную спичечницу и не зажигались. Он подсунул циферблат и глазам своим не верил. Было всего 10 минут 2-го. Еще больше 7 часов ночи. Ох, плохо, – подумал он и, кое-как сунув часы, запахнулся. Спать надо, так хуже, подумал он и решил лечь и не шевелиться. Долго ли, коротко ли он лежал так, он не знал. Казалось ему, что он заснул, как вдруг кто-то рванул его за спину. Он вскочил. Это Мухортый дернул из-под него солому и, держа ее в зубах, жевал. Где я? Да, замерзаю в поле, как есть замерзаю. Он озяб и дрожал. Матушка, царица небесная, Николай угодник. Всё сделаю, начал он молиться.
И он приподнялся на локоть и стал креститься. Рублевую свечку поставлю, только бы вызволил, думал он. Да что рублевую. Могу серебряный оклад сделать. Он говорил это, но чувствовал вперед, что если он спасется, он не сделает этого, не сдержит слова, и потому не стоит молиться. Опять он достал папироску, но спички уже все стерлись и он в отчаянии бросил папиросочницу. А чорт тебя, проклятый. Провались ты. Он вдруг разозлился на спички, на Мухортого, к[оторый] хотел потереться об него, на Никиту, к[оторый] не шевелился, и, главное, на себя. Он разозлился и был рад, что он разозлился, и поддерживал эту злобу, п[отому] ч[то] в этой злобе была энергия. Чего я заробел. А, дурак, бранил он себя. Чего лежать-то. Сесть верхом, да и ехать. Верхом лошадь не станет.
– Микит! – крикнул он.
– Чаго, – откликнулся Никита.
– А я хочу верхом ехать. Тут собаки лают, слышно.
– Что ж, с богом, – отвечал Никита.
– Подсоби, – говорит.
Никита долго мялся, наконец встал, дрожа всем телом и хромая, подсобил Василию Андр[еичу] и сам зашатался.
– Эх напрасно, хозяин. Лежал бы.
– Тебя послушал, чуть не замерз. Чего же стоять-то. И Вас[илий] Андр[еич] тронул лошадь и скоро скрылся в белой светлой мгле.
Как только В[асилий] А[ндреич] отъехал, Никита поднял свою дерюжку, подошел к саням, вытряхнул из них снег, перелез в них и лег в солому, завернувшись кафтаном. Нога левая у него, он чуял, мерзла, и во всем теле был холод. Должно, скоро душа выйдет, подумал он и, закутавшись, заснул. Между тем В[асилий] А[ндреич] выбрался из сугробов оврага наверх и погнал лошадь. По его расчетам деревня была против ветра. Лошадь хотя и с трудом, но шла иноходью туда, куда он ногами и концами поводьев посылал ее. Ветер и снег, казалось, еще усилились и слепили ему глаза. Он нагнул голову, ничего не видел и только гнал лошадь, надеясь, что она вывезет его.
Минут пять он ехал так, как вдруг перед собой и недалеко, казалось, он услыхал начавшийся слабо и всё усиливающийся и усиливающийся протяжный, дошедший постепенно до высшей силы и потом медленно ослабевавший звук. Это выл волк, и недалеко. Мухортый насторожил уши и остановился. Мороз пробежал по спине В[асилия] А[ндреича]. Ох, кабы тут деревня, не выл бы волк. Не туда я еду, подумал он и повернул лошадь влево. Но ему всё казалось, что лошадь воротит вправо, и он всё поворачивал ее влево. И вдруг он под собой увидал след – лошадиный след. Это, очевидно, был его след, и они кружили на месте. Эх, не выеду к деревне. И на него вдруг нашел новый страх, которого он еще не испытывал. Он заторопился, стал гнать лошадь и задыхался.
– Что же я делаю, куда же я еду. Пропал я ни за что. И он уж забыл думать о деревне и желал теперь только одного – вернуться к саням, чтобы быть вместе с Никитой и не пропасть одному. Он пустил лошадь. Она куда-то везла его, но туда ли она шла, к саням или совсем прочь от них, В[асилий] А[ндреич] не знал1010
Зачеркнуто: Ему казалось, что пора бы ей спускаться в овраг, но она не спускалась. «Не завезла бы она его куда прочь от саней».
[Закрыть]. И когда он думал, что она завезет его прочь, и он останется один без Никиты, на него находил ужас. Лошадь шла, шла, всё не спускаясь, и вдруг спотыкнулась и где-то завязла. В[асилий] А[ндреич] соскочил с нее и тоже завяз в сугробе. Лошадь выбралась, но он остался сзади. Вот когда пропал, подумал он. И лошадь уйдет. Он из всех сил рванулся за лошадью, но она сама ждала его. Влезть он уже не мог и пошел за лошадью, держась ей за гриву.1111
Зач.: Лошадь охотно шла по ветру.
[Закрыть] Но вот и сугроб в лощине и в ней следы еще видны. Сейчас будут сани. И точно, Мухортый спустился, и вот и оглобли и платок треплется на них, а вот <и Никита> и наполовину уже занесенные снегом сани. В[асилий] А[ндреич] обрадовался, точно он домой приехал и вся опасность миновала. Микит, – закричал он, – Микит. Но Никита не шевелился. – Микита, где ты? Под отводом его не было. И опять он ужаснулся и усумнился, не во сне ли всё это, не сон ли это, от которого можно проснуться. Микит, – заорал он диким голосом. И губы его дрожали, и зубы щелкали. И вдруг к радости его в санях зашевелилось и поднялась сначала спина, потом голова Никиты.
– Чаго? – проговорил он слабым голосом.
– Пропал было я, Микитушка, – сказал он. – А ты жив?
– Пока жив, – отозвалось из-под кафтана. – Застыл крепко только. Должно, конец мой пришел. Прости, Христа ради. – И Никита стал ворочаться, очевидно желая встать и дать место хозяину.
Ох, погубил я человека, подумал В[асилий] А[ндреич]. И ему вдруг стало жалко Никиту. И Вас[илий] Андр[еич] опахнул с Никиты снег и полез в сани.
– Ты не шевелись, я на тебя лягу, – сказал он. И В[асилий] А[ндреич] встал на отвод и лег на Никиту, покрыв его своим телом и шубой.
– Что, теплее так, – сказал он.
– Ровно на печи, – проговорил из-под него Никита и быстро оборвал свою речь и тотчас заснул. В[асилий] А[ндреич] прислушался к тому, как Никита дышал под ним, и радовался тому, что он согревается. О себе он перестал думать, и ему стало спокойно и хорошо. И он не успел опомниться, как тоже заснул. И видит он во сне, что он лежит на постели в доме и всё ждет того, кто должен зайти за ним. И спрашивает у жены: – Что же, не заходил? Чей-то голос говорит: – Нет. А вот едет кто-то. Должно, он. Нет, мимо. Миколавна, а Миколавна. Что же, не заходил? – Нету. – И всё он лежит на полати и ждет. Всё тихо. И вдруг узнает В[асилий] А[ндреич], что он пришел. Иду! – прокричал В[асилий] А[ндреич] так громко, что Никита слышал его крик. – Иду, – весело прокричал В[асилий] А[ндреич] и проснулся. И что-то совсем новое, такое, чего он не знал во всю жизнь свою, сошло на него, и он вошел в него, и кончилось всё старое, пустое, ненастоящее, и началось новое, хорошее и настоящее.
– А, так это вот что, – сказал он себе, понимая, что это смерть и что он умирает. И он удивился тому, как это просто и нестрашно. – А я, дурак, боялся ее, – сказал он себе. Стал он вспоминать про рощу, про дело с зятем, про валухов, и ему жалко и смешно стало; и вспомнил он про Ник[иту], как он сказал ему: прости Христа ради, и как сказал: ровно на печи – и ему радостно стало. – Что же, я ведь не знал этого, – сказал он. – Я бы и рад теперь. Да я теперь буду, – сказал он и сам не знал, что с ним сталось: заснул он или умер.
– Погоди гнать, дай я подстроюсь. А то что же, всё одно не возьмут, – говорил себе Никита, вывозивший во сне заевший на переезде в болоте воз с мукою. И он подлез под воз и стал поднимать его, расправляя спину, но удивительное дело: воз не двигался, а прилип ему к спине и он не мог ни поднять воз, ни уйти из-под него. – Всю поясницу раздавило. Да и холодный же! Видно, вылезать надо. Да будет, – говорил он кому-то, кто давил ему возом спину. Вынимай мешки. Но воз всё холоднее и холоднее давил его – и вдруг стукнуло что-то, и он проснулся и вспомнил всё.
Холодное дерево – это был хозяин, лежавший на нем. А стукнул – это Мухорт[ый] коленкой о сани.
– Андреич, а Андреич, – заговорил Ник[ита], подергивая спиной, но Андр[еич] не отзывался, и брюхо его и ноги были крепкие и холодные. – Помер, должно, подумал Никита. Тоже меня пожалел. Царство небесное. Должно, и мне скоро. Господи помилуй, проговорил он и почувствовал, что умирает.
Уже в обед, на другой день мужики откопали лопатой Вас[илия] Андр[еича] и Никиту в овраге, который обходит дорога, в 30 саженях от нее и в полуверсте от деревни. Снег нанесло выше саней; но оглобли и платок на них были видны. Было светло, снег мел всё так же, но сверху было меньше. Мухортый по брюхо в снегу стоял, прижав голову к кадыку; глаза его заиндевели и выперли, и худая шея вытянулась и закостенела. Он исхудал в одну ночь так, что остались на нем только кожа да кости. В[асилий] А[ндреич] весь застыл и, как были у него расставлены ноги, так раскорячившись его и отвалили от Никиты. Никита же был жив и отморозил только обе ноги и левую руку. Когда Никиту разбудили, он огорчился сначала тем, что на том свете опять всё было то же, такие же люди, такие же лошади, сани, тот же снег. Он думал, что там будет совсем другое и лучше. А это опять всё то же. Ну что же делать. Так, видно, надо. Но когда он понял, что он жив, он скорее огорчился, чем обрадовался, особенно тогда, когда узнал, что едва ли он будет владеть рукою. Пролежал Ник[ита] в больнице два месяца. Хотели ему отнять ногу, но он не дался, и она зажила. Калекой он остался, но все-таки работал и прожил еще 20 лет и только в нынешнем году помер в избе у жены, как должно, под святыми и с зажженной восковой свечой в руках, и истинно радуясь тому, что он умирает и избавляет своей смертью и старуху и малого от обузы и греха. Лучше или хуже ему там стало, разочаровался ли он, когда проснулся там, или нашел то самое, чего он ждал, мы все скоро узнаем.
Л. Т.
На него нашло такое беспокойство, что он не мог больше не только лежать, но и сидеть на месте. И чего я заробел. То-то дурак, что послушал мужика, бранил он себя. Чего лежать-то. Сесть верхом, да и марш, – вдруг пришло ему в голову. Верхом лошадь не станет. Ему, подумал он на Никиту, всё равно умирать. Какая его жизнь, ему и жизни не жалко, а мне, слава богу, есть чем пожить. Микит, – крикнул он. Никита долго не отвечал. – Чаго? – откликнулся наконец Никита. – А я хочу верхом ехать. – Куда ехать-то, – сказал Никита. – Куда-нибудь да выеду, чем тут-то сидеть. Ночи еще много. – Напрасно, – проговорил Никита, не изменяя своего положения. – Лежал бы, хуже. – Слушай вас, – проговорил В[асилий] А[ндреич]. – Что ж пропадать даром.
Нога левая у него, он чуял, отмерзла, и во всем теле был холод. Должно, скоро душа выйдет, подумал он. Господи боже мой, батюшка, отец небесный, – проговорил он, сам не зная, чего он хотел от батюшки отца небесного, но обращение это к нему, к отцу, было нужно Никите и успокоило его. Он повалился в сани и, натянув опять себе на голову дерюжку, затих.
Никита ясно понимал, что ему в его рваном полушубке и халатишке с дерюжкой на голове не перетерпеть те 14 часов, к[оторые] оставались до света. Да еще и выедешь ли и днем. Он уже теперь чувствовал, что нога левая отмораживается и чувствовал непреодолимую сонливость, к[оторая], он знал, была признаком замерзания. Но мысль о том, что он умрет здесь в этом месте, в эту ночь не представляла для него ничего ни особенно страшного, ни особенно неприятного. Это было только нечто новое.1212
Зачеркнуто: А новое было скорее приятно.
[Закрыть] Ничего страшного он не видел в этом, потому что, как он бывало смеялся людям, боявшимся упасть с высоты, что упадешь не кверху, а книзу, так он всегда и теперь говорил себе, что, умирая, он попадет не куда-нибудь в новое место к новому хозяину, а всё к тому же господу батюшке, под которым и здесь ходил. Упадешь не кверху, а книзу – всё к тому же господу батюшке царю небесному. Особенно неприятного же он не видел в смерти потому, что вся его жизнь здесь не представляла ничего такого, что бы ему жаль было покинуть. Правда, жутко было уходить из этой знакомой жизни в другую, неизвестную. Да что ж поделаешь, не откажешься. Грехи? подумал он, вспоминая свое пьянство, пропитые деньги, обиды жене, ругательства, в особенности злобу на бондаря. Известно, грехи. Да что ж, разве я сам их на себя напустил. Таким, видно, меня бог сделал. Ну и грехи. Куда же денешься. И успокоившись рассуждением, он прикрыл осторожно дырку, сквозь которую дуло в голову, вжал еще более голову в плечи1313
Зач.: чувствуя себя одинаково готовым к тому, заснуть и проснуться на том свете, или заснуть и проснуться еще на этом и опять кормить лошадей, возить воду, чистить навоз, и ездить на мельницу и в город, и отсылать деньги жене. Он
[Закрыть] и стал забываться и даже задремал. Окрик хозяина разбудил Никиту. И чего ворочается, думал он. Лежал бы да лежал. Шубы теплые. А что ворочаться, то хуже. Финоген да Митька, те разделись так-то да рядом легли, укрылись, вспомнил Никита. Так говорят, как тепло, вспомнил Никита и хотел сказать это В[асилию] А[ндреичу], но не хотелось ни шевелиться, ни говорить, и Никита ничего не сказал. Когда в другой раз хозяин разбудил его, объявив, что он хочет уехать верхом, Ник[ита], сделав большое усилие над собой, проговорил ему совет не ехать и сказал: хуже.1414
Зачеркнуто: Он слышал, что В[асилий] А[ндреич] отвязывал лошадь и влезал на нее, но когда сани покачнулись набок от ставшего на их край В[асилия] А[ндреича], его толконуло задком, засыпало снегом и расстроило его сиденье. Улегшись, снег обсыпал его, и задок саней отдалился от его спины и концом полоза его ударило в бок. Никита с трудом встал и почувствовал мучительный холод и хотел тотчас же опять лечь.
[Закрыть] Это усилие разбудило его. Он вспомнил, что на Мухортом веретье, к[оторое] не нужно ему на ходу, а ему, Никите, было бы очень нужно. Он хотел сказать это и взять веретье укрыться им и лечь в сани, но его так разморило, так хотелось ему спать, что он не имел сил сказать этого и не имел сил встать. Но вдруг задок, на кот[орый] он упирался спиной, дернулся, что-то ударило в спину, посыпался сверху снег и упираться спиной уже не на что было. Этот толчок, происшедший от того, что сани откачнулись, когда В[асилий] А[ндреич] садился с них на лошадь, заставил Никиту очнуться. Он с трудом выпрямил ноги и, осыпая с себя снег и держась за сани, хромая обошел задок и раскрыл глаза. Всё та же белая муть была везде кругом. Впереди его в трех шагах еще виднелась спина В[асилия] А[ндреича] в его высокой шапке и спина и зад Мух[ортого] с развевавшимся в одну сторону по бокам его веретьем. Мучительный холод пронизал всё тело Никиты, когда он поднялся и вышел на ветер. Он сделал усилие над собой и закричал В[асилию] А[ндреичу]: «Веретье оставь», но В[асилий] А[ндреич] хоть и слышал, что тот прокричал, не поворачиваясь гнал лошадь туда, откуда он въехал в лощину, и скоро скрылся в снежной пыли. Никита вздохнул, мотнул головой и, не снимая с головы дерюжки, повалился в сани на место хозяина. Нога левая у него, он чуял, отмерзла, и во всем теле была слабость, а в душе умильность. – Должно, скоро душа выйдет, – подумал он.– Господи, батюшка, отец небесный, – проговорил он, сам не зная, чего он хотел от батюшки отца небесного, – но обращение это к нему, к отцу, к господу батюшке, было нужно Никите и успокоило его. Он стал терять сознание, сам не зная, засыпает он или умирает, одинаково готовый на то, чтобы проснуться в этом мире и попрежнему жить в людях работником, служить людям, отдавать деньги жене и бондарю, бороться с грехом, с водкой, бороться и падать, или проснуться где-то там так же, как он проснулся к жизни этого мира, не зная, когда, в люльке, у груди матери, или когда в первый раз свалился с лавки и ревел на руках у сестры и няньки Аксютки.
– Что же я делаю, куда же я еду? – говорил он себе и вместе с тем не мог удержаться и всё гнал лошадь. Проезжал он по обледеневшим сдутым зеленям, по высокому косматившемуся жнивью, по глубокому мелкому снегу, ехал против ветра и по ветру. Тело его, особенно в шагу, где оно было открыто и прикасалось с седелкой, зябло и болело, и чем больше он зяб, тем отчаяннее он гнал лошадь.









































