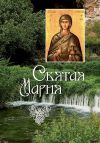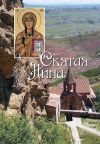Текст книги "Святая мгла (Последние дни ГУЛАГа)"

Автор книги: Леван Бердзенишвили
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Жора был чистокровным антисоветским человеком, и не удивительно, что никого на белом свете не ненавидел больше, чем Сталина. Можно смело сказать, что на величайшего лидера всех времен и народов, на вождя мирового пролетариата и генералиссимуса у Георгия Хомизури была куда более сильная аллергия, чем на яйцо.
Наше заключение характеризовалось одной большой особенностью. Мы сидели не в страшные тридцатые годы, не во время войны, не на заре диссидентского движения, не в эпоху брежневского застоя, а в эпоху советской демократии, гласности и перестройки. В то время как сталинисты бушевали в «Правде», в «Огоньке» публиковалось знаменитое «Открытое письмо Сталину» хорошо известного в кругах диссидентов Федора Раскольникова. В один день по телевидению нам подавали советскую информативную баланду, на следующий день с того же экрана Рональд Рейган поздравлял нас с Новым годом. Опытные люди говорили, что сидеть в такое время невыносимее всего – я ничего не могу сказать, мне не доводилось сидеть в другое время, однако более опытным, чем я, людям можно доверять.
Короче, мы сидели в эпоху гласности и перестройки. А у нее, как у всех важных и исключительных эпох, были свои просвещенные и либеральные герои с совершенно новым имиджем. Одним из таковых был Вадим Викторович Бакатин, известный реформатор и либерал, с которым мы познакомились с совершенно другой стороны.
Выступая у нас в клубе-столовой с речью, в то время первый секретарь Кировского областного комитета коммунистической партии Советского Союза, впоследствии министр МВД и председатель КГБ, товарищ Бакатин сравнял с землей осужденных по статье «антисоветская агитация и пропаганда» диссидентов и вознес до небес население соседней с нами третьей зоны особого режима – «полосатников» (они носили полосатую спецодежду), тех же рецидивистов – убийц и грабителей, сказав, что по сравнению с нами они порядочные люди, по крайней мере патриоты, словом против своей Родины не обмолвились.
Выслушав эту тираду, произнесенную героем перестройки, начальник нашей зоны и тот насупился, однако уверенный в своей правоте Бакатин стоял на своем и продолжал. Сначала встал Джони Лашкарашвили и посоветовал ему постирать эту простыню (он имел в виду экран клуба-столовой) – «генеральный секретарь смотрится черным» – и только после этого говорить о любви к Родине, но Бакатин, не сразу разобравшись в акценте Джони, проговорил, что не понял его. Тогда встал Жора и крикнул во весь голос: «Конечно, для вас убийцы и грабители социально ближе, ведь вы мастера того же дела, что и они!» Известный «либерал» изменился в лице, побледнел (как сказал бы Руставели, «сделался блеклым»), пробормотал: «Как вы смеете?» – и под гром аплодисментов всей «демократической» зоны сбежал из клуба-столовой. Шпионы, изменники Родины, террористы и военные преступники, конечно же, не аплодировали, однако нас, «демократов», было достаточно много для того, чтобы оглушить небольшой клуб-столовую аплодисментами. Администрация бросилась вдогонку влюбленному в рецидивистов, убийц и грабителей третьей зоны «либералу», однако бледный и оскорбленный будущий руководитель КГБ и гигант горбачевской советской демократии бежал так быстро, что не то что администрации зоны, но даже быстроногому Ахиллу его было не догнать.
Не успел Бакатин выйти из зоны, как ДПНК (дежурный помощник начальника колонии, то есть дэ-пэ-эн-ка) Сурайкин вызвал Жору из барака и повел его в сторону шизо, штрафного изолятора. Вся зона высыпала: Сурайкин ведет Жору из плохой тюрьмы в еще более плохую тюрьму. Тут я не выдержал и подошел к Сурайкину.
– Что происходит, Сурайкин? – спросил я опешившего дэ-пэ-эн-ка (он не привык к вопросам со стороны заключенных, то есть к неслыханной наглости и тем более к такому фамильярному обращению – формальным видом обращения было «гражданин начальник»).
«Демократы» лагеря окружили нас.
– Я веду в шизо приговоренного к наказанию Хомизури Георгия Павловича, – ответил мне формулировкой устава растерявшийся майор Сурайкин.
– За что? – спросил я.
– За грубость, – ответил Сурайкин.
– Майор Сурайкин, вы с Бакатиным не знаете, что такое настоящая грубость. Будь внимателен, вот сейчас последует настоящая грубость, – предупредил я, – Сурайкин, я твою маму е…
Сурайкин и оказавшиеся тут же контролеры Киселев и Трифонов поспешно отправили Жору в шизо и столь поспешно вернулись за мной, что друзья-заключенные не успели даже передать мне теплую одежду. В шизо свободных мест не было, и нас с Жорой поместили в одну камеру, а вторую занимал ее почти постоянный обитатель Витаутас Шабонас. К Шабонасу нельзя было подселить никого, так как он занимался крайне опасным делом: в течение всего дня неустанно и громогласно передавал в любимую Бакатиным третью зону информацию о политических заключенных, не забывая при этом добавить политические требования: «Свободу литовским борцам за правду: Алгирдасу Андреикасу, Янису Баркансу, Витаутасу Скуодису! Свободу грузинам – борцам за независимость: братьям Давиду и Левану Бердзенившили, Захарию Лашкарашвили!» Разве можно было подселять к такому человеку кого-либо из нас, чтоб мы оказали на него дурное влияние?!
Некоторое время спустя начальник зоны с большим удовольствием дал мне прочитать докладную записку майора Сурайкина. Это был такой перл, которому позавидовали бы даже Зощенко и Хармс. Я помню не все, однако эпизод со мной и Жорой звучал приблизительно так: «При исполнении возложенных на меня обязанностей, в частности когда я вел в шизо осужденного за антисоветскую агитацию и пропаганду Хомизури Георгия Павловича, грузина, родившегося в г. Баку в 1942 году, ко мне подошел осужденный за антисоветскую агитацию и пропаганду Бердзенишвили Леван Валерьянович, грузин, родившийся в г. Батуми в 1953 году, и грубо, в частности, следующими словами: «Сурайкин, е… твою мать…» обратился ко мне. Я посчитал, что он сделал это с целью моего оскорбления – грузины матерятся только с этой целью, – за что мы посадили осужденного Бердзенившили Левана Валерьяновича, родившегося в 1953 году в г. Батуми, грузина, на 15 дней в шизо, право на что мне давал закон».
Благодаря Жоре эту докладную записку Сурайкина наизусть выучил весь лагерь. После освобождения Жора несколько раз приезжал в Тбилиси, привез к нам членов своей семьи – супругу Нину, дочь Машу и сына Павлика. Наши семьи очень быстро заразились от нас нашей дружбой. Хомизури собирались переехать в Тбилиси. Особенно активничал сын Жоры Павлик, ему нравился Тбилиси, и он называл себя грузином, однако этому плану не суждено было осуществиться: жизнь нанесла Жоре еще один жестокий удар – Павлик скончался в возрасте 13 лет, а дочь Мария ушла в монахини.
Глубоко убежденный атеист (говоря словами любимого им Руставели – «умный», то есть не понимающий возвышенной любви небесного уклада), материалист душой и плотью, человек чисел и формул, доктор геолого-минералогических наук Георгий Павлович Хомизури, уже вступивший в преклонный возраст (два хомизури плюс два года), для упрочения добытого им в борьбе грузинского происхождения крестился православным в Тбилиси, в маленькой Троицкой церкви. Участвовавшие в ритуале лица – крестный отец (автор этих строк) и крестивший священник – были почти на полхомизури года младше него. И произошло это, конечно же, двадцать шестого августа, то есть в хомизур-августе, в восьмом, то есть в двадцать шестом месяце, 2 + 6 = 8.
Джони
Великий русский реформатор Столыпин не обделил своей заботой и вниманием карательную систему России, которая, на мой взгляд, и по сей день является жизненно важной и, возможно, главной системой этого государства. Он ввел собственные правила этапирования заключенных в тюрьмы, и люди, находившиеся «по ту сторону баррикад», тут же придумали термин «столыпинский этап». Были созданы сборные пункты в этапных тюрьмах, где месяцами собирали заключенных, следовавших в одном направлении, и, когда их число становилось достаточным для заполнения (в советское время – для переполнения) должного количества вагонов, этап двигался. Так прошли мы с моим братом ростовскую, рязанскую и потьминскую тюрьмы и после полуторамесячного путешествия добрались до Мордовии, до поселка Барашево.
Когда я вошел в зону, первое, о чем мне подумалось, было, что это не зона, а следующая, промежуточная, составная часть столыпинского этапа. Это случилось потому, что во дворе я увидел несколько деревьев и, главное, небольшой сад, в котором цвели розы. Розы в моем представлении никак не увязывались с политическим лагерем или вообще с лагерем, если это был не пионерский лагерь. Возле роз стояли несколько заключенных – встречающая комиссия. Особое внимание привлек светловолосый молодой человек вроде бы славянской внешности, однако опытный глаз не обманешь. Было очевидно, что он грузин.
Джони, Захарий Константинович Лашкарашвили, родившийся 12 августа 1954 года в селе Доеси Каспского района, член коммунистической партии Советского Союза, был тбилисским таксистом со средним техническим образованием. Это крайне редкое явление не только в масштабе Грузии и Советского Союза, но и в мировом масштабе: кроме французского Сопротивления, какой-либо информацией о таксистах-диссидентах и активистах национально-освободительного движения мы не располагаем. Большая часть советских таксистов (если не все), напротив, были замечены в сотрудничестве с органами. Захарий Лашкарашвили в глубоком подполье создал национально-освободительное движение Грузии «Сего» и взялся за сложное и опасное дело привлечения садившихся в такси клиентов в свою организацию с помощью патриотических бесед.
В 1983 году Шеварднадзе очень было нужно доказать России нашу лояльность и покорность, и под предлогом 200-летия Георгиевского трактата он развернул по всей стране широкую прорусскую угодническую кампанию. Были сняты подобающие фильмы, поставлены спектакли, написаны стихи, поэмы, рассказы и романы, нарисованы картины карандашом, маслом, пастелью – короче говоря, из ста возможных сигналов колониальной покорности в Москву послали сто двадцать. Советская страна в ту пору вступала в глубокий экономический кризис: к талонам на мясо и масло прибавились совершенно экзотические талоны на фасоль. В соответствии с идеей Захария Лашкарашвили члены организации «Сего» в знак протеста против ознаменования годовщины трактата обклеили памятник Грузия-Мать именно талонами на фасоль.
13 июля 1983 года «Сего» разоблачили, ее членов арестовали и строго наказали: руководителя Захария Лашкарашвили приговорили к пяти годам колонии строгого режима и двум годам ссылки, а его сподвижников Гвиниашвили и Обгаидзе – к четырем годам.
Джони, как оказалось, был одним из лучших таксистов в истории Тбилиси. Я его в деле не видел, однако могу с полной ответственностью сказать, что за свою долгую пассажирскую практику (машину я приобрел поздно и в течение двадцати лет никаким другим видом транспорта не пользовался) я не встречал столь осведомленного в географии и топонимике Тбилиси водителя. Джони, например, знал не только то, что существовал автомобильный проезд с моей «родной» (я потому беру это слово в кавычки, чтобы мне, батумцу, не приписали претензию на звание коренного тбилисца) Ведзинской улицы на улицу Котэ Месхи, но и то, что эти две улицы связывал еще и узкий пешеходный проход, вернее, два узких прохода, один чуть пониже и другой метров на двадцать ниже, от моего дома. Мой адрес Джони, как истинный таксист, описал в далекой Мордовии следующим образом: «Улица Ведзинская, 17 – дом в районе Мтацминда, в окрестностях Арсена, на пересечении Ведзинской улицы и Четвертого Ведзинского прохода; как раз у этого дома кончается асфальт, затем и Ведзинская улица, и Четвертый Ведзинский проход продолжаются плохо выложенной булыжной мостовой».
Я тогда впервые узнал, что асфальт кончался у моего дома, раньше я к этому как-то не присматривался.
Джони был рожден географом. Тбилиси был не единственным предметом его географических дум и забот: он наизусть знал как физическую, так и экономическую географию любой страны. На уровне практикующего таксиста он знал крупные города мира, мог читать многочасовые лекции об односторонних улицах, автомобильных маршрутах и транспортных ограничениях Парижа, Лондона или Нью-Йорка.
Такие известные авторитеты, какими были всезнающий математик Вадим Янков, а также универсальный Георгий Хомизури, часто обращались к Джони с вопросами о религиозном выборе населения Заира или о численности зулусов в Южноафриканской Республике. Как-то раз Джони членам представительства Петербурга, которых ни за что на свете нельзя было заставить произнести слово «Ленинград», популярно объяснил, как попасть с того или иного места на Васильевский остров и сколько стоил бы этот проезд в разное время суток. Именно тогда признанный лидер питерцев Михаил Поляков сказал: «С таким таксистом я бы не то что на Васильевский остров, даже в Финляндию махнул!»
Любовь к географии привела Захария Лашкарашвили к любви к книгам. Особенно ценил он те, в которых были карты или хотя бы чертежи. Взяв книгу в руки, Джони ставил тяжелый диагноз: «футуризм-демократия» – это означало отсутствие карт. Нам за тяжелый труд платили копейки, при этом денег не выдавали – деньги существовали виртуально лишь на бумаге, однако совершенно невиртуально можно было выписывать книги. И Захарий Лашкарашвили выписывал и выписывал атласы. Под конец он выписал Большой атлас Советского Союза, который, по тогдашним финансовым представлениям, стоил невиданных денег – двадцать семь рублей и двадцать копеек. Для огромной страны была налажена замечательная система «Книга – почтой», и книги прибывали даже в такое заведение, как наше. Прибыл и атлас Джони, однако администрация отказалась его выдавать потому, что в Атласе имелась карта Мордовии и она могла быть использована для побега. Джони это дело не понравилось, и он предложил администрации вырвать из атласа карту Мордовии, но на своем специфическом русском языке выразил это следующим образом: «Давайте вырежем Мордовию». Администрация восприняла слово «вырежем» превратно и попыталась присвоить ему квалификацию теракта, ну а разобравшись, что именно имел в виду осужденный Лашкарашвили, ужаснулась – дескать, как можно из книги страницу вырывать, мы ведь советские люди, а не варвары. В это время поступило предложение заведующего библиотекой профессора Андерсона передать атлас библиотеке, чтобы там, не вырывая страниц, служители библиотеки блокировали любую попытку осмотра карты Мордовии. Смешное было предложение – и, возможно, потому-то оно и сработало. В книге сделали надпись: «В дар библиотеке ЖХ 385 / 3–5 от администрации» – и проблема была решена, только, как оказалось в дальнейшем, страницу Мордовии все-таки вырезали. Спустя много лет, будучи руководителем Национальной библиотеки, я подобного варварства в виде вырезок видел немало.
Захарий Лашкарашвили был не женат. Рассказывал о своей тбилисской любви, оказалось, что он любил некую Кетеван, студентку университета, и символичными ему казались имена: Закро и Кето (он имел в виду персонажей мультфильма). Рассказывал он и о том, как некий лектор в обмен на зачет предложил Кетеван нечто недостойное, и будущий политзаключенный в Варазисхеви защитил честь своей возлюбленной. Надеюсь, тот самый лектор непременно прочтет написанное мной и легко узнает себя, так как в определенном смысле он тоже был исключительным явлением в своей стране.
Несмотря на то что в конце концов Кетеван и разбила сердце Захария, он, не махнув рукой, в тот же день принялся искать новую любовь. Две такие любви застал и я. Первой была врач зоны Тамара, с которой мы редко встречались, однако у Джони были проблемы с легкими, и он часто попадал в больницу зоны, особенно зимой, соответственно, у него был и контакт с нашим единственным врачом. Любовь, конечно же, оказалась односторонней и кратковременной, каких-либо серьезных осложнений (стихов, поэм, бегства от суетной жизни) за ней не последовало. Однако иной была любовь последняя, я имею в виду любовь в зоне. Джони влюбился в классового врага всех заключенных, в госпожу Ганиченко – цензора.
Госпожа Ганиченко была женщиной действительно особой красоты и делать скидку на установленную природой для политической зоны и мест заключения специфику восприятия не приходилось. Украинская фамилия принадлежала ее мужу. Оказывается, этот человек некогда был начальником нашей зоны, однако за мягкость, проявленную к сталинисту Разлацкому, вернее, к усам сталиниста Разлацкого его освободили от этой должности, и он продолжал карьеру в соседней, третьей зоне. Сама госпожа была молдаванкой. Наипростейшее описание ей придумал Джони: она – Нестан-Дареджан (героиня «Витязя в тигровой шкуре»): телом как тополь, лицо белое, уста красные, глаза и волосы черные.
Когда цензор Ганиченко вступала в зону, эмоциональная температура поднималась на несколько градусов. Джони не слыхал слов современного ему грузинского поэта Тариэла Чантурия: «Ой, ребята, что за девочка, что за женщина! На сто рентгенов повысилась радиация!», но тем не менее говорил: «Радиация повышается». Большинством овладевало неистовство. В политическом лагере деятельность кадрового цензора никого на добрый лад не настраивает, тем более что свое черное дело госпожа цензор делала с настроем, называемым по-русски «злорадством», грузинские словарные эквиваленты не способны описать радость, с которой красивая госпожа цензор в последний день отправки письма с обаятельной и таящей определенный интим улыбкой возвращала заключенному письмо – дескать, с точки зрения цензуры оно неприемлемо. Главный заключенный психиатр и психолог зоны, фрейдист-юнг-адлер-фроммист, доктор Борис Исаакович Манилович утверждал, что на самом деле злой цензор внутренне добрый человек, возвращая заключенному написанное родным письмо, она в это время получает близкие к оргазму импульсы, то есть она любит заключенного. Михаил Поляков повторял слова Оскара Уайльда о том, что красота – особый вид гения, ибо не требует понимания, а затем мысленно удалялся в свой далекий Питер и цитировал Пушкина: гений и зло несовместимы – либо приводил в свидетели слова другого знаменитого петербуржца о том, что красота спасет мир. Однако никакая поэтическая поддержка петербуржцев и грузин не спасала цензора Ганиченко, когда заключенные видели в ее руках стопку писем, предназначенных для возврата. Вот уж когда никто не желал видеть ее красоты!
Однажды красота цензора затянула и меня, и у меня вырвалась фраза: «Я бы ей отдался», вызвавшая шум и возмущение большинства демократов зоны. С согласия всезнающего Вадима Янкова мне пришлось сослаться на то место из «Илиады», где Гомер, мастерски описывая красоту прекрасной Елены, ни слова не говорит о ее теле, лице или глазах. Троянские старцы ругают Елену, но, когда эта божественная красота проходит мимо них, они потихоньку меняют тон и наконец заключают: «Да, ради такой женщины можно начать войну!» Несмотря на то что Янков оценил точность цитирования и заявил, что в целом Гомер приведен верно, мою «выходку» не одобрил социалист Фред Анаденко, напомнив мне мудрость Мао: «Не пей, спьяну ты можешь обнять классового врага».
Поначалу Захарий Лашкарашвили был враждебно настроен по отношению к Ганиченко. Это можно было понять, так как по предложению моего брата Давида Бердзенишвили мы, трое грузин, как говорили в зоне, три «швили» – два Бердзенишвили и Лашкарашвили, – с первого же дня, как оказались в зоне, начали писать письма на грузинском языке. До этого все письма писались по-русски, чтобы цензор могла прочесть их и вернуть авторам. Три месяца сражалась с нами Ганиченко, три месяца высылал нам предупреждения тбилисский КГБ – бросьте эту глупую шутку, и три месяца наши родные и близкие не знали о нас ничего. Однако информация о том, что людям запрещают писать на родном языке, просочилась за рубеж, и Ганиченко проиграла войну с нами. Теперь наши грузинские письма, в обход Ганиченко, проходили цензуру в тбилисском КГБ. После нашей маленькой победы не только в нашем, но и в пермских политических лагерях заключенные начали писать письма на родном языке. Естественно, это не прибавило Ганиченко любви к грузинам, и теперь она охотилась на приходившие к нам письма, ввела новые жесткие правила, мне не отдавала писем жены, а Джони – писем матери, говоря, что это люди с другой фамилией и женой или матерью они быть не могут. дело разбиралось серьезно. Мне пришло письмо со следующим обратным адресом: Тбилиси, ул. Ведзинская, 17, Инга Ширава. Цензор не отдавала мне письмо, допытываясь, кто этот Ширава. Я говорил ей, что Инга Ширава – моя жена, что в Грузии большинство женщин, выходя замуж, сохраняют девичью фамилию, поэтому фамилии моей жены или матери Лашкарашвили не совпадают с нашими. «Вы, грузины, люди одного племени, – заявила Ганиченко, – выступаете в качестве свидетелей друг для друга, вам нельзя доверять!» И она вызвала в свидетели эксперта по кавказским делам Рафаэла Папаяна. Папаян категорично заявил: «У нас жены носят фамилию мужа, и, наверное, так же происходит и в Грузии». (Тут мне вспомнился рассказ одного моего педагога; оказывается, известный русский академик Соболевский не верил, что в грузинском синтаксисе подлежащее может быть в трех падежах, и сердился: «Подлежащее может быть лишь в именительном падеже!») Естественно, засим последовала грузино-армянская напряженность, невиданная после 1919 года. В ход были пущены болезненные аргументы грузинской азбуки, мцхетского храма Джвари, Руставели, коньяка, тбилисского «Динамо» и ереванского «Арарата», и в дело вмешался истинный мудрец, Нестор нашего лагеря (характеристику Нестора, Ахилла, Елены Прекрасной и других предложил Борис Манилович) Вадим Янков, супруга-армянка которого в обоих браках сохранила свою девичью фамилию и который знал не только о том, что грузинские женщины сохраняют свои девичьи фамилии, но и о сложнейшей литовской системе женской фамилии, когда у девушки одна фамилия, у замужней – другая, а у вдовы – третья (при этом сохраняется первоначальная основа фамилии). Тут Янкова поддержал Витаутас Скуодис, и Ганиченко нехотя передала мне письмо супруги, но Лашкарашвили она мучила еще два дня.
Вот такое чудовище полюбил Джони. Едва завидев высокий силуэт, стройный стан, как у модели на подиуме, он восклицал: «Он пришел!» В вопросе грамматического рода Джони был принципиален, он и после тысяч замечаний, даже упоминая собственную мать, употреблял местоимение «он» и шел Ганиченко навстречу. Не знаю, что она думала, видя на фоне выражения полного отвращения к себе сотен людей один влюбленный взор, но политический лагерь беспокоился, заключенные не могли поверить, что любовь брала верх над классовой ненавистью. Не помогло делу наспех переведенное мной и Жорой Хомизури стихотворение Галактиона Табидзе «Как-то раз вечером»:
Я, конечно, оказался белым,
Когда пули просверлили воздух.
Это стихотворение, если не наизусть, то хотя бы близко к тексту знают все истинные батумцы, так как его действие происходит в их городе: «Батумское солнце горело, заходя, спокойный ветер шумел на море» – история трагического чувства Денди и Вероники.
Однако финал стихотворения, где божественная Вероника в конце концов оказывается совершенно бульварной революционеркой и убийцей, Веркой из Калуги, сыграл против первоначального замысла. С этим вряд ли согласился бы Галактион, ранее, в другом стихотворении о Веронике и, соответственно, о Ганиченко выразивший иное соображение, однако Фред Анаденко и Дмитро Мазур не то что Галактиона, случалось, даже самого Фридриха Энгельса не уважали (про Маркса этого не скажу, не возьму на себя греха социалистов зоны).
Создавались комиссии (грузин считали пристрастной стороной и даже ненавидящего Ганиченко Хомизури в комиссию не брали), вызывали Джони, читали влюбленному нравоучение, но, как волка ни корми, он все в лес смотрит. джони что-то обещал, однако на следующий день «Он пришел» начиналось с новой силой. Между тем «Он» избрала вызывающую тактику – стала придавать одеванию и разукрашиванию новое и изничтожающее заключенных особое внимание и дошла до такой степени, что однажды даже у Анаденко вырвалось: «Ну красива, чертовка!» Пришло время, и Джони вызвали в администрацию, спросили, знает ли он, чья жена Ганиченко и доводилось ли ему слышать что-либо о полковнике Ганиченко, на что проживавший в детстве в Каспи Лашкарашвили ответил вопросом: «Знаете ли вы, кем был Георгий Саакадзе?» – и добавил, что им следовало бы знать, надо было прочесть Анну Антоновскую или хотя бы фильм посмотреть, под конец же бросил: «Это шутка, я Его не люблю, у меня грузинский невеста ест» – и его оставили в покое.
Русский давался Джони тяжело. Правда, разговаривал он смело, однако правильный русский давался ему с трудом. Мать приехала навестить его, и так как личная встреча ему еще не полагалась (личная встреча в колонии строгого режима полагалась заключенному раз в году длительностью от одного до трех дней, нам, как правило, давали два дня, шпионам, изменникам Родины, террористам и военным преступникам – три), то Джони дали право на двухчасовую встречу со стеклом, телефоном и Тримазкиным (Тримазкин был одним из сравнительно незлобных офицеров администрации). Когда мать сказала Джони: «Гамарджоба, швило!» («Здравствуй, сынок»), Тримазкин восстал: «Говорите только по-русски!» И начались муки грузин. Джони рассказывал: «Ведь какой я знаток русского, однако по сравнению с моей матерью я – Пушкин! Она его вообще не знает». Как только мать переходила на грузинский, Тримазкин огрызался на нее, получая в ответ: «Sikvdili da kubo!» («Смерть тебе и гроб!»). Тримазкин приказывал ей: «По-русски!» И мать отвечала: «Смерть и гроб!» – а столько идиоматического русского не знал даже мордовского происхождения Тримазкин. Наконец, если верить Джони, они говорили на таком русском: «Натела замуж вышел. Он такой красивый, ну, ламаз, что твалс вер вашореб, понимаешь?» Тримазкин волновался: «Кто красивый?» «Натела, Натела красивый», – говорил ему Джони.
Мне кажется, что, публично рассказывая об этом, то есть при сольном выступлении перед двадцатью заключенными, Джони, как истинный грузинский краснобай, малость преувеличивал. Не может быть, чтобы его мать не знала элементарного русского, но что матери и сыну, не видавшимся годами, не давали поговорить на своем родном языке, – это факт. Сейчас, когда один из возвысившихся родных сыновей этой системы людоеда заявляет нам, «каким ужасным событием был развал Советского Союза» и что у того, «кого развал Советского Союза не огорчил, нет сердца», для Джони, его матери и меня в его выражениях недостает убедительности, говоря на рабочем языке творца этой максимы нового времени «Wie bekant, es ist eine unbestrittene Tаtsache» (немецкий: «Как известно, это просто бесспорный факт»).
Наподобие популярного хазановского персонажа, Джони окончил кулинарный техникум. Так как из-за слабых легких он часто попадал в больницу, ему полагалась диета. «Диета» плохое слово на воле, зато в тюрьмах и лагерях это греческое благородное слово было заряжено крайне позитивным содержанием. Диета прежде всего означала 1 вареное яйцо, 100 г белого хлеба, 200 мл молока, 20 г сливочного масла, 60 г сыра и 120 г вареной говядины в день (за все время заключения ни один из нас в глаза не видел этих божественных продуктов). Джони лишал свои легкие масла и берег его для сердца – для Нового года, – собирал в банке с водой. В 1986 году Джони Лашкарашвили приготовил новогодний торт. Роль муки выполняла полученная по нашей совместной технологии масса: выданный 9 мая 1985 года белый хлеб Джони тотчас нарезал на мелкие кусочки и за восемь месяцев высушил без солнца, затем размельчил (точнее, истолок) и просеял через персональное микросито Рафаэла Папаяна, отруби же употребил для украшения торта (ими была сделана надпись – «1986»). На молочном порошке, сливках, «муке» и воде была замешана бисквитная масса, которая была выпечена в знаменитой печи Гриши Фельдмана. Для приготовления крема были использованы сливочное масло, вареная сгущенка (бережно припасенная из полученной мной в сентябре посылки) и ваниль из посылки, полученной Джони в октябре (так было всегда: я получал орехи, чеснок, сушеный красный перец, сушеную кинзу и мели сунели, а Джони – корицу, душистый перец, лавровые листья, имбирь и ваниль). Премьера торта состоялась первого января 1986 года, в 00 часов 01 минуту, после благословения нашенским самодельным напитком наступления Нового года.
Театралы знают, как называется грандиозный успех премьеры. Я лишь, подражая Гомеру, могу описать испытанный в начальные минуты первого января 1986 года кулинарный шок: Хомизури сказал односложное «Вах!», Рафик сказал двусложное «Пах-пах!», Генрих сказал трехсложное «Карабах», а я сказал: «Лучше Ганиченки» (на украинский лад мы тоже склоняли украинские фамилии. Между прочим, в свое время так же поступал и Чехов: поскольку в тбилисском изоляторе не было других книг, я почти наизусть выучил последние тома чеховского многотомника – с перепиской писателя). Джони был счастлив: «Говорил же я, что я знаток кулинарии!»
В нашем лагере произошел гологеоргианский, то есть сугубо грузинский инцидент. Имеется в виду, что в нем участвовали лишь этнические грузины. Жора Хомизури обожал Рабле, я же считал, что здесь говорила его грузинская кровь, так как более «грузинского» автора в мировой литературе, чем Франсуа Рабле, француза до мозга костей, я не знаю. Вместе с тем надо признать, что Рабле был не чужд и Мордовии – в Дубравлаге и в Саранске провел годы своего заключения замечательный русский исследователь Рабле Бахтин, так что Рабле в нашем лагере был родным человеком. Как-то стояли мы с Жорой Хомизури в умывальне, в так называемой «курилке», и беседовали о Рабле. Жора поинтересовался, переведен ли Рабле на грузинский. Я ответил, что, конечно же, переведен, более того, существуют целых два перевода, неполный перевод госпожи Багратиони и полный – Гогиашвили. Гогиашвили обратился к интересному художественному приему, переведя кое-что на кахетинский диалект. К данной беседе присоединился еще один грузинский обитатель зоны, Арсен Лолашвили – услышав краем уха слово «кахетинский», он обиделся: «Почему это ты кахетинцев нехорошо упомянул?» – и двинулся на меня. «Курилка» не вместила конфликта, и мы оказались во дворе зоны: Арсена держал Джони, а меня – Жора. Необычное явление – внутригрузинский конфликт, сопровождаемый не вместившимся в толковые и орфографические словари грузинского языка лексическим разнообразием, – оглоушило ЖХ 385 / 3–5. К нам никто не смел приблизиться.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?