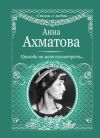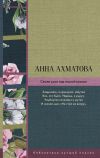Текст книги "Записки об Анне Ахматовой. Том 3. 1963-1966"

Автор книги: Лидия Чуковская
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Мы простились. Домой я возвращалась с неменьшей смутой в душе, чем вышла из дому. Хочет он сделать что-нибудь? Или не хочет? Или хочет, но не может? Кто кому подчинен – он Лесючевскому или Лесючевский ему? Серое лицо, синие губы, красные веки – откуда в нем такая измученность? Мне на минуту сделалось стыдно: частенько говорила я об этом сгорбившемся человеке с насмешкой, со злостью. Я вспомнила, как один раз (уже после выступления Федина против «Литературной Москвы» и после Пастернака) мы с Ваней Халтуриным проходили мимо фединской дачи и Ваня сказал: «Тут на воротах следовало бы написать: “Дача Пилата”» – и я рассмеялась. А судьба Федина и ему подобных – это тоже совсем, видно, несмешная судьба.
Пережидая машины на шоссе, вспомнила я слова лейтенанта Шмидта, обращенные к судьям:
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже – жертвы века.
От пастернаковской цитаты стало мне на душе полегче52.
Не умею я, видно, драться.
____________________
Из Комарова воротилась Сарра Эммануиловна[47]47
Бабенышева. О ней см. «Записки», т. 2, «За сценой»: 109.
[Закрыть]. Она, оказывается, тоже, вместе с Фридой, часто бывала в Будке. Анна Андреевна о рецензии Книпович отзывается так: «Евгения Федоровна ставит мне в упрек, что в моей книге много смертей и ни одного воскресения. В истории человечества известно до сих пор только одно-единственное: воскресение Христа. Другого не знаю. Воскрешения, правда, совершаются. Пора бы Евгении Федоровне подумать, в каком качестве воскреснет она».
15 октября 63. Комарово. «Дом Творчества». • Сегодня, в день приезда, я хотела немного передохнуть, разобраться в черновиках, выписках, блокнотах, тетрадях, и вообще оглядеться внутри и снаружи. Непрерывный рокот волн, такой мне знакомый, детский. Быть может, думалось мне, и родное море увижу сегодня же? Здесь берега не плоские, как в Куоккале, а спускаться на берег надо с высокого обрыва. Но нет, сегодня еще только сосны и рокот, а с морем лицом к лицу я еще не встретилась. Другая случилась встреча. Из столовой, во время обеда, меня внезапно вызвали в тамошний вестибюль, к телефону, и незнакомый мужской голос произнес:
– Анна Андреевна просила вам передать, что ждет вас сегодня к себе непременно.
Если, после обеда, я не полежу хотя бы минут сорок – сердце соскочит с гвоздика, расстучится, и тогда уж никуда не пойдешь. Значит, сразу идти не могу. А темнеет рано. Значит, одна переходить вечером через рельсы не решусь – а Будка где-то там, по ту сторону линии. Там, дальше, дорога, объясняют, идет лесом – Озерная улица, дорога на Щучье озеро, потом где-то надо свернуть налево и тогда сразу Будка. Леса я не боюсь, а вот спутанных станционных огней, в темноте врезающихся мне в глаза, и, главное, толчеи на станции, толпы, – вот этого я боюсь отчаянно.
Из хороших моих друзей, да еще бывающих нередко у Анны Андреевны, здесь один только Володя Корнилов. За обедом мы условились отправиться в Будку сразу после ужина, а к ужину придти ровно в семь, спешно его проглотить – и – в дорогу.
Так и сделали. Вышли в полную тьму. Я уже изучила новый нрав своего зрения: ко всякой тьме я постепенно привыкаю и что-то начинаю различать, а вот огни во тьме – они источают не свет, а боль, и не видишь уж совсем ничего. Конечно, без Володи мне бы через пути благополучно не перебраться. Зеленые, желтые, красные, вой электричек, приближающихся к станции с обеих сторон сразу, и беспорядочно мечущаяся толпа. Из всего этого хаоса Володя вывел меня твердой рукой. Но есть у моего доброго поводыря серьезный недостаток: молодость, сила. Очень уж он скор. Быстр. Неудержим. Сам несется, как электровоз, и ничем его не затормозишь.
Озерная – это, по-видимому, попросту обыкновенная лесная просека. Сейчас там асфальт и зеленоватые, редкие, не колючие огни фонарей. Грохот станции остался позади, дорога тихая. Володя расспрашивал меня о нашей жизни в Куоккале, и я рассказывала53. И тут, во время рассказа, вдруг выплыло из небытия давно потерянное мною, – приехав сюда я все пыталась вспомнить его, но не удавалось, – давно забытое мною слово: Келомякки. Слово из моего финляндского детства. Когда мы жили в Куоккале, то станция, которая сейчас переименована в «Комарово» – она еще называлась по-фински: «Келомякки». «Вы где дачу снимаете – в Келомякках?» – спрашивали тогда. – «Нет, в Териоках». Русификация тогда не доходила до переименования финских местностей на русский лад. Куоккала тогда так и называлась Куоккалой, а не Репиным, как теперь. Да что названия! Теперь тут ни единого финна.
Володя круто и внезапно свернул куда-то через канаву в лес. Рытвины, колдобины, а главное, еловые ветви, норовящие содрать с меня очки. Электрички, – те хоть по ровным рельсам катят, а мой добрый поводырь, не уступая им в скорости, лупит через корни и пни. Я еле спасаюсь, держась за хлястик его плаща.
– Володя, нет ли другой дороги?
– Есть. Но так, наискось, ближе… Вот и пришли.
Забор. Калитка. Невесть что. И вдруг, в слабом свете я разглядела крыльцо. Две ступеньки.
Володя постучал. Никакого ответа. Он постучал сильнее.
Дверь открыла какая-то женщина – полутьма, не вижу кто, голос незнакомый – потом еще одна дверь – из тьмы в свет! – еще одна слева – и на пороге большая, ярко освещенная, радостная Анна Андреевна, протягивающая мне руку с громким возгласом:
– Ура!
Она поздоровалась с Володей, сказала, что не слышала стука, потому что слушала музыку, велела нам раздеться, и мы вошли.
Ее комната. Она за письменным столом, мы с Володей – напротив. Пока она расспрашивала Корнилова, как подвигается работа над новой поэмой и когда он ее почитает, я во все глаза разглядывала комнату. Ведь это не чужая комната (хотя бы и милая, а чужая) у Ардовых ли на Ордынке; у Ники; у Марии Сергеевны – это ведь ее комната, ее, ахматовская, уставленная ее вещами. (В последний раз я видела ахматовскую комнату только на улице Красной Конницы, в Ленинграде; до этого – чердачок на улице Карла Маркса, 7, в Ташкенте; до этого – в Фонтанном Доме, в 38 году, – а в новой, в той, что в писательском доме, на улице Ленина, еще не была…[48]48
Так никогда там и не побывала.
[Закрыть] В Москве же она живет не у себя – у друзей, и комнаты не выражают ее.
Что же здесь, в Будке?.. Жар от круглой черной железной печи. (Опять – весть из моего детства: такая черная круглая печка в Куоккале у нас тоже была, в передней, кажется, а в столовой большая, кафельная, с пестрыми изразцами).
Володя отнекивался и на расспросы Анны Андреевны отвечал не совсем внятными междометиями, я же крутила головой и глядела.
Поперек комнаты – письменный стол. Чем-то он не похож на другие письменные столы, но чем – не пойму. На столе высокие старинные подсвечники, в подсвечниках высокие свечи. Между свечами чернильница, тоже старинная, думаю – века ХVIII-го. Поверх чернильницы какой-то странный предмет: камень не камень, деревяшка не деревяшка. Форма? Змея не змея, птица не птица.
За спиной у Анны Андреевны стул, на стуле чемодан – открытый, с аккуратно сложенными папками. В углу напротив (слева, если глядеть от нее) – углом висят некрашеные книжные полки. Вдоль стены направо – постель: матрас, опертый о кирпичи и прикрытый темной накидкой. У двери – печь.
Вошел – не знаю откуда, с улицы или из соседней комнаты (если таковая существует) – высокий, рыжеватый, крупного сложения молодой человек. С Анной Андреевной он не поздоровался (наверное, они сегодня уже виделись), Володе кивнул небрежно.
– Лидия Корнеевна, – сказала Анна Андреевна, – позвольте вам представить: Иосиф Бродский… Иосиф, познакомьтесь, пожалуйста, это Лидия Корнеевна Чуковская.
Бродский поклонился, и мы пожали друг другу руки. Странное у него лицо. Странность в том, что хотя голова и все черты вылеплены крупно, отчетливо и не косит он нисколько, но в лице как будто нету центра, оно рассредоточено, как бывает у тех, у кого глаза смотрят в разные стороны… Однако длилось такое мое впечатление всего один миг. В следующий – лицо это сосредоточилось и оживилось.
– Ваш отец, Лидия Корнеевна, – сказал Бродский, слегка картавя, но очень решительно, – ваш отец написал в одной из своих статей, что Бальмонт плохо перевел Шелли. На этом основании ваш почтеннейший pére даже обозвал Бальмонта – Шельмонтом. Остроумие, доложу я вам, довольно плоское. Переводы Бальмонта из Шелли подтверждают, что Бальмонт – поэт, а вот старательные переводы Чуковского из Уитмена – доказывают, что Чуковский лишен поэтического дара.
– Очень может быть, – сказала я.
– Не «может быть», а наверняка! – сказал Бродский.
– Не мне судить, – сказала я.
– Вот именно! – сказал Бродский. – Я повторяю: переводы pére’а вашего явно свидетельствуют, что никакого поэтического дарования у него нет.
– Весьма вероятно, – сказала я.
– Наверняка, – ответил Бродский.
– Иосиф, – вмешалась Анна Андреевна, – вы лучше скажите мне, кончилась ли ваша ангина?
– Кончилась. Спасибо. Глотать не больно. Я здоров. Бродский простился с Анной Андреевной, кивнул нам с Володей и вышел.
Володя, ерзая на стуле, начал:
– Ну и характер… Я…
Анна Андреевна перебила его, заявив, что желает прочесть нам свои новые стихи.
– Это только отрывок, – пояснила она. – Это отрывок из пьесы. Разговор ведут голоса лунатические. Собеседование лунатиков. Кажется, это только самое-самое начало будущей пьесы. Не знаю еще[49]49
Начало пьесы «Пролог» – БВ, Седьмая книга.
[Закрыть].
Она прочитала отрывок – из пьесы или из чего-то другого – не поймешь. Судя по тому, что стихи разбиты на реплики – это произведение относится к числу драматических. Действия же пока нет. Лунный луч, заговоривший ахматовским голосом. Хотя го́лоса там три, или можно даже считать четыре, но все они ахматовские. И при том новые. В общем я была до такой степени сбита с толку, что боялась ее расспросов. Лучше бы чтение никогда не кончилось, и слушателям не пришлось бы отвечать. Но Анна Андреевна окончила, и расспросы начались.
Мы оба – и я, и Володя – не блистали ясностью и внятностью. Володя, по-моему, и не пытался. А я попыталась, «но слова мои были смутны». Я сказала, что это, в своем роде, сестра «Поэмы без героя», потому что тут тоже, как и там, воплощен поток времени, но там речь идет о кануне двух исторических эпох, двух войн и одной после-войны, здесь же поток времени дан вне истории. Здесь встречаются – или не встречаются? – люди разного времени, и речь идет об их трагической «невстрече». Они разминулись, но при этом сосуществуют… Я сбилась и умолкла.
Показалось мне, что Анна Андреевна была довольна.
– Категория времени гораздо сложнее, чем категория пространства, – повторила она мысль, уже однажды слышанную от нее мной.
Потом она показала нам стихи Бродского – трудно уловимые, но несомненные. Голос у него новый, странный и сильный. Запомнить, впрочем, мне не удалось ни строки. Потом Анна Андреевна с энтузиазмом принялась хвалить красоту одной девушки, невесты Бродского: «таких на свете нет… тоненькая… умная… и как несет свою красоту! Ведь вот моя Аня, она ведь тоже красивая, но она – как это теперь называется? – халда… Одеться не умеет, держаться не умеет, и все противно: и как говорит, и что́ говорит, и как ходит».
Анна Андреевна попросила Володю найти на полке книгу ее стихов по-итальянски. Толстая, прекрасная книга, приятно в руки взять. А переводы какие? А Бог их знает. Я побоялась тронуть эту тему. Ее портрет: фотография 59 или 60 года[50]50
Anna Achmatova. Poesie. A cura di Raissa Naldi. Presentazione di Ettore Lo Gatto. Nuova Accademia, Milano, 1962 (67 стихотворений и отрывок из «У самого моря»).
[Закрыть]. Показала нам и шведскую газету с большой статьей о ней. Тут Модильяни; тут фотография в Мраморном (1926) и еще одна – та́, со странным поворотом головы, со скошенными глазами и странным ртом (1921)…[51]51
Перечисленные фотографии можно увидеть в книге: Анна Ахматова. Стихи, переписка, воспоминания, иконография / Составитель Э. Проффер. Анн Арбор: Ардис, 1977.
[Закрыть] Потом Анна Андреевна объявила, что слышала о моем походе к Федину и просит рассказать подробно.
Я рассказала.
– Вы, я вижу, Лидия Корнеевна, плохо разбираетесь в субординациях, – сказала она. – Не Федину, первому секретарю Союза Писателей, подчинены Лесючевский и Книпович, а прямо наоборот. Вот если бы вы искали у Лесючевского управы на Федина – вы имели бы полный успех… Федин – седой, почтенный, беспартийный – да он рожден изображать собою председателя Союза Писателей. Собрания Сочинений, и языки знает, и голос бархатный. Он выглядит весьма импозантно, в особенности на Западе или в Ленинграде на международном симпозиуме.
– А зачем ему было передо мною изображать, будто он мне точка в точку сочувствует, Лесючевским и Книпович возмущается и попробует заступиться за вашу книгу?
– Он не изображал. Константин Александрович, наверное, искренне сочувствует и вам и мне. Но он понимает, в отличие от вас, Лидия Корнеевна, что он против Лесючевского, да еще помноженного на Книпович, – пешка, а вы до сих пор не поняли… «Бег времени» зарезан, и 25-го я еду в Москву набирать переводы. Для денег. А здесь остаюсь еще на неделю, до 23-го, только ради вас…
Нам с Володей пора было: вечером в Дом Творчества возвращаться надлежит не позднее одиннадцати.
– Завтра приходите непременно, – сказала Анна Андреевна на прощание.
Мы вышли в ту же тьму. Ни луны, ни звезд – тьма. Я умолила Володю идти на Озерную по ровной дороге, а не через лесок. На Озерной спокойные, зеленые, редкие фонари, а впереди – спутанные огни станции. Я думала о том, что Анна Андреевна сейчас очень уж ласкова («остаюсь здесь только ради вас») и хороший ли это знак? В Ташкенте, накануне ссоры, она тоже была очень со мною мила, беспокоилась, если я пропускала два вечера и кого-нибудь за мною посылала: «я вас так жду», показывала каждую новую строчку, советовалась, ну и пр… Не расхрабриться ли мне и не узнать у нее теперь, через столько лет, что же такое случилось тогда в Ташкенте?
– Видали? – спросил вдруг Володя, остановился на секунду и сразу зашагал дальше. – Видали, какой характер… Бродский каков?
Ответить я не успела. Володя шел быстро, говорил быстро, я перебивать не успевала.
– Вот какой характер! Он думает, если поэт, ему все позволено! Ведь он вас не знает, видит в первый раз и сразу грубит… Зачем? С чего? Только услышал фамилию и сразу… Ведь вы – друг Анны Андреевны, ее гостья, она хозяйка, и ей неприятно. Ладно, ладно, он поэт, но такой характер удивительный!
Я сказала, что характера у Бродского еще, наверное, и нету, рано ему еще иметь характер, а это просто мальчишество, юность. «Понимаете, Володя, вы молодой, но вам уже за тридцать, мне уже пятьдесят шесть, а ему лет двадцать, и от того охота резать правду-матку в глаза. Ему не нравятся переводы Корнея Ивановича (он, наверное, только что их прочел и статью о Бальмонте) и вот, как услышал мою фамилию – так из него, как пробка, мгновенно и выскочило суждение».
– Да ведь не вы переводили Уитмена и писали о Бальмонте. А у него язык чешется, только бы сказать неприятность.
Я хотела объяснить, что я ничуть не в обиде, никакого оскорбления Корнею Ивановичу он не нанес, о его переводах пусть думает, что ему хочется, а Бальмонт все равно плохой поэт, и переводы у него дрянные, расфуфыренные54.
Но тут мы подошли к станции. Сутолока, свистки, огни колются.
Володя скоро уедет, ну как я тут буду одна переходить через рельсы?
– Нет, видели, какой характер? – повторил Володя еще раз, когда мы простились в холле Дома Творчества, расходясь по своим этажам.
16 октября 63 • Опять то же вечернее путешествие к Анне Андреевне вместе с Володей. Она оживленная, веселая, чувствует себя сегодня отлично. Когда, не помню в какой связи, Володя заговорил о Пастернаке, она спросила:
– Рассказывала ли я вам эпизод с Поливановым? Как он на меня накричал?
Мы оба не знали – ни кто такой Поливанов, ни как накричал.
– Это было в Москве, еще у Ники. Ко мне пришел физик, Миша Поливанов. Симпатичный и эрудированный молодой человек. Он пастерначист до мозга костей, до кончика ногтей, до корней волос, он яростно влюблен в Пастернака…55 Когда я имела неосторожность произнести по адресу Бориса Леонидовича нечто не совсем почтительное – поднялся крик. Оскорбление величества! «Я говорил с Борисом Леонидовичем два раза – это сама искренность». – «Я говорила с Борисом Леонидовичем двести раз – это само лукавство»… Теперь Миша Поливанов возымеет обыкновение утверждать, что Ахматова и Пастернак были на ножах. Но я этого не боюсь. Я приму свои меры.
Она попросила Володю найти в чемоданчике, раскрытом на стуле у нее за спиной, синюю папку, развязала ее и отыскала среди бумаг два письма Пастернака – давние, довоенные, те, что читала мне когда-то еще в Фонтанном Доме. Там, в одном из писем, он объясняет ей, помню, что хотеть жить – ее безусловный долг перед людьми, потому что представления о жизни легко разрушаются, а она их главный восстановитель и созидатель… И о сборнике «Из шести книг» помню отзыв: «воплощенное чудо».
– Но эти-то ведь письма уж безусловно искренние, а не лукавые, – сказала я, перечитывая полузабытые строки (к сожалению, написанные не тем единственным, крылатым и сдержанным, невероятным почерком, – а на машинке), – эти-то письма искренни и подтверждают скорее мысль Поливанова, нежели вашу.
Читая, я передавала страницу за страницей Володе.
– Все эти сверх-восторги тоже не без задней мысли, то есть тоже не без лукавства, – ответила Анна Андреевна. – Борис Леонидович был человек редкостно добрый и изо всех сил старался тогда меня утешить. Вы помните эти годы.
Я спросила, сохранились ли подлинники? Сохранились, но, оказывается, не у нее. У нее одни лишь копии. Анна Андреевна когда-то отдала оригиналы на хранение своей приятельнице, Лидии Яковлевне Рыбаковой; Лидия Яковлевна умерла, а дочь ее, Ольга, вернула Ахматовой одни лишь машинописные копии. Почему? Объяснила так: «Оригиналы принадлежат мне, они получены мною в наследство от мамы». Однако, однако, однако, подумала я, что значит быть дочерью коллекционера! Какое же «наследство от мамы» – ведь не дарила же эти письма Анна Андреевна Рыбаковой[52]52
О Рыбаковых см. «Записки», т. 1, «За сценой»: 67, а также в кн.: В. Виленкин. В сто первом зеркале. М.: Сов. писатель, 1990, с. 11 – 14.
[Закрыть].
Володя бурно возмущался, я тоже. Почерк – это голос: единственный в мире голос – единственный почерк! И что это за дикая мотивировка? При чем тут «наследство от мамы», если налицо адресат?
– А я без внимания, – сказала Анна Андреевна. – Оригиналы не пропадут. Копии же я дам размножить и распространить. Вот и не выйдет, будто Ахматова и Пастернак на ножах55а.
Я осторожно спросила, писала ли она еще что-нибудь, кроме пьесы? Она достала из чемоданчика несколько листов машинописи и надела очки. Медленно, тихо и внятно прочла нам семь стихотворений. Оказывается, «Предвесенняя элегия», которая так мне полюбилась еще в Москве:
Простившись, он щедро остался,
Он насмерть остался со мной, —
это только начало целого цикла. Больше всего поразило меня стихотворение: «Не на листопадовом асфальте» – там все волшебное: и адажио Вивальди, и свечи, и смычок. И опять все новое, хотя чем-то и связано с пьесой. Ворожбой? Надвременностью? Я ничего путного сказать не могла, сказала только, что одного стихотворения не понимаю: «Красотка очень молода, / Но не из нашего столетья». Анна Андреевна с большой кротостью прочла его во второй раз:
Красотка очень молода,
Но не из нашего столетья,
Вдвоем нам не бывать – та, третья,
Нас не оставит никогда.
Ты подвигаешь кресло ей,
Я щедро с ней делюсь цветами…
Что делаем – не знаем сами,
Но с каждым мигом нам страшней.
Как вышедшие из тюрьмы,
Мы что-то знаем друг о друге
Ужасное. Мы в адском круге,
А может, это и не мы[53]53
Впоследствии «В Зазеркалье» (Полночные стихи, 3) – БВ, Седьмая книга.
[Закрыть].
Но я все равно не поняла. Не знаю, как Володя: он молчал. Анна Андреевна, ничего не объясняя, спокойно спрятала стихи в чемоданчик.
Постучался и вошел Бродский, а с ним черноокая девушка, сплошные ресницы, брови и кудри. Глаза живые, умные, улыбка прелестная.
Нам с Володей было пора. Прощаясь, Анна Андреевна просила меня завтра придти не вечером, а днем: врачи велят ей ежедневно гулять, «а мне это так тяжко, никто не умеет меня уговаривать, может быть, удастся вам».
Я обещала. Попробую. Что-нибудь придется мне в своем расписании переменить. Я-то сама гуляю с утра, потом, до обеда, работаю, после обеда – сплю. Попробую работать вечером, а с утра, после завтрака, сразу сюда.
17 октября 63 • Ровно в 12 часов я постучала в Будку. Идти было легко. Серый финский день, серое небо и под стать им благородная темная хвоя. На станции ни толкотни, ни огней, ни гудков. Переход простейший – и отчего это я так его боюсь? – а по Озерной между рядами рыжих стволов идти – одно удовольствие.
На стук мне отворила Ханна Вульфовна (я уже видела ее в прошлый раз, но забыла записать). Она осторожно постучала в дверь к Анне Андреевне, и та подала голос. Но не сразу. Я догадалась: разбудили! Вот беда, но ведь она сама назначила мне этот час. Анна Андреевна крикнула из своей комнаты, что сию минуту будет готова, и просила обождать в кухне. Скоро позвала меня. Она была уже одета, но еще не причесана: волосы до плеч. Ханна Вульфовна причесала ее и мгновенно подала ей завтрак, а мне чай. У нее доброе лицо, и я порадовалась, что возле Анны Андреевны добрая женщина56. Но зачем же она ее разбудила? Лучше бы мне уйти и придти еще раз – позднее.
– Что вы, Лидия Корнеевна, я уже давно не сплю. Лежу и со сна все ставлю в стихах на место. Я это называю «творческий час».
– Еще хуже! Помешала я вашей работе!
– Вздор. Повторяю вам, что осталась здесь на неделю только для вас.
Такие, сказанные уже вторично, лестные слова, не означали, однако, покорности. Когда она окончила завтракать, я надеялась, мы сразу отправимся на прогулку. Ничуть не бывало! Сегодня она слаба, она не может, ей не хочется, ей нездоровится. В другой раз. Завтра! А сегодня она будет читать стихи. Напрасно я напоминала ей о врачах, соблазняла прекрасной погодой. Нет! Мы никуда не пойдем, она будет читать стихи.
Достала из чемоданчика ту же папку, а из папки – то же «начало пьесы». Прочла вслух и велела говорить. – Я знаю, как вы правдивы. Вы не можете не говорить правды.
(Опять хвала. И опять больно. Ташкент! Ташкент! Отчего же тогда она поверила кому-то, кто, в отличие от меня, прекрасно владеет умением говорить неправду?)
Я сказала, что, кажется мне, ключ ко всему отрывку из пьесы надо искать в том голосе, который слышится издали. Сначала голос героини:
И в дыхании твоих проклятий
Мне иные слышатся слова:
Те, что туже и хмельней объятий,
А нежны, как первая трава.
Герой произносит свои проклятия. А «Слышно издали» – это и есть те «иные слова», которые героине загробья слышатся сквозь проклятия:
Все наслаждением будет с тобой —
Даже разлука.
Или:
Но прозвучит как присяга тебе
Даже измена…
В прошлый раз такое объяснение не пришло мне на ум, потому что вещь, хоть и очень ахматовская, но и очень новая. Но и в этот раз я в подобранном ключике не уверена.
– Так? – спросила я у Анны Андреевны. – Хотя бы грубо, «по смыслу»? Так?
– Если перевести с лунного языка на человечий, – нехотя ответила Анна Андреевна, – то, пожалуй, так. – И, видимо, недовольная, спросила опять: нравятся ли мне стихи? который голос больше? который меньше? Я ответила: более всего – «Говорит она». Ощущение «загробности» так удивительно сочетается здесь с приметами земной жизни: с шорохом сосен, со скрипом колодца, с криками ворон. И еще очень нравится «Слышно издали».
– А «Песенка слепого»?
– «Песенка» тоже, она звучит народным заклинанием, но какова роль этого слепца в пьесе, я еще не догадываюсь.
– Я тоже, – сказала Анна Адреевна.
– Не нравится мне только «Говорит он», в особенности «невероятным стоном»… Вообще во всех его проклятиях – какая-то приподнятая выдуманность. В монологе же героини поражает слово «лютня».
Для тебя я словно голос лютни
Сквозь загробный призрачный рассвет. —
Лютня! Какое восхитительное слово! И почему-то, не знаю, почему, но сразу веришь, что если из загробного мира могут доноситься до нас какие-нибудь звуки, то разве что только лютни. Не рояля, конечно, не виолончели, не скрипки, а только лютни. Прелесть слова обновлена стихом, слышишь слово точно впервые.
Анна Андреевна ничего не ответила, взяла у меня из рук листы и небрежно сунула их в чемоданчик.
Помолчали.
Затем она рассказала о каком-то инженере, ее поклоннике, который знает все ее стихи наизусть и еженедельно, вместе с женой, приезжал за нею в ЗИМ’е и возил по всем местам, упомянутым в ее стихах. И внезапно исчез. Она не понимает почему и огорчается.
Я не решилась спросить, возил ли он ее в Царское? Помню давние слова: «Царское для меня такой источник слез».
Да, а вчерашняя черноокая спутница Бродского оказалась вовсе не его невестой, как я вообразила, а просто приятельницей, женою молодого поэта Евгения Рейна.
– Нет, нет, эта очень милая, умная, тонкая, но та совсем, совсем в другом роде. Не похожа. И никакой косметики… Одна холодная вода.
Мы заговорили о Солженицыне. Неприятный вышел разговор. Она спросила, читала ли я главы из романа – те, где говорится о свидании заключенных с женами. Я ответила: да, читала. В Москве, у его друзей.
– Почему же он мне не дал их, ни словечком о них не обмолвился? Он был у меня в Ленинграде. Я еще в самом начале нашего знакомства сразу прочла ему «Реквием». А он мне глав о том же самом не дал, и даже не упомянул о них. Я так им всегда восхищаюсь, так счастлива, что до него дожила. За что же он меня обидел? Скажите, разве это хорошо?
Конечно, хорошего мало. Но как я могу объяснить, догадаться? Я сказала только, что главы эти, в сущности, никакого отношения к «Реквиему» не имеют. Время другое, и «обстоятельства места действия» – тоже другие, и внутренняя тема тоже другая. Ведь ЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, исполняя одни и те же обязанности – палаческие, – в разные времена исполняли их по-разному. Солженицын в своем романе изображает конец сороковых, а «Реквием» – это «ежовщина» (то есть облава на горожан с осени 36-го по осень 38-го). Дальше стало не хуже и не лучше, но по-другому. «Поднимались, как к обедне ранней, / По столице одичалой шли» – всего этого уже не было, многосуточных и многотысячных очередей тоже. Да и заключенные у Солженицына в этих главах не рядовые (которых в лагерях миллионы), а особые, привилегированные: работают в особом, столичном заведении, на шарашке. Они из лагерей выбраны по принципу профессий.
– А главы-то каковы? – спросила Анна Андреевна.
– Замечательные. Если весь роман такой, то это великий роман. Солженицын пишет на основном русском языке, это такая редкость и радость.
– За что же он меня обидел?.. – повторила она.
– Не стоит обижаться, – сказала я. – Тем более, что ведь скоро, быть может, он и принесет свои главы вам.
– А я еще подумаю, прощать его или не прощать, – ответила Анна Андреевна, но уже без горечи и не без юмора57.
И тут же рассказала, что вновь поссорилась с Гитовичем.
– Был у меня, пьянствовал с Ниной и Бродским. Когда Иосиф снял нагар со свечи, обозвал его холуем. Извинялся перед Бродским отдельно, передо мною отдельно, перед нами обоими вместе. Но я все равно не простила.
А меня начала одаривать. Сама добыла из бездонного чемоданчика новую какую-то папку и протянула машинописные листы со стихами под заглавием: «Еще пять».
На самом деле, их не пять, а шесть. Шестым оказалось стихотворение «Ты напрасно мне под ноги мечешь», очень страшное, о смерти, – то, которое она уже читала мне однажды в Москве. («Смерть стоит все равно у порога, / Ты гони ее или зови, / А за нею темнеет дорога, / По которой ползла я в крови».) Тогда я запомнила только эти четыре строки, а теперь попросила Анну Андреевну продиктовать мне все стихотворение целиком – среди машинописных его не было. И понятно: света ему не увидеть.
А за нею десятилетья
Скуки, страха и той пустоты,
О которой могла бы пропеть я,
Да боюсь, что расплачешься ты.
Когда Анна Андреевна кончила диктовать, а я писать (карандашом, небрежно, наспех) – она взяла перо и очень аккуратно проставила над всеми стихами эпиграфы: из Ахматовой, из Данте и, над последним, из Пушкина. «…Вижу я / Лебедь тешится моя». Я сразу вспомнила, как Анна Андреевна говорила в Москве: «И зачем этот господин так обо мне печется?», считая, что выдвижение на Нобелевскую премию и вообще слава на Западе – это дело рук Исайи Берлина. Значит, «Еще пять» – тоже обращены к нему… Ясно! Подзаголовок:
Еще пять
или
Стихотворения
из цикла
Сожженная тетрадь
(Шиповник цветет)
а эпиграф к первому: «Неска́занные речи / Я больше не твержу, / Ив память той невстречи / Шиповник посажу». Ведь «Сожженная тетрадь», «Шиповник» – это понятно, кому.
Анна Андреевна обозначила на моей небрежной записи «V», поставила «Москва» и подписала весь цикл[54]54
Три стихотворения из подаренных мне в тот день: «Как сияло там и пело…», «Не пугайся, я еще похожей…», «Ты стихи мои требуешь прямо…» вошли впоследствии в цикл «Шиповник цветет» (БВ, Седьмая книга); остальные, явно примыкающие к тому же циклу: «И увидел месяц лукавый», «Дорогою ценой и нежданной…» опубликованы посмертно – сначала в периодике (в журнале «Литературная Грузия», 1967, № 5 и в альманахе «День поэзии», М., 1973), а затем в ББП, с. 296-297. О стихотворении «Ты напрасно мне под ноги мечешь…», обращенном к тому же лицу, см. «Записки», т. 2, с. 263.
[Закрыть].
Подарки на этом кончились, но стихи и допросы – нет. Анна Андреевна спросила у меня, поняла ли я, в конце концов, «Красотку» – то́ стихотворение, которое она читала мне и Володе среди других, – кажется, семи. Я сказала: нет, не поняла. Она дала мне прочесть все семь глазами. Я прочла – вникнуть толком мне мешало ее ожидание.
– Поняли, что это единый цикл?
– Да… И что-то общее с «Прологом».
– А поняли стихотворение, которое не понимали раньше?
– Нет. Я не понимаю, кто эта дама. «Красотка очень молода, / Но не из нашего столетья».
– Это не женщина, а то состояние, в котором они находятся, – терпеливо объяснила Анна Андреевна.
– И состоянию подвигают кресло? «Ты подвигаешь кресло ей…» Состоянию – кресло?
– Лидия Корнеевна, я не узнаю вас сегодня.
Мне было пора. Обедают в Доме Творчества с двух до трех. Но Анна Андреевна ласково и настойчиво удержала меня. Наверное, в утешение моей тупости.
– Подумайте, как я оскандалилась. Недавно, слушаю по радио «Гранатовый браслет» Куприна. Я не поклонница этого классика, а уж эта вещь из рук вон плохая, безвкусная. Но – помните? Мандельштам в одной рецензии про меня написал, что я прессую русскую психологическую прозу. Помните?.. И что же? Мои строки: «В которую-то из сонат / Тебя я спрячу осторожно» – это точное совпадение с «Гранатовым браслетом». Там герой перед своей смертью просит любимую женщину играть «Appassionata». Только не говорите никому! Срамотища!58
18 октября 63 • Вечером у нее снова с Корниловым. Ханны Вульфовны, видимо, нет – нам долго не открывали. Володя обогнул угол Будки и постучал в светящееся окно. Анна Андреевна открыла нам сама. Говорит, не слыхала стука, потому что слушала музыку.
Сели. Она за стол, Володя на табуретку, а я в глубокое продавленное кресло.
– Узнаете? – спросила Анна Андреевна.
Я не сразу поняла: речь о кресле. Узнала! Оно то́ самое, ленинградское, еще из Фонтанного Дома. Там оно стояло у печки. Уже и тогда – четверть столетия назад! – оно было ободранное, продавленное, и сесть в него было легче, чем из него выбраться. Письменный же стол, странной формы, за которым сидит теперь Ахматова, оказался, по ее словам, вовсе не письменным, а туалетным. Зеркало и мрамор сняты – вот он и превратился в письменный. (В Ленинграде, в довоенной комнате, не видела я его. Не помню.)
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?