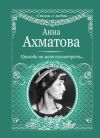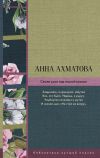Текст книги "Записки об Анне Ахматовой. Том 3. 1963-1966"

Автор книги: Лидия Чуковская
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Анна Андреевна протянула Володе стихи: получила их сегодня в дар от одной дамы, отдыхающей у нас в Доме Творчества.
Володя прочел, фыркнул и передал листки мне.
– Вслух, пожалуйста, вслух, – потребовала Анна Андреевна.
Читаю:
Я порой ненавижу тебя… —
и… остановка. В горле першит. Уж очень смешно.
– Жаль, что только порой, не правда ли? – отозвалась Анна Андреевна. – А теперь я вам свое прочту.
Она открыла книжку в твердом цветастом переплете.
– Это не новое, еще прошлогоднее. Из цикла «Тайны ремесла». Я почему-то его невзлюбила, сама не знаю, почему.
Что такое день выхода книги? Вот о чем оно написано. День встречи поэта с читателем. «Тот день всегда необычаен». Мне стихотворение тоже не очень понравилось. Оно, конечно, прекрасное и виртуозное, но какое-то уж очень рассудительное; обстоятельное и, при горечи содержания, почему-то легко скользит поверх темы. Боль наносят только две строки, заключительные:
Только тут и вздрагивает сердце в ответ. А «Моим и дыба хороша» – то есть моим читателям – самая, казалось бы, страшная строка – почему-то не задевает.
Я это постаралась выразить. Оказалась ли я среди тех, кто «мимоходом сердце вынет»?.. Надеюсь, нет.
Анна Андреевна закрыла книгу.
Помолчали.
Я спросила у нее, а потом и у Володи, читали ли они в одном из давних номеров «Литературной газеты» Фридину статью о музыкальном училище в Туле?[56]56
22 января 1963 года; «О понятиях, совсем не старомодных».
[Закрыть] О том, как одну тамошнюю молодую преподавательницу уволили по доносу студента? Нет, ни она, ни Володя не помнят, не прочли.
Фридина запись, сделанная ею на заседании месткома, где обсуждался донос и по этому доносу решено было уволить преподавательницу, гораздо живописнее, выразительнее, чем статья. В непосредственной записи каждый персонаж – директор, председатель месткома, завуч, парторг, кассирша, физкультурник и сама подсудимая, и Фрида – гораздо слышнее и виднее, чем в статье. Сделав маленькое вступление, я прочитала отрывки из подлинной записи.
Суть дела такова. Студенту Жохову, как поняла Фрида, необходимо было объяснить начальникам, почему тогда-то и тогда-то он не ночевал, как положено, в студенческом общежитии. Он подал рапорт: искусно соблазняла его и наконец соблазнила преподавательница училища, пианистка, Нина Сергеевна Петрова. А Петрова эта была уже у начальства под подозрением: в прошлом году «проштрафилась, видите ли, по сексуальной линии», объяснил Фриде директор.
В прошлом году что-то такое происходило между нею и преподавателем вокала т. Литвиненко… И вот теперь – опять…
«Директор: – Получив письмо Жохова, я вызвал Петрову, чтобы дала объяснения. При этом присутствовали: председатель месткома, парторг и завуч. А Петрова просит: нельзя ли наедине поговорить? А я отвечаю: не вижу, мол, необходимости. Она прочла письмо Жохова и побежала травиться. Ну, через неделю Петрова является. Мы ее сразу вызвали на местком, поскольку бюллетень кончился, а в заключении больницы сказано: “Сознание ясное, вполне ориентируется во времени и в окружающей обстановке”. А она: “я еще не в силах разговаривать”. Не в силах – ладно. Мы проявили чуткость, дали ей отсрочку».
Проявив чуткость, они отложили заседание месткома еще на два дня. Фрида, корреспондентка «Литературной газеты», осталась в Туле и присутствовала на этом сборище.
С глубоким вниманием слушала меня Анна Андреевна, и я продолжала читать отрывки из Фридиной записи:
«Директор: – Говорите, товарищ Петрова, мы вас слушаем.
Петрова: – Я взялась подготовить Олега Жохова в наше училище. Он очень способный, даже талантливый человек. Сначала он занимался усердно, а потом начал пропускать занятия, и я сказала ему, что больше работать с ним не могу. И велела поставить об этом в известность завуча.
Все, что он написал в письме – неправда. Что́ его толкнуло на такую ложь – не знаю. Мне очень трудно говорить… Все.
Председатель: – Что-то коротко очень!
Директор: – Мы просим вас ответить прямо: что толкнуло студента написать такое письмо? Надо отвечать прямо, а то придется сидеть здесь десять часов.
Петрова: – Мне нечего добавить к тому, что я сказала.
Председатель: – Нина Сергеевна, уважаемая, от вашей откровенности будет зависеть ваша дальнейшая судьба.
Дирижер-хоровик: – Зачем нам ваши сказки?
Завуч: – Про белого бычка!
Кассирша: – Чего-то я недопойму. Надо бы послушать молодого человека. Какие-нибудь подробности.
Математик (косая сажень в плечах, рубашка красная): – Я тоже считаю, что необходимо позвать Жохова.
Кассирша: – Да, да, позвать молодого человека! Подробности надо узнать!
Физкультурник: – Я все коридоры обегал, не нашел этого Жохова.
Математик: – Нет, мне все-таки хотелось бы услышать откровенность!
Председатель: – Нина Сергеевна, есть такая просьба к вам: рассказать все по существу дела. Если вы коллективу признаетесь, будет лучше. Ваше поведение – это своего рода оборона!
Голоса: – Это детская игра. Стыдно! Стыдно сказки выдумывать!
Петрова, тихо: – Мне добавить нечего.
Кассирша: – Нет, пускай молодого человека приведут. Я его желаю послушать.
Дирижер-хоровик: – Дайте мне слово, а то никогда не кончим. Я не верю, чтоб наш советский комсомолец мог написать такое письмо, если бы не было причины. У меня опыт, я таких, как Петрова, вижу насквозь! Сидит в коридоре на диване в юбке с начесом, понимаете, нога на ногу, в зубах, понимаете, папироса… То́ она в Москве, то́ она в Тбилиси, то́ она на экскурсии, то́ она на Стравинском, то́ она на Чайковском. И еще студенток своих на экскурсии да на концерты за собой таскает! Как вы смели в прошлом году посягать на советскую семью? На семью т. Литвиненко?
Математик: – Я здесь новый товарищ. Но у меня есть соображения. Педагоги занимаются формированием и воспитанием. Коммунистическая мораль – прогрессивная, жизнеутверждающая. А с Петровой произошел самый низкий, самый отвратительный поступок. Это поступок ло́жит на нас темное пятно. Этот поступок крайне низкий. Петрова отвергает этот свой поступок, но если Жохов подал такое заявление, значит, этот вопрос назрел… Преподаватель вокала т. Литвиненко защищал нашу родину, проливал свою кровь, а вы его соблазняли, так мне товарищи рассказывали. Нехорошо! Ох, нехорошо! Вы этим толкаете своих студенток на путь разврата. Этот ваш случай ошарашил нас полностью с головы до ног. Поступок крайний, из рук выходящий!
Завуч: – Неприятно сидеть на таком месткоме. Нам читают такую сказку про белого бычка и про золотую рыбку.
Класс Петровой держится чересчур сплоченно, он сорганизовался в какой-то нездоровый коллектив. После болезни Петрова жила у одной из своих студенток. Вы что – приживалка?
Петрова: – После болезни мне было трудно оставаться одной в четырех стенах. И я приняла приглашение Наташиной матери побыть у них некоторое время.
Физкультурник, ликуя: – Товарищи! Да ведь она призналась! Слышите, говорит, мне одной в четырех стенах неохота!
Завуч: – Вы панибратски обращаетесь со своими студентками. Кто вам дал право устраивать классные собрания у себя на дому? Это непедагогично! Нам надоело нянчиться с вами!
Дирижер-хоровик: – У нас своих дел, что ли, нет? Давайте, зовите Жохова!
Все: – Да, надо кончать! Жохова!
Физкультурник: – Сейчас сбегаю!»
И тут не выдержала Фрида. В записи пробел, пауза. Затем:
«Вигдорова: – Товарищи, опомнитесь!»
Тут, судя по записи, наступило продолжительное молчание… По-видимому, слегка опомнился директор.
«Директор: – Да, особой необходимости нет. И так все ясно.
Председатель: – А что, т. Вигдорова, вы с нашим коллективом не согласны?
Вигдорова: – Дело журналиста молчать, но…
Председатель, ободряюще: – Говорите, говорите, мы на вас жалобу писать не станем.
Вигдорова: – Пишите. Я привыкла… Что до моего мнения, я думаю так: когда Жохов принес свое письмо, ему следовало объяснить: это – подлость.
Председатель: – Э-э, т. Вигдорова, вы неправы. Я не вижу ничего предосудительного в его письме. Не вижу! Жохов – честный, порядочный человек. Когда он вначале сказал мне, будто ночевал в аудитории, я решил расследовать, где же он ночевал на самом деле. Тогда он и принес это письмо. И здесь уж все сказано без обиняков. Если мы Петрову оставим, что мы будем говорить студентам? Что мы будем объяснять, раз Жохов такое письмо написал?.. Вот вы, т. корреспондент, были на уроках у Петровой. Какое ваше впечатление?
Вигдорова: – Это замечательные уроки, артистические.
Завуч: – Ну, а я на уроках Петровой не был. Неприятно мне было ходить к ней. Нам этот всякий артистизм не нужен. И я считаю, что после письма Жохова педагоги увидели подлинное лицо Петровой. Уволить – и все.
Петрова: – Я очень прошу вас: дайте мне возможность довести до конца занятия с моими девочками.
Парторг: – По существу вы вели себя аморально… Да… По существу… Уволить…
Председатель ставит вопрос на голосование. Решают уволить – единогласно.
Директор: – Ну что ж, осталось написать приказ. С управлением культуры вопрос согласован».
– «По существу», – сказала Анна Андреевна и отвернулась к окошку. Потом – «Мы проявили чуткость».
Володя спросил, что же стало с Петровой дальше? Я рассказала: она еще раз пыталась покончить с собой. Фрида приютила ее у себя в Москве и вы́ходила. После статьи в газете и множества сложных перипетий Петрову удалось устроить на работу в другом городе. Тульский директор, впрочем, тоже не ленился: он, проявляя чуткость, позвонил новому начальству и рассказал об аморальном поведении Петровой. Фрида, в заметке опубликованной ею в ответ на многочисленные письма читателей, сообщала: директор, столь усердно потрудившийся, чтобы довести молодую талантливую женщину до самоубийства, приложил все усилия, чтобы загубить ее будущее… Но без успеха.
– Да, – сказала Анна Андреевна, – сказка о золотой рыбке и белом бычке – сказка с хорошим концом. Нина Сергеевна без работы не осталась. Но в Туле остались те же учителя. Им по-прежнему нужны «подробности». Подумайте: эти люди не чему-нибудь учат, а музыке! Музыке! О себе они говорят: «Я здесь новый товарищ»!
Да, говорят страшно. И не только «по содержанию», а каждая интонация – дикарская. Слог страшен. Уровень душевной культуры.
Мы сидели, молчали. Я уж думала – не напрасно ли вылила на голову Анне Андреевне этот ушат. Ей было не по себе.
– Вы едете в Москву 25-го? – спросил Володя, перебивая молчание.
– Хочу. Но хочу так сильно, что назло себе могу заболеть.
Помолчали еще. Наконец, Анна Андреевна спросила Володю, кончил ли он свою поэму и не может ли прочитать. Володя ответил: ничего своего читать не станет, а предложил прочесть одно стихотворение Межирова и прочел межировские стихи наизусть. Очень они мне понравились. Они написаны двустишиями, сухими, точными, необъятно содержательными и притом запоминаются сразу. Я запомнила:
Недолет. Перелет. Недолет.
По своим артиллерия бьет.
______________
Мы под Колпиным скопом лежим:
Артиллерия бьет по своим.
______________
Это снова разведка, наверно,
Ориентир указала неверно.
______________
Из окопов никто не уйдет:
Недолет. Перелет. Недолет59.
И еще несколько двустиший такой же силы. Но целиком я не запомнила.
– Да, – сказала Анна Андреевна. – «Надо все-таки бить по чужим,/А она – по своим, по родимым». Вот это настоящие военные стихи. «Нас комбаты утешить хотят, / Нас великая родина любит. / По своим артиллерия лупит, / Лес не рубят, а щепки летят».
Тут я услышала, что там не только двустишия, но и четверо… (Когда Анна Андреевна сразу, наизусть, читает чужое – это, пожалуй, единственный верный признак, что стихи понравились ей по-настоящему.)
Она попросила Володю записать для нее Межирова. Володя пристроился к столу и начал записывать, бормоча извинения по поводу своего почерка. Анна Андреевна терпеливо ждала. А пока он писал, сказала мне:
– Вот мы здесь сидим, разговариваем, читаем стихи, а в Туле вот такое музыкальное училище, – и с брезгливостью повела плечами.
20 октября 63 • Была у нее утром, одна. В 12 часов. Опять помешала «творческому часу», опять недолго сидела на кухне, опять она встала, оделась, но не могла причесаться сама. Опять Ханна Вульфовна причесала ее и мгновенно принесла завтрак. Опять я порадовалась умной, умелой заботе.
В разговоре Анна Андреевна с благодарной нежностью поминала о Бродском: «Иосиф воды натаскал… Рыжий печку истопил».
Снова я – безо всякого успеха! – настаивала: идемте гулять! Ни за что! Кротость, тихий голос – «спасибо вам», «завтра уж непременно» и упорная непокорность. Тем же тихим и кротким голосом снова сделан был упрек мне, – в том, что я не поняла «Красотку». «Значит, вам и весь цикл из семи непонятен». Ладно, пусть непонятен. Я перечить не стала, хотя непонятно мне только одно стихотворение.
Опять – разговор о Солженицыне. Почему не дал ей свою главу про тюремные свидания? Я ответила: «Быть может, случайно». Она рассердилась.
– Это не такой человек, чтобы делать что-нибудь или не делать чего-нибудь – случайно. Я тоже.
Я повторила, что, судя по прочитанной мною главе, роман не имеет ничего общего с «Реквиемом». Другое десятилетие, другой замысел – и свидания другие.
– Все равно. Не дал, и ни словечком не обмолвился, что работает на том же материале.
(Да не на том же, Господи! Свидания тридцать седьмого и свидания сороковых – это разный материал. А вообще о наших тюрьмах и лагерях, о встречах и о «невстречах» много еще будет писано. Ведь не всех расстреляли, не всех уморили холодом, голодом, карцерами и трудом – многие вернулись и кое-кто будет писать.)
Анна Андреевна продолжала сердиться.
– «Скажу без ложной скромности» – помните это выражение у Льва Толстого? Помните? Перечисляя лучших русских прозаиков, он назвал среди них и себя, оговорив: «скажу без ложной скромности»… Мы с вами, Лидия Корнеевна, скажу без ложной скромности, создали новый жанр – отражение тогдашних событий. Все, что будет написано после – будет уже не то. Мы писали не пост-фактум, а о тогдашнем тогда же60.
Да, конечно. Тогда о тогдашнем. А Солженицын написал позднее и о более позднем. Ну и что же? Ведь и более раннее и более позднее необходимо запечатлеть. Затем, меня удивило, почему Анна Андреевна, обычно столь острая и точная в своих определениях, в этом случае столь не точна. «Мы с вами, Лидия Корнеевна, создали новый жанр». Это «мы с вами», разумеется, лестно для меня, но почему же новый жанр? Новая жизненная ситуация – та, которую и в мыслях своих человек не смел выразить словами, выговорили в искусстве мы. Да, это так. Да, это моя гордость. Но жанр? И поэма «Реквием» жанр не новый (до «Реквиема» была поэма «Двенадцать», цикл отдельных стихотворений, тесно спаянных между собою, развивающих фабулу и потому именуемый поэмой), а уж моя «Софья Петровна» это типичная, вполне традиционная повесть! никакой не новый жанр. Материал, правда, так же как и у Анны Андреевны совершенно новый: тридцать седьмой год, ежовщина – и не столько самый застенок изображен мною (на это я и не покушалась), а поврежденная застенком психика людей на воле, степень их ослепленности – ложью газет и радио, верою в газеты и радио, в кровавые фальшивки показательных процессов. Непостижность тридцать седьмого года для рядового – и даже не рядового! – разума. Непостижность, вызванная его бессмысленностью (а разум искал смысла – и, не находя, люди теряли разум) – вот что я обозначила именем «Софья Петровна»… Ново? О, да. Так. Ново, но не в жанровом отношении.
Я молчала, сознавая, что новый ли жанр или новый материал, а это все равно не объясняет скрытности Солженицына перед Анной Андреевной. Обижена же она именно на его умолчание. Я не знаю, но думаю, что он человек вообще скрытный. Лагерь не обучает откровенности.
Не дождавшись от меня никакого ответа на свой вопрос, Анна Андреевна выдвинула ящик стола – достала еще одну папку и принялась, листок за листком, вынимать оттуда написанные от руки и на машинке стихи. Одно за другим она прочитывала стихи вслух, не называя авторов. Это все были разные стихотворения, посвященные ей. Известным мне оказалось лишь одно – Самойлова61. Остальных я никогда не читала и не слыхала: стихи Ахмадулиной, Толи Наймана, Володи Муравьева и еще чьи-то, забыла – чьи. Понравились мне, кроме самойловского, два стихотворения: Наймана и Муравьева.
О стихах Наймана я сказала: «Это поэт». О стихах Муравьева: «Тоже, может быть, поэт».
Анна Андреевна осталась мною довольна. О Толе она отозвалась так:
– Правда, он хорош? А его никто никогда не замечает. Он пишет уже многие годы – никто никогда. Словно нет его. Знаете, бывают такие судьбы.
(Знаю. Бывают.)
О Муравьеве:
– Если окажется, что он, кроме всего прочего, еще и поэт – то, стало быть, он – человек-чудо. Чего только он не знает, чего не изучил! Познания удивительные. И всего двадцать три года – вы подумайте!62
Анна Андреевна спросила у меня, хорошо ли мне здесь работается? Я сказала: нет, плохо работается. Мешает близость Куоккалы. Соблазн. Каждый день я решаю: ехать мне туда снова или не ехать? Снова въехать на минуту в свое детство или поберечь – его, себя? Затем, как ни странно, писать о Герцене мне сильно мешает сам Герцен. Все выписки сделаны, последовательность моей книги продумана, вообще – садись и пиши. Но мне мешает Герцен. Открою ли я «Былое и Думы» для проверки какой-нибудь даты, какого-нибудь факта, открою ли письма к детям – к Саше, к Тате – или письма к Огареву, или «Письма к противнику», или «Письма к будущему другу», «К старому товарищу» – я снова погружаюсь в глубину этой сверкающей прозы и, вместо того, чтобы писать, – читаю, проваливаюсь в бездонность. Ну вот как проваливаешься, взяв на минуту «Войну и Мир»: хочешь, скажем, посмотреть рисунки Пастернака, перелистываешь, но опять Наташин первый бал, опять смерть князя Андрея, опять Пьер требует от Анатоля Курагина Наташины письма… Вот так же у меня и с Герценом: Тату и Сашу я знаю не хуже, чем Николеньку или Наташу Ростовых, а смерть близнецов ранит не менее больно, чем смерть Болконского. С трудом отрываюсь я от перечитывания, чтобы писать. А зачем, спрашивается, писать, если читать гораздо увлекательнее, да и полезнее?
Анна Андреевна слушала, не спорила, но по глазам ее было заметно, что относится она к моим рассуждениям о Герцене иронически, или, в лучшем случае, снисходительно – как к словам человека, слегка поврежденного. Что уж тут поделаешь – спросила, приходится слушать. И снисходить. Мало ли какие бывают у человека бзики!
Потом я сказала, что перечла книгу Лидии Гинзбург (о «Былом и Думах») и переменила свое прежнее мнение. Раньше я была несправедлива к этой работе. Жаловалась когда-то Анне Андреевне: скучно. Теперь я вижу – я была неправа. Работа отличная, множество новых, собственных наблюдений. Но все-таки книга и в теперешнем моем восприятии страдает существенными недостатками: она, как бы это объяснить? не наклонена ни к автору, ни к нашему времени. Вне времени, вне герценовского трагического пути, вне всякой «сверхзадачи». Автор ничего о нас этим не хочет сказать и ничего о себе не хочет сказать.
Анна Андреевна оживилась.
– Полная противоположность Пушкину. Пушкин, о ком бы и о чем ни писал, – всегда говорит о себе. О Радищеве – это о себе, о Мильтоне – о себе63.
Я снова попыталась упросить Анну Андреевну выйти на воздух. Нет. Она снова порылась в той же папке и вытащила еще чьи-то стихи. Протянула мне. «Читайте про себя». Я прочла. Патетично, лживо, слащаво, сусально, казенно. Стихи о ленинградской блокаде. Весь набор пошлостей, наговоренных о блокаде Ленинграда в печати. Этакий бездушный концентрат.
– Противно, – сказала я.
Анна Андреевна подхватила с неожиданной энергией.
– Правда, мерзость? И ложь. А о блокаде надо писать только правду, одну правду, всю правду – как о лагере. Для меня, представьте себе, обе темы эти родственные: лагерь и блокада. Я блокаде не умиляюсь. Я ее ненавижу, как ненавижу ежовщину, как все, что делал Сталин. Это ведь тоже он, не только Гитлер, даже гораздо больше он, чем Гитлер… Для спасения людей, Царского, Павловска – город надо было отдать. Да, да, не удивляйтесь: отдать. Тогда не умерли бы сотни тысяч… Версаль сохранился. Париж не вымер – и снова он французский, не германский64.
Что в блокаде Ленинграда, в гибели сотен тысяч людей повинен не только Гитлер, но и Сталин – эта мысль для меня не нова. Но – отдать? Отдать Ленинград? Что подумала бы та же Анна Андреевна в Ташкенте, если бы мы тогда услыхали по радио: «Наши войска оставили город Ленинград»? Не подумала бы, а почувствовала бы и как зарыдала бы!
Потом Анна Андреевна рассказала об одной знакомой даме:
– Она явилась ко мне в 46 году. Протягивает какие-то две бумажонки. «Комендант города посылает вам два билета на завтрашнее утро в гавань. Там будут вешать двоих немцев». И очень настаивала, чтоб я шла. (Это уже от себя.) Я ей ответила: «Не сомневаюсь, что эти несчастные люди совершили ужасные преступления, и кара, которая их постигает, заслужена. Но я-то за какие преступления должна это видеть?»
По дороге домой я все думала: неужели следовало, можно было, нужно было – отдать Ленинград? Да, сотни тысяч не вымерли бы от голода. Кольцо удава не задавило бы их. Но что сделали бы с населением немцы? Не знаю, как в Париже, а знаем ведь мы, что́ они вытворяли в наших городах, деревнях, поселках, селах!
Сталин же всегда Ленинград ненавидел, всегда, прямо или исподволь, расправлялся с ним. Он издавна считал его соперником Москвы, да и две охранки соперничали. Вспомнить хотя бы организованное им убийство Кирова, безвинно расстрелянных и высланных после этого убийства, вспомнить тот же тридцать седьмой, когда тысячи ленинградцев объявлены были террористами.
Насчет участия Сталина в блокаде сомнений нет – но – отдать Ленинград? Гитлеру?
Не знаю.
21 октября 63 • Корнилова нет, уехал, а мне вечером к Анне Андреевне. С кем же? Тут милая наша, полюбленная еще с редакционных маршаковских времен, Анна Абрамовна. Она обрадовалась, когда я попросила ее проводить меня к Анне Андреевне («это моя мечта… увидеть ее… хоть издали») – но когда я сказала, что надо будет непременно войти вместе со мною в Будку и увидеть Анну Андреевну отнюдь не издали – «нет, ни за что! ни за что!». И тут я вспомнила, какой застенчивой была она всегда, с юности. Тогда, когда впервые пришла работать в редакцию. И как медленно к нам привыкала.
Однако мне удалось ее уговорить. То есть попросту она поняла, что и без нее я пойду все равно, пойду одна, а это, из-за толкотни у железнодорожных путей, по вечерам опасно.
Пошли. На дверях большой белый лист. Анна Абрамовна прочла мне вслух: «Я у Гитовичей». Карандашом написано, и почерк – я взяла в руки и вгляделась – не ахматовский.
Дача Гитовичей – на том же участке, шагах в двадцати.
Мы поднялись на чужое крыльцо. Я постучала. Вышла женщина – наверное, жена Гитовича, Сильва, а за нею сразу же Анна Андреевна в белой шали. Повелительно: «Идемте ко мне». Сильва вела ее под руку. Они первые взошли на крыльцо Будки. Сильва вертела ключом в замке́ – дверь долго не впускала их. А мы стояли поодаль, ожидая. Анна Абрамовна внезапно бросилась мне на шею. Я от неожиданности попятилась. «Что с вами?» – «Я видела ее, я ее видела! Спасибо вам!» – повторяла она. Господи, какая она еще молодая!
Дверь, наконец, открылась. Анна Андреевна вошла в дом. Сильва – к себе. Я схватила Анну Абрамовну за руку и втащила ее в Будку. Анна Андреевна ласково с ней познакомилась и попросила нас обеих сесть. Сама села за свой стол. Тут началось мучение: Анна Абрамовна не поднимала глаз. Сидела перед Ахматовой, глядя в пол. Поднимала глаза только тогда, когда Анна Андреевна обращалась не к нам обеим, а непосредственно к ней. Ответы – беззвучные, еле роняемые, – «да», «нет».
Я сказала, что сквозь полуоткрытую в доме Гитовичей дверь видела Литжи.
– Правда, красавица? – оживленно спросила Анна Андреевна и прибавила: – У нее восемнадцать медалей, а у меня только три65.
Рассмеялись. Стало на минуту проще, но Анна Абрамовна снова потупила очи.
Я попросила Анну Андреевну почитать стихи. Пусть новая гостья будет вполне счастлива, а я еще раз прослушаю «Красотку» – авось, пойму. Да, как я и ждала, Анна Андреевна снова прочла свой цикл из семи и, вероятно, в назидание мне, спросила у своей новой знакомой:
– Все понятно?
– Да, – подняв на секунду глаза, отвечала бедняга.
Я решила, что допрошу ее подробнее на обратном пути. Раз она поняла, пусть и мне объяснит.
Но я не надеюсь. Она умница, но весь вечер пребывала в столбняке.
Анна Андреевна между тем рассказала:
– На днях Бобышев принес мне розы. Их было пять. Четыре вели себя обыкновенно – постояли и увяли – но что выделывала пятая, это непостижимо для ума. Вела себя удивительно. Светилась ночью – только что по комнате не летала! Я ей сочинила мадригал, а потом, когда она все-таки осыпалась, положила ее в коробку и похоронила в саду… Мальчишки дразнятся, говорят, что мадригал неудачный. Ну что ж! Мадригалы вовсе не все и не всегда бывали удачны. Правда?[57]57
«Пятая роза» – ББП, с. 309.
[Закрыть]
Прочла. Неудачный! Я сказала, что хоть это и не соответствует моему полу и возрасту, но я в данном случае присоединяюсь к мальчишкам66.
Помолчали. Неожиданным и быстрым движением Анна Андреевна достала из стола и протянула мне очень странную тетрадку. Небольшие листки, наспех сшитые нитками. (Так я, случалось, наскоро сшивала себе тетради в военное время, когда тетрадей не было, а бумага редкость.) На первом листе выведено: «Сожженная тетрадь». А-а, значит это не просто ее выдумка «Стихи из сожженной тетради»! тетрадь существовала в действительности, существует и теперь! и совсем не сожжена. (А может, в свое время сожжена, а теперь возникла снова?) Я хотела перелистать несожженную, живую, но Анна Андреевна проворно вынула ее у меня из рук и сунула в ящик.
Новая гостья по-прежнему сидела молча, по-прежнему не поднимая глаз.
– Знаете, какую я задумала книгу? – весело заговорила Анна Андреевна. – Книгу по теории сплетни. И о том, как люди разговаривают, не слыша друг друга, и себя самих. Вы замечали? Это постоянно и у этого есть свои законы. Приведу пример: одна дама жалуется другой: «скоро зима, а у меня нет шубы». Другая отвечает: «я́ прохожу зиму в драповом». Правда, мило? Отвечая, не слышит себя. А вот вам пример на перенос ударения. Человек рассказывает о последнем открытии в науке: Иоанн Креститель – историческое лицо. Это доказано. Известно уже, где и когда он жил, ну чуть ли не до пещеры, в которой жил! с полной точностью. Собеседник слушает и отвечает: «Неужели вы верите в чудеса?»
Я сказала, что, по-моему, сплетни нередко создаются так: всякий человек воспринимает из слов другого не то, что другой говорит, а только то, что он, слушающий, способен понять. Стараясь пересказать вашу мысль третьему лицу, даже стараясь добросовестно, он переводит вашу мысль на свой язык. Ведь не только иностранцы говорят «на разных языках», а и люди одной родины, одного языка, но разных поколений, разных социальных слоев, разного личного опыта. И вы, в пересказе собеседника, собственной своей мысли не узнаете… Другое словоупотребление делает и вашу мысль другой. Оттенок мысли, интонации. Наизусть же чужую речь редко кто способен запомнить. Так что сплетни иногда произрастают невинно.
– Да, люди чаще говорят на разных языках, чем это принято думать, – согласилась Анна Андреевна. – Вы правы, пересказ чужих слов это нечто вроде перевода на иностранный язык. Тщетно пытается переводчик передать оттенки чужой речи, а ведь в них все дело67. Я недавно перечитывала «Войну и Мир». Помните, Долохов, пропуская мимо себя французов, пленных, приговаривает: «Filez!». Толстой отмечает, что слову этому Долохов научился от них же, от французов. В этом комментарии – целая эпоха. «Filez!» значит: «давай, давай!» Конечно, гувернеры не обучали своих питомцев таким словечкам… А для нас этот оттенок вульгарности пропадает.
Потом:
– Но что делается в переводах под строкой! Я никогда никуда не хожу, но тут я готова пойти к директору издательства, чтобы ткнуть его носом в это безобразие. Итальянское спутано с латынью! Ошибка в каждой строке! Я готова идти и даже сидеть у него в предбаннике!
Потом:
– Вы знаете, я считаю неприличным делать замечания людям, если они неверно говорят. Неприличным и пошлым. Ничего не поправляю. Все переношу. Но вот «во сколько» вместо «в котором часу» или вместо «когда», – тут она задохнулась от гнева и дальше произнесла по складам, – я вы-нес-ти не мо-гу. И «мы живем в Кратово» вместо «в Кратове» – тоже не могу.
Я тоже. Но в отличие от нее совершаю пошлые поступки: ору на собеседника. Или спрашиваю: почему вы говорите «живу в Переделкино», а не в «в Переделкине»? С чего бы? Ведь русский язык склонен к склонению. Почему же вы не склоняете названий? Или почему бы тогда не говорить: «Я живу в Москва»?
Анна Андреевна спросила у меня, как поживает Александра Иосифовна. («Я всегда помню, что Александра Иосифовна сшила мешок для вещей… я шла на свидание к Леве».) Я ответила: Шура живет очень одиноко, кто из ее близких в тюрьме погиб, кто на войне; Тамара Григорьевна умерла; Самуил Яковлевич и я в Москве, я не рядом с нею, как раньше. К тому же она много болеет, а болеть в пустой квартире, без всякого ухода, в одиночестве, не только грустно, а и опасно. Одна!
– Марусенька Петровых говорит мне, – сказала Анна Андреевна, – «вы окружены морем любви». (И вдруг у нее, у Ахматовой, на лице промелькнула улыбка – прелестная, лукавая, шаловливая даже.) – Вы заметили? Я ответила вам по схеме, только что мною осужденной! «У меня нет шубы». – «А я прохожу в драповом». – «Александра Иосифовна хворает одна». – «А я окружена морем любви».
Она рассмеялась – над собою. Мне стало весело. Даже Анна Абрамовна позволила себе улыбнуться.
– А знаете, что со мной случилось недавно? – проговорила Анна Андреевна навстречу этой улыбке. Весело проговорила, даже шутливо. – Включаю я как-то мимоходом радио. Слышу вдруг свое имя. И м-сье André Jdanoff… Это французы передают, что китайцы передают, что Жданов относительно злодейки Ахматовой был совершенно прав, и напрасно ее стихи переиздаются сейчас ревизионистами в Советском Союзе. Вы только представьте себе: я одна и против меня 600 миллионов китайцев!
Анна Андреевна испуганно поежилась, помолчала и заговорила опять:
– Бедные китайцы! Они ведь еще живут до ХХ съезда, до Хрущева, еще при Сталине, Ежове, Берии. Никакой Солженицын еще не рассказал им во всеуслышанье про их лагеря. Наши ужасны, а каковы же китайские? Они ведь всегда идут след в след за нами, только еще чудовищнее.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?